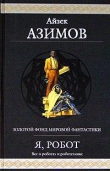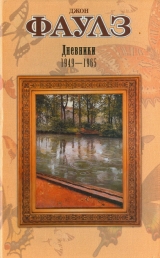
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 58 страниц)
И еще об Уайлере. Однажды он сделал сорок дублей одного несложного плана: мальчик идет по снегу.
– Господи, – взмолился наблюдавший за съемками продюсер, – они же все одинаковые.
– Жду, пока он споткнется, – отозвался Уайлер.
Обедал с Уильямом Уайлером в «Кларидже». Не могу сказать, что получил удовольствие: возможно, потому, что сам Уайлер слишком уж сложен и нетипичен, чтобы сбросить его со счетов как очередного из голливудских столпов, одержимых манией величия. В ресторане мы были одни, и нас обслуживали не меньше десятка официантов и метрдотелей, выстроившихся полукругом и безмолвно взиравших на нас с расстояния пятнадцать футов. Поскольку на правое ухо он глух и, обращаясь к нему, приходится чуть ли не кричать, атмосфера нашего обеда была столь же доверительна, как coucher du roi[787]787
Церемония в опочивальне короля (фр.).
[Закрыть] в Версале. В отеле типа «Клариджа» столь демонстративный сервилизм, разумеется, граничит с абсурдом, и его постояльцев впору заподозрить в чем-то похуже, нежели простое желание вышвырнуть деньги на ветер. Трудно сказать, чем в большей степени определяется образ жизни: роскошной обстановкой и пиететом со стороны окружающих или тем, во что первое и второе обходится. Натура Уайлера исполнена этих крайностей: то, подобно самому заурядному мелкому буржуа, он колеблется, выбирая к столу вино, как бы на ощупь прокладывая себе путь, не решается высказаться о том о сем, то внезапно демонстрирует высокомерие, «масштаб» в традиционно голливудском понимании. Ему присущ мягкий, закамуфлированный, но безошибочный вид высокомерия.
Судя по всему, от сценарной разработки он не в восторге и хочет, чтобы я заглянул в нее; я же подозреваю, что Джаду Кинбергу и Джону Кону это вряд ли придется по вкусу.
«Во имя чего умирает девушка? – повторяет он чуть ли не со стоном. – Публика наверняка задастся вопросом: “Да что случилось? С чего это она погибает?”»
У него изборожденное морщинами лицо и мягкий взгляд карих глаз, грустных, сомневающихся, словно взыскующих одобрения.
Днем раньше он обедал с принцессой Маргарет. Похоже, она сказала, что ей понравились «Римские каникулы» (основанные на ее романе с Таунсендом) и особенно – счастливый конец.
Уайлер: Счастливый конец, мадам?
М.: Ну она же в конце обрела своего избранника.
Уайлер: Но, простите, они же больше никогда не увиделись, мадам.
М.: Нет, увиделись. Я прекрасно помню.
Я больше не решился спорить, – поведал Уайлер со своей снисходительной улыбкой. – Так она поняла фильм, а ее избранник сидел как раз напротив.
Мой стихийный антироялизм раздражает его, как и большинство американцев. Я предложил ввести в фильм маленькую сценку. Клегг повесит у себя в подземелье дешевенький цветной портрет королевы и Филипа Глюксбурга[788]788
До того как принять британское подданство, принц Филип носил династический титул Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбург.
[Закрыть], а девушка, разумеется, снимет его, как только увидит.
О нет, запротестовал Уайлер. – Как вы думаете, что скажут люди, на глазах которых это чудовище вешает на стену портрет вашей королевы, а девушка его снимает?
Бедняга Том Пейн, не перевернуться бы ему в гробу в наши дни.
4 февраля
Занятная маленькая брошюрка о Гарди, написанная его бывшей горничной («Частная жизнь Томаса Гарди», Тьюкан пресс, Биминстер, 1963). Для того чтобы в наше время уверовать в неизбывную грусть Макса Гейта, ее надо увидеть вот такими простодушными глазами. Per ardua ad atra[789]789
Через упорный труд – в глубины! (лат.)
[Закрыть].
Стоит мне сесть на автобус или на поезд, меня неизменно начинают обуревать экстремальные фантазии: я чувствую, как меня запирают, обрекая на вечное нахождение с другими. Вот почему Я так нелюдим. Срабатывает механизм, против которого я бессилен. Равно как и во всех моих эротических фантазиях, сводящихся к одной: подвалу, необитаемому острову, застрявшему в снегах автомобилю.
5 февраля
Странная зима: который уж день почти безоблачно, погода больше напоминает конец марта. В одиночестве я прошел «нашим» маршрутом из Вендовера через Хамденлиф-Вуд в Миссенден. Ветер холодный, но, заслонившись от него, можно сидеть и читать. Последнего я не делал, поскольку читать мне было нечего, кроме последнего выпуска «Энкаунтера», столь же перегруженного банальностями и глупого, как всегда. Интеллектуально-литературная сцена в этой стране смертельно больна: ее разыгрывают с маленькой кружечкой пива, ныне еще и прокисшего.
Но вдали от города очень чисто и ясно. Жаль, что после невероятных холодов этой зимы не видно птиц[790]790
Зима 1963 г. выдалась одной из самых холодных на памяти нынешнего поколения Великобритании.
[Закрыть]. Вороны и дрозды пережили ее благополучно. Два или три косяка зябликов, в одном не меньше сотни. Услышал зеленушек, видел пару больших синиц. Одну черную синицу. Очень много синих и, на удивление, луговых – увидел семь или восемь. Не длиннохвостых тем понадобятся еще годы, чтобы восстановить поголовье. Множество завирушек. Слышал одного поползня. Но совсем нет дятлов. Нет щеглов. Нет жаворонков. Нет коньков. Нет ястребов. Нет голубей.
На кусте боярышника, поклевывая почки, сидел, горделиво выделяясь в безоблачно-голубом небе, снегирь. Сочный мягкий кармин на насыщенном голубом фоне. В такие моменты перехватывает дыхание.
Видел, как человек выжигает землю: в рыжую солому натянутой тетивой вгрызается язык огня, а позади тянутся туманные сине-зеленые холмы, ввысь ползет серо-белый дым, и слышится прожорливое потрескивание. Этот зловещий звук долго преследовал меня, когда я удалился в глубь леса.
А в самой глухой чащобе натыкаюсь на зайца.
Так проходил весь день, не увидев ни души. В пять вечера возвращаюсь в Лондон, люди идут с работы, деловые кварталы, автобусы, неоновые огни, городская сторона жизни. Ни одному веку, кроме нашего, неведом столь страшный разрыв между этим миром и миром не знающих возраста зимних деревьев.
28 февраля
«Аристос». По-прежнему в плену у издательства «Кейп». Энтони С. уверяет, что другой экземпляр рукописи все еще не дошел до Нью-Йорка. По его мнению, он «похоже, потерялся». Я в отчаянии.
Ларкин «Свадьбы на Троицу». Слава Богу, Ларкин – английский поэт, а не просто поэт, пишущий на английском. Без особого удовольствия ощущаю в самом себе ту же непроходимую меланхолию; в ее основе наверняка тоже издержки климата. Но есть, конечно, и нечто приятное: милая мрачноватая приглушенность английской провинции, блюзы неосвещенных переулков, вездесущая, физически осязаемая бренность бытия. Очень характерное для Ларкина умонастроение: все на свете плохо, но – как видно из последней строфы – не так безнадежно, как я описываю. Это очень по-английски. Наш пессимизм – как скорпион, кусающий собственный хвост.
2 марта
Тому Н. «очень нравится» «Аристос». Он полагает, что «Кейп» его опубликует. Потеря рукописи, отосланной в Америку, и вялая реакция на книгу здесь удручают. Мне уже пора с головой погрузиться в «Волхва», но нет сил: я слишком выдохся. Прошедшая зима была тоскливой: умеренной и бесконечной. А когда работаешь на себя, испытываешь самые разнообразные трудности: тоску, недостаток движения, творческую неуверенность, самоизолированность, отсутствие режима дня. Мы ложимся спать в разное время, поднимаемся не раньше десяти, обычно позже. «Коллекционер» не оставляет меня в покое, и это раздражает. Последние два дня убил на чтение позднейшей голливудской «разработки». Она гораздо лучше, чем та, какую я видел в августе. Но ненавижу себя за то, что вновь погружаюсь во все это.
10 марта
Звонок из Голливуда: Джад Кинберг. Хотят, чтобы я прибыл туда на две недели. Лечу в субботу.
Текст «Аристоса» в Нью-Йорке. Бах настроен оптимистически[791]791
Джулиан Бах был литературным агентом Дж. Ф. в США.
[Закрыть].
Америка. 16–31 марта
Лос-Анджелес. Серебристо-розовые башни в вечернем, оттенка меда, воздухе. Пальмы. Высоченные деревья, изобилие листвы и зеленых газонов. Вверх и вниз по шоссе безостановочно струится гигантская мощь: повсюду типично американский способ ускоренно передвигаться; этот темп покоряющего пространство воздушного лайнера чувствуешь и тогда, когда молодой человек переходит улицу или проектируется модель стула: даже неподвижным предметам присуща здесь упругая, пружинистая динамичность.
Джад Кинберг – в своем обычном амплуа радушного еврея: без конца говорит об Уайлере и его «хунте» (советчиках и консультантах), о схватках на сценарном поле, о проблемах Саманты Эггар и о проблемах, возникших с ее появлением.
Меня с комфортом разместили в отеле на Сансет-стрип, в номере с видом на юг, из окон которого открывается весь Лос-Анджелес. Ночью он великолепен: это бесконечные гроздья алмазов, поблескивающих во влажном воздухе, как в чистом масле, вспышки зеленого, красного, синего, желтого, белого, сверкающие цепи, гирлянды, башни света, уходящие в едва уловимую взглядом даль. Вот она, безумная, богатейшая женщина подлунного мира – Америка, искрящаяся в дерзновенности своих порывов, в неправдоподобности своего изобилия.
Стены номера окрашены в горчично-желтый цвет, мебель – в стиле какого-то из Людовиков. Стеклянная раздвижная дверь ведет на балкон, окаймленный решетчатой оградой, наводящей на мысль о чем-то вроде мальтийского креста. Веселенькие голубые перегородки отделяют его от соседних балконов. Корзина фруктов за счет заведения. Встроенный в ночную тумбочку радиоприемник, телевизор, кондиционер, ванная с бесчисленными кнопками и ручками. Этот повседневный комфорт вгоняет в уныние своей доступностью; к концу суток становится раздражающе привычным, словно шлюха, которая делает свое дело, не потрудившись взглянуть на клиента.
Утро. Просыпаешься в несусветную рань под пение птиц, похожих на дроздов, только гораздо крупнее; слышишь девичий голос гостиничного сервиса, приветливый и обезличенный, как таблетка сахарина («благодарим вас за звонок, будем рады, если вы к нам еще обратитесь»); реплики, как и пение птиц, словно сходят с конвейера или магнитной ленты. Освежающее разнообразие привносит лишь чириканье ненароком залетевшего воробья.
Завтрак. Кофейник с электронагревателем и автоматический медосборник.
В одиночестве направляюсь в номер С.Э. – знакомиться. Она – худенькое создание со светло-зелеными глазами, без грима, с роскошными рыжими (некрашеными) волосами; и не слишком хорошенькая, ибо не излучает ровно никакой жизни. Я ожидал встретить кого-то гораздо энергичнее, но при виде этого безжизненного существа почувствовал непритворную жалость. Что-то непредвиденное (так мне позже сказали) произошло накануне ночью в номере Питера Селлерса: с Сам вроде бы кто-то «плохо себя повел». Что бы там ни произошло на самом деле, держалась она так, будто стала жертвой лобового нападения.
Я прошелся по комнате, а она вглядывалась в меня с дивана глазами, в которых попеременно сменяли друг друга испуг и скука. Обмениваемся вежливыми банальностями. Коридорный приносит ей яблочный напиток, мне – бокал пива. Усевшись рядом с Самантой, пытаюсь растопить лед взаимонепонимания; безуспешно.
Она так далека от Миранды, какой я ее вижу (и не я один), что невозможно вообразить, чего сможет добиться с ней Уайлер. В ней, внешне да и внутренне, начисто отсутствует главное: жизнь, ум, воля к существованию. С другой стороны, в пользу ее кандидатуры на роль свидетельствуют особенности биографии: разведенные родители, папаша-генерал, два года, проведенных в художественном училище (отец не хотел, чтобы она стала театральной актрисой), связь с человеком гораздо старше годами; и все-таки жизнетворной искры не ощущается.
Две вещи, глубоко порочные в деятельности Голливуда, – избыток денег, сверхприбыли, вылетающие на ветер, и убежденность в том, что шоу-бизнес и искусство – одно и то же.
Всю ночь пылали пожары и дул местный мистраль (здесь его называют Санта-Ана); с раннего утра над городом нависает огромное дымное облако. Оно зловещего розоватого цвета, хоть и издает приятно щекочущий запах горелой листвы и дерева. С лица земли исчез тридцать один дом, а телевизионный оракул нагородил уйму ерунды о том, что Лос-Анджелес – все еще приграничный город, а калифорнийцы – народ фронтира. «Конечно, мы уже не носим ружей и оленьих курток, но…» Типично американский вид трепа. Мысль о том, что Лос-Анджелес – приграничный город, глупа до беспредельности.
Весь день в воздухе порхает пепел; от него слезятся глаза. Секретарша Джада при мне говорила в студии по телефону подруге;
– Слушай, сегодня пожары хуже некуда. Глаза у меня прямо вылезли.
А Джону Кону кто-то рассказал о человеке, который «выбросил в бассейн все столовое серебро»; здесь это, похоже, в порядке вещей. Как в Помпеях, вечно предощущая очередное разлитие лавы.
Мимо бесконечных пальм, автостоянок, кричащих фасадов кинотеатров и луна-парков Джон Кон ведет меня по студии. По виду она напоминает испещренный дырами ковер, а по ощущениям – фабрику. Масса техники, обилие механизмов и разного рода приспособлений; невольно задаешься вопросом, есть ли здесь место искусству. Когда мы наконец вошли в большой павильон и остановились в самом его центре на съемочной площадке «Коллекционера», она показалась каким-то маленьким ядрышком внутри на удивление большого ореха. Это единственный фильм, какой в настоящее время снимает здесь «Коламбиа».
Подземелье, которое они выстроили, напоминает могильный склеп в какой-нибудь часовне XIII века; уверовать в его подлинность невозможно. Ко всему прочему, меблировано оно с неуклюжей претензией на роскошь – то ли в расчете на пародийность, то ли, как закрадывается подозрение, в соответствии с голливудским представлением о том, как должно выглядеть уважающее себя меблированное узилище. Я обошел его, перечисляя недостатки интерьера. На критику здесь никто не реагирует – во-первых, из нутряного профсоюзного инстинкта (в глубине души любой голливудец убежден, что каждый должен делать свое дело, не вмешиваясь в компетенцию других), а во-вторых, в силу откровенного неумения вникать в суть проблемы. Все делается в обстановке аврала, или по крайней мере возникает такое впечатление. Едва ли не самая настораживающая особенность здешнего производственного процесса – отсутствие того непрофессионального, любительского энтузиазма, из которого в конечном счете вырастает любое большое искусство: стремления сделать больше, чем предусмотрено, отказа идти на компромисс и прочего в таком духе. На обратном пути в разговоре Терри и Сам прозвучало: «Теперь будем снимать в английском павильоне. Увидимся на площадке». И стало ясно: вся нескончаемая мельтешня и суматоха по поводу не столь уж сложных вещей, по существу, сковывает, а не высвобождает творческие силы.
Мы: Уилли Уайлер, Сам, Джад, монтажер Боб Суинк, Джон Кон, Терри и я – расселись за длинным деревянным столом в углу. Терри просто прекрасен: это замечательный, ловящий все на лету и моментально соображающий парнишка из кокни, восприимчивый и напористый. На репетиции первого эпизода я заметил, что, на мой взгляд, он даже чересчур напорист, и результат не замедлил сказаться: он тотчас же повторил все свои реплики уморительно монотонным голосом. У него то и дело появляются новые идеи, он пробует реплики на слух; в отличие от бедняжки Сам, лепечущей свое тоном робкой студентки, голосом он владеет виртуозно. Судя по тому, как он приходит ей на помощь, Терри – идеальный партнер в проработке диалогов. И тем не менее у нее сплошь и рядом проскальзывают фальшивые нотки, неправильные логические ударения, а единственное, что всем нам нужно: выражение заинтересованного участия – так и не появляется. Когда надо показать вспышку гнева, она демонстрирует каприз неопытной дилетантки; когда героиню снедает неподдельная печаль, в ее голосе появляется патетика, уместная разве что в лентах категории «Би». Печально, но факт: на нынешнем своем уровне она – старлетка фильмов именно этой категории. Терри переигрывает ее буквально во всем, а она взирает на сыплющиеся из него находки, на его мимику с восхищением маленькой девочки.
Но самый большой недоумок, конечно, Уилли. Половину того, о чем идет речь, пропускает мимо ушей, а потом вклинивается, комментируя то, о чем уже все успели позабыть. Многие из «ощущений» по поводу развития сюжета просто абсурдны. Так, девушку непременно надо похищать днем, когда она выходит прогуляться. «Чего-чего, а ночных съемок я делать не буду». Когда что-то отвлекает его внимание, Кон обводит сидящих за столом ненавидящим взглядом: видите, мол, я всей душой против этого. Боб Суинк, один из членов уайлеровской «банды», посмеиваясь, кивает: «Согласен», – и не привносит от себя ровно ничего. Не то чтобы метод Уайлера был совсем уж никудышен; он, мне думается, попеременно смахивает то на Румпельштильцхена из сказки братьев Гримм, то на Сократа: дремлет-дремлет, а время от времени попадает прямо в яблочко. И безошибочно устраняет из диалогов все лишнее. И в конце концов это выводит из себя Терри и Сам: она выглядит усталой и скучающей, а Терри начинает крутить динамо, по-идиотски, с акцентом Томми Стила, принимаясь произносить реплики, с невозмутимым видом продолжая смотреть в лицо Уайлеру.
Когда съемочный день закончился, я уединился с Терри в машине Сам и втянул его в долгий разговор. Чем лучше я его узнаю, тем больше он мне нравится. Он рассказывал о ней («Мы ведь, знаете ли, с ней жили. Не забавно ли: она постоянно исправляла мое произношение»). Он хотел, чтобы его партнершей была Сара Майлз.
– На пробах я проиграл с ними обеими один и тот же эпизод. Сара была великолепна, Карл Форман так и сказал Франковичу, но тот и слышать не хотел.
Терри также считал, что роль Миранды могла удаться Джули Кристи.
Вечер провел с Джадом: ищем квартиру для Сюзанны. Надо поставить его в известность о том, что Сам ненавидит Сюзанну, а к нему самому относится с недоверием. Это не просто, поскольку он принимает новость близко к сердцу; но, с другой стороны, здесь едва ли не все обитают в тумане ошибочных представлений об окружающих. И в центре этого тумана Сам, чьи холодность, недоверчивость и страх перед всем и вся – на грани патологии. У нее странная привычка смотреть на вас без малейшего выражения: черта с два удостоитесь вы у нее какой бы то ни было ре акции. И так она обходится решительно со всеми.
Теперешняя любовница Терри – очень миленькая француженка Анни Фарже, лидирующая субретка на здешнем телевидении. Он в своем репертуаре: на людях обходится с ней по-свински, в лицо называя «моей французской подстилкой», а она в ответ только морщит свою обезьянью мордочку и награждает его поцелуем. Терри живет в согласии с каким-то неведомым, им самим изобретенным стилем существования: несет все, что приходит в голову, делает что вздумается, словно Гамлет, только без невротических угрызений: неизменно в белой рубашке, без галстука, напружинившись, оседлав гребень волны.
Жуткая проблема с американским английским. Уилли напрочь отвергает все, что недоступно восприятию среднестатистического американского дебила. Сегодня остракизму подверглось: «Ясень высотой в фут – тоже ясень». В сценарии была реплика (принадлежащая Пастону): «Я сделал это, дабы навсегда изгнать тебя из своей жизни».
– Навсегда изгнать, навсегда изгнать, – передразнил Уилли. – Кому, спрашивается, под силу это выговорить? Надо перефразировать.
Предлагаю: «Я сделал это, чтобы вынести тебя за скобки моего существования». Да, вроде в самый раз. А Уилли без конца повторяет:
– За скобки, за скобки, ЗА СКОБКИ. Странновато звучит.
Спустя двадцать минут приходим к соглашению, остановившись на: «Я сделал это, чтобы выбросить тебя из головы». Все, решительно все должно быть сглажено до абсолютной банальности.
Телефонный звонок из Бостона – от Неда Брэдфорда. Он готов публиковать новую книжку. О ее содержании соизволил осведомиться сотрудник рекламного отдела компании «Коламбиа». И что же: пришлось по буквам диктовать ему слово «экзистенциализм».
– Господи ты Боже мой, – отозвался он.
А тем же вечером еще один звонок – из Нью-Йорка. Джулиан Бах. Очень обходителен, брызжет оптимизмом по поводу книжки да и по поводу всего остального. Какими же освежающе здравомыслящими, уравновешенными, вообще европейскими кажутся американцы с Восточного побережья, когда пообщаешься с жителями этого города, вечно твердящими «вряд ли» и никогда не говорящими, что они на самом деле имеют в виду.
Только что дочитал последний вариант сценария. В него опять вставили кучу ерунды, выброшенной из прежних. Он намного хуже, нежели тот, что я читал в феврале. С ума сводят бесконечные зигзаги от плохого к лучшему, а затем к еще худшему; из-за них начинаешь сомневаться в серьезности всего, что здесь происходит. Любая проблема заговаривается до такой степени, что в итоге ровно ничего определенного не остается: perpetuum mobile[792]792
Вечное движение (лат.).
[Закрыть].
На студию сегодня утром меня везла Сам: Джон Кон с само-го утра отбыл обсуждать что-то с Уайлером. Спускаемся, и тут вдруг выясняется, что ее машины еще нет у подъезда. Актриса внезапно впадает в бешенство:
– Я хочу, чтобы впредь мою машину подавали вовремя.
– Прошу прощения, леди, – отвечает швейцар, – в это время дня на улицах пробки.
– Пробки ли, нет ли, знать ничего не желаю. Моя машина должна быть наготове, когда я скажу. – И хлопает дверцей чуть ли не в лицо ему.
Не кипятись, – говорю, мельком глянув на нее.
Не тут-то было. По пути на студию она безостановочно лопочет о Терри.
– Он не хочет со мной разговаривать, за все эти дни не обменялся со мной ни словом.
По ее мнению, на роль Клегга он вряд ли подходит.
– Столько людей говорят, что я прямо создана сыграть Миранду.
Это уж слишком; не выдержав, вперяю в собеседницу озадаченный взгляд. Но разве она признает, что кто-нибудь, за вычетом ее самой, имеет представление о том, что хорошо, что плохо?
– Эта роль так важна для моей артистической карьеры.
Сегодня она привлекательнее, чем обычно, но человеческого в ней не больше, чем у манекена в витрине магазина.
Уайлер долго и нудно объясняет, затрачивая на каждое, сколь угодно краткое, предложение не меньше минуты, почему считает необходимым изменить концовку фильма. Речь заходит об эпизоде «Двойное подземелье» (здесь каждому из эпизодов присваивают название: «Заявление», «Тетя Энни», «Уиткомб», и этими названиями перебрасываются, как камешками).
– В финале девушка должна перехватить у него револьвер. Людям не нравится, если в конце вооруженного мужчину не обезоруживают.
По существу, серое вещество Уилли оперирует на уровне вестерна: Шейн не может не восторжествовать.
У него – нос ярмарочного Панча и карие влажные, беспокойно бегающие глаза; как у сурка или другого маленького зверька, они вечно выжидают, взыскуя то вашего одобрения, то минутной слабости. И вот наступает момент, когда он может показать характер, задрать нос. Обычная для режиссеров с его известностью неприступность, внушающая людишкам помельче в киноцехе священный трепет, на первый взгляд совершенно ему не свойственна; и все же время от времени, когда нужно одержать тактическую победу, она проступает наружу. Он слегка напоминает мне Квига в «Бунте на “Каине”» – того самого полубезумного-полугениального капитана, которому в свой час засветит военный трибунал.
К настоящему моменту фильм влетел в два миллиона долларов – иными словами, оказался ровно на полтора миллиона дороже, чем предполагалось.
Поведение Терри на съемочной площадке не перестает тревожить: изображая лихорадочную «деятельность», он ни минуты не стоит на месте. Но этот Джеймс Дин из кокни играет, призывая на помощь все тонкости Метода, временами делая своего героя до невозможности обаятельным. Невольно думаешь, сколько девушек отдали бы все на свете, чтобы оказаться наедине с ним в подземелье.
Всю вторую половину дня Джон, Джад и я просовещались, то и дело прерываемые реквизиторами, костюмерами, актрисой, играющей тетю Энни, исполнителем роли дяди Тома Коббла и прочими. Пытаюсь привнести хоть малую толику смысла в декорации и оформление, но безрезультатно. Вся задействованная бытовая техника – на удивление неанглийская; мебель – вопиюще неанглийская; да и костюмы не лучше. Что до английского художника по костюмам, Джона Столла, то он – пустое место.
На всех сценарных совещаниях громче всего звучит голос Джона Кона: он лидирует, оспаривает собеседников, фонтанирует идеями. Он – что-то вроде генератора, непрерывно излучающего энергию: его голосовые связки напрягаются без устали, а у Джада, напротив, бывают страшные спады настроения; в результате оба без конца цапаются друг с другом. Тем не менее здешние посиделки, столь же нудные, как и те, что имели место в Лондоне, все-таки чуть более результативны. В ходе их кое-что действительно заносится на бумагу и решается. Само собой, не исключено, что все сегодняшние придумки Уилли завтра же утром спустит в унитаз. Оба моих молодых соавтора одержимы несбыточными замыслами – несбыточными в практическом плане, и мне приходится тратить долгие часы на то, чтобы свести их к нулю. Это не значит, что мне приходится что-то доказывать, – нет, я побуждаю оппонентов обосновывать их точки зрения с такой мерой детальности, будто в самом деле настолько туп, что не понимаю самоочевидного.
В ритме всех этих сценарных обсуждений есть что-то, напоминающее тиканье счетчика: мысли облетают стол на таких скоростях, что зачастую я безнадежно отстаю. Поначалу это очень впечатляет, но потом начинаешь сознавать, что в основе – полное абстрагирование от сюжета и персонажей как живого организма. Будто речь идет о цветах, и одна группа спорящих видит в них просто цветы, а другая – всего лишь реквизит.
Когда Уилли собирается высказать нечто, могущее вызвать особые сомнения, он оборачивается к монтажеру Бобу Суинку и весомо закругляет:
– Правильно?
На что Боб Суинк немедленно отфутболивает:
– Правильно!
Кон тяжело вздыхает, а Уилли переворачивает страницу
Вот, разбирая эскизы студенток художественного училища – возможные прообразы рисунков Миранды, Уилли изрекает:
– Какого черта, возьмем вон ту, с большими титьками.
И единственное, что позволяет заподозрить, что он всего лишь провоцирует собравшихся, – предательская обезьянья ухмылка, которая через секунду или две пробежит по его губам.
– Мы написали новый эпизод, Уилли, – на полном серьезе заявил позавчера Джон Кон.
– Да? – откликнулся Уилли. – А нового режиссера пригласить не забыли?
Терри шепчет мне на съемочной площадке:
– Если они изменят эту чертову концовку, я делаю ноги. Хватит с меня.
Под большим секретом он поведал, что вообще хотел отказаться от участия в проекте. И свой окончательный контракт подписал только в минувшую пятницу, предварительно запасшись билетом на самолет в Грецию.
– Какого хрена, я ведь уже намылился смыться. До чего же хреновая занудь весь этот фильм!
Как и у всех кокни, его сквернословие абсолютно беззлобно; с его языка непристойности срываются, когда кому-нибудь из буржуазного круга впору сказать «противный» или «ужасный».
Во всех незадачах Терри винит Майка Франковича. Франкович настоял на выборе Сам. Франкович настоял, чтобы фильм снимали в Америке. Франкович настоял, чтобы его делали в цвете.
– Это все проделки этого хрена.
Гардероб Сам. У ее костюмерши никакого вкуса. Все, что для нее подобрано, – банальные вещи в гамме «Техниколор», призванные подчеркнуть ее грудь и женскую неотразимость. Ее грудь нет ни малейшей надобности подчеркивать; а когда здесь поминают женскую неотразимость, читать следует: «сексуальность». Сам все это надоело до чертиков; и на сей раз я ее не виню. С трудом мне удалось уломать их задействовать в фильме старые выцветшие брюки и свитер, в которых она сегодня появилась на съемках. Да и то с оговоркой: «Пошьем похожие на эти». Что тут возразишь?
И телефон. Последние дни Джон, Джад и я заседаем в административном помещении и страница за страницей проходимся по сценарию. Но телефон трезвонит беспрерывно, и буквально любую мелочь приходится повторять снова и снова. Не могу понять, с чего взяли, будто у американцев дела делаются как по маслу. Это на поверхности у них все быстро и гладко, а копнешь поглубже: треп, треп, треп – и так до бесконечности.
Обед в доме Уайлеров в Беверли-Хиллз. Особняк дворцового типа, чем-то напоминающий тот, что у Лавриджей, только на стенах уайлеровского – четыре или пять работ Утрилло, один прекрасный Ренуар, по одному полотну Риверы, Кислинга, Будена. В неофициальной обстановке Уилли гораздо приятнее, больше походит на француза и вообще человечнее. Приглашены были также миссис Сэм Цимбалист (говорят, «Бен-Гур» стоил жизни ее мужу), Джордж Аксельрод с супругой (о, эта поэзия голливудских имен!), Терри и его хорошенькая французская мартышка Анни Фарже, еще один продюсер и его теперешняя «подружка» из старлеток. Перед ужином подали шампанское, и мы с Уилли, уединившись, заспорили о том, как должен начинаться фильм. Уайлер в плену одной-единственной – и весьма примитивной – идеи о том, что нужно аудитории, чтобы не заскучать; но ему прекрасно известна эта сфера, и поколебать его представление очень непросто. Обед, по обычаям данных мест, званый. Меня усадили между миссис Аксельрод, эффектной седовласой дамой с орлиным носом и взглядом, и женой Уилли, по всеобщему мнению – какового я не стал бы оспаривать, – самой обаятельной женщиной в Голливуде. Из нее и впрямь могла бы выйти образцовая герцогиня с передовыми взглядами.
Терри появился в розовой сорочке с открытым воротом и едва ли не впервые почувствовал себя чуть-чуть не в своей тарелке. Но, благодарение Богу, даже не пытался этого скрыть. Если ему неловко, это написано у него на физиономии. Его неизменно выдает голос голос задорного кокни и соответствующая манера себя держать. После обеда нам вздумалось сыграть в бильярд, без особого успеха; и тут вразвалку подошел Терри и лихо отправил в лузу три или четыре шара.
– Ничего себе, – заметил я.
– Ну, я немного играл на родине, – отозвался он и ретировался. У него даже хватило выдержки покраснеть.
Уилли устроил для меня экскурсионный тур по комнатам особняка: своими картинами он откровенно гордится. Одно из принадлежащих ему полотен Утрилло великолепно; два других так себе, из так называемого открыточного периода, но на оборотной стороне одного из последних – собственноручное послание Мориса. Уилли рассказал, как однажды они навестили Утрилло в его доме. Супруга живописца препроводила их в собственную огромную мастерскую и заметила:
– Все эти мои полотна продаются.
На что Уилли ответил:
– Ну, вообще-то мы зашли повидать Мориса.
В конце концов несносная женщина отвела их к мужу – в маленькую темную комнатушку в подвальном этаже: его мастерская помещалась там.
Обратно добирались с Терри и Анни. Девушка – вытянувшись в струнку (она не более пяти футов роста), за рулем необъятного автомобиля; Терри – откинувшись на спинку сиденья и вальяжно рассуждая о том, что ему надо учить французский. Пока он освоил только три слова: oui, bonjour и bonsoir, но уж их-то знает назубок. Даже oui произносит с характерной для обитателей парижского дна огласовкой. Мы оба стараемся побудить его, презрев собственную лень, прочитать «Le Grand Meaulnes»[793]793
«Большой Мольн» (фр.).
[Закрыть].