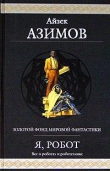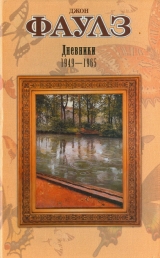
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 58 страниц)
Декабрь
Расследование на Спеце. Вчера одного из официантов, восемнадцатилетнего парня с лицом идиота, уличили в воровстве. Полицейские увезли его в участок. Он сознался в воровстве, отрицал только, что украл плащ. Его били, но он молчал. Тогда его привезли в школу и допросили там. Юношу морили голодом и били палками. Я наткнулся на неприятную сцену в общей комнате. Юноша с красным, опухшим лицом ползал по дивану, плакал, подвывал. Красивый и опрятный молодой сержант стоял над ним, держа в руках розги. Ученики могли видеть (да они и видели) из соседней комнаты, что происходит. Вечером они только и делали, что шушукались, обсуждая, что полицейские делали с официантом. Говорили, что его кололи иголками, били и не давали есть. Большинство считало это шуткой. Я был в такой ярости, что не выдержал и ушел к супругам Кристи. Они – луч света в хаосе этой невежественной страны.
Сегодня я расспросил о случившемся некоторых учителей. Все подтвердили, что юношу били; мое возмущение действиями полицейских всех удивило. Раз он вор, стражи порядка имели право бить и пытать его. И это европейская страна в 1952 году, после всех ужасов войны. Звери.
Роман Роя Кристи. Не могу сказать, что я высокого мнения о его произведении. Он талантливо и живо воссоздает пейзаж, но большинство его книг – философские дискуссии, а герои не живые люди, а точки зрения, рупоры идей, марионетки. Атмосфера столь мрачная, а психология людей столь таинственная, что эффект подчас комический. Написано очень искренне. Но все перемешано: католицизм, борьба с антисемитизмом, отказ от прохождения военной службы по политическим или религиозноэтическим мотивам, теология, метафизика и туманная, маловразумительная теория Воли (с большой буквы) как истории или Истории в Воле. Ее трудно переварить.
Было неловко заниматься критикой. Я не мог сказать, что, по моему мнению, это ни к черту не годится, ему следует порвать рукопись и все начать заново. В жизни он очень практичный, приземленный, веселый, любящий выпить гедонист, и каждому ясно, что роман фальшивый, умозрительный, и лучше бы ему спуститься на землю и быть самим собой.
Новый стиль в моей поэзии. Сознательно что-то взято от Кавафи, бессознательно – от Роберта Фроста, есть что-то и от Лоуренса. Лаконичный, ровный, разговорный стиль. Отличный способ выгодно преподнести жемчужину. Закончился еще один семестр. Я печатаю «Поездку в Афины, 1952» и собираюсь опробовать ее на Рое Кристи[426]426
Написанная зимой 1952 г. «Поездка в Афины» – рассказ о вымышленном путешествии Дж. Ф. по Адриатическому морю на первом году его преподавания в греческой школе.
[Закрыть]. Я больше чем когда-либо уверен в основной мысли моего сочинения, ее весомости и ценности, хотя и сознаю недостатки стиля, слишком робкого и неоригинального.
В остальном все идет нормально; нагрузка в школе небольшая, и у меня много времени наслаждаться красотой острова, который я все же собираюсь через год покинуть. Я меньше пью и курю, стал более умеренным. Супруги Кристи, на мой взгляд, слишком земные, грубоватые и лишены стержня. Они пьют, не оглядываясь на других, много курят, и если их этого лишить, будут страдать. Он необычный человек, слегка бестолковый и при этом удивительно проницательный; обладает некоторым живописным даром. И писательским – неясным и вялым. На этом пути ему не стать гением. Мне не нравится его бесцеремонная манера брать чужие вещи, постоянная потребность в «выпивке» и «куреве», его искренний, но быстро проходящий интерес к рыбной ловле, сквошу, теннису, кино и ко всему остальному.
Вспоминаю М. и время, проведенное в Испании, но весь сосредоточен на своей единственной цели.
* * *
Рождественский сочельник. В опустевшей школе бродят призраки. У меня боли в желудке; у Кристи нет денег; небо нахмурилось; идут дожди. Ничего праздничного. Я ненадолго ушел гулять в холмы; вечернее серое небо, низко бегущие облака. Все вокруг серое, холодное, безжизненное. Я набрел на загон для овец: пятнадцать или двадцать ягнят укрылись под большой, нависшей над ними скалой. Пастуха не было видно. Белоснежные ягнята со смышлеными черными мордочками. Один ягненок весь черный. Смеркалось. По нижней дороге проехали на ослах мужчина и женщина. На женщине зеленая юбка и белый платок – такие крестьянки надевают в праздники. На мужчине ярко-оранжевый свитер, поверх пиджак; он что-то рассказывал. Говорил он громко, но, если б не особый акустический эффект, я не расслышал бы его голоса. Словно сценка из далекого Назарета – два сельских жителя на ослах, и я наверху, на пустынном, заросшем пихтой холме.
Рождество на Спеце не празднуется особенно широко. Мне это все равно, но Кристи недовольны: вечеринки, угощение и выпивка играют заметную роль в их жизни. Рой не менее двадцати раз в день упоминает о выпивке; думаю, это реакция первого пьющего поколения на трезвое прошлое множества предков. Рождественский обед мы вкушали одни в школьной столовой – скудная еда, скверная погода и раздраженный греческим негостеприимством Рой; ученики ели где-то в другом месте с другими учителями.
Вечером собираемся в «Посейдоне»[427]427
Гостиница в поселке Спеце.
[Закрыть]; здесь видные люди поселка кружатся в танце бальзаковских времен. Трудно поверить, но вся атмосфера словно перенесена из Франции тридцатых годов прошлого века. Отцы в парадных костюмах, воротнички накрахмалены; полные строгие матери; притворно-застенчивые дочери – глаза опущены вниз; несколько особенно отважных кавалеров осмеливаются танцевать с дамами «неприличное» танго. Все держатся вблизи небольших столиков – человек четырнадцать-пятнадцать у каждого – и с важным видом потягивают вино или ликер, весь вечер из одной рюмки. Мне казалось, что просто смотреть на них – уже смешно, но Кристи решили взбодрить публику. Рой очень быстро заводится. Он станцевал вальс с Элизабет. Все в полном молчании глазели на них. Гибкая Элизабет танцевала превосходно, несколько в американской манере. Рой – немного неестественно, комично, он становился на цыпочки и подпрыгивал. Когда они кончили танцевать, раздались бурные аплодисменты. Мне все это не нравилось, но им успех ударил в голову. Я не сторонник эксгибиционизма. Рой продолжал свои танцы с прыжками. Элизабет тоже жаждала пусть маленького, но успеха. Рой подошел к самой красивой девушке в зале и пригласил ее на танец. Пока они танцевали танго, царило напряженное молчание, потом такое же напряженное одобрение. Элизабет настойчиво приглашала меня танцевать, но я решил, что не стану принимать участие в танцах: такое испытание не для меня. Между нами возникло нечто вроде классового различия; они, или она, думали, что я считаю их развязными и вульгарными. Так оно и было, но я не хотел, чтобы они это заметили. Потом пошли в «Саванту». Опять греческая музыка. Евангелакис, полный жизненных сил и энергии, исполняет пародии, Рой тоже веселится и продолжает пить – с него хорошо писать молодого Силена. Позже, дома, пение при лунном свете. Думаю, Кристи шокированы и разочаровались во мне. При подобных обстоятельствах они всегда слишком много пьют, становятся слишком взвинченными; я тоже пью, но в отличие от Роя не теряю при этом головы. Как правило, он пьет больше меня. Рой использует спиртное как стимулятор; когда он приходит ко мне, а у меня нечего выпить, он выглядит смущенным и растерянным.
День подарков[428]428
Второй день Рождества, когда слуги, посыльные и пр. получают подарки.
[Закрыть] – безоблачный и теплый. Я весь день просидел один у окна и, раздевшись до пояса, бренчал на гитаре. Этот день принес мне больше радости, чем Рождество.
18 января 1953
Я не использую время полностью. Здесь у меня одна перспектива – забвение; планов хватает, но они не реализуются. Многое в творчестве зависит от упорства и стремления завершить начатое. Легко начать, но вот продолжать… Я по-прежнему не собираюсь идти на компромисс, поэтому каждый проект подвергаю серьезной проверке: достаточно ли он значителен, красив, может ли принести автору подлинную славу. И тогда многие задумки умаляются, оказываются несостоятельными еще до начала работы. Рою Кристи явно не понравилась «Поездка в Афины», но его пристрастия и антипатии настолько причудливы и субъективны, что его мнение меня нисколько не тревожит. Больше беспокоит стиль. Где он? Или он скоро установится, или этого не случится никогда. По-прежнему много шлака – неточности, непоследовательность, подражательность. Сейчас больше всего я ненавижу поверхностную, современную фотографически-кинематографическую технику. Взять, к примеру, Г.Э. Бейтса, великолепного ремесленника, работающего в реалистической манере, академика от литературы, и чего стоят его жизненные впечатления? Ничего. Академическая дребедень, великолепно преподнесенная и полностью лишенная внутренней духовности. Повсюду, повсюду теперь этот дух глянцевых журналов, первоклассный, отшлифованный репортаж, полный ярких выражений и красочных определений. Да пошли они к черту!
Моник. Феникс.
Тяжелый вечер с четой Кристи. Пустая трата времени. Я не хотел оставаться. С ними надо постоянно пить, потягивать спиртное из бокала. Мне же хотелось побыть одному, провести время с толком. Мне ненавистна мысль, что время идет, а я ничего не делаю. В отношении времени я скряга.
У нас был горячий и нелепый спор о вине нацистов. Рой спорил с необычной, пацифистско-католической точки зрения. Он считает Нюрнбергский процесс ошибкой, ужасной ошибкой; нацистов нельзя было наказывать: союзники не менее виновны, они тоже бомбили немецкие города. Кажется, он не принимает во внимание изначальных намерений и не видит разницы между жаром битвы и хладнокровным истреблением людей.
Я предложил рассматривать Нюрнбергский процесс как зарождение нового правосудия: именно тогда преступления назвали преступлениями, хотя в момент их совершения закона против них не было. Закона против применения газовых камер не существовало, но это не означает, что Олендорфа следовало бы освободить[429]429
Отто Олендорф – эсэсовский генерал, возглавлял айнзацгрупп «Д», уничтожившую по меньшей мере 90 тысяч человек в Советской России. Один из главных обвиняемых на процессе; повешен в июне 1951 г.
[Закрыть]. Рой спорил в абстрактном, бездоказательном духе митингов в Гайд-парке.
Конечно, нацисты невиновны в том смысле, что их заблуждения – результат экономических и социальных условий, прошлой истории. Ведь ни одно животное не виновно в абсолютном смысле. Закон и наказание – всего лишь временные уловки общества вроде подпорки для дерева, чтобы со временем оно окрепло.
– Ну а что, – взревел Рой, – ты скажешь о том, что все готовились к войне? Все эти чертовы лицемеры. Как насчет Соединенных Штатов, нас?
– Есть разница между подготовкой к войне и объявлением войны. Если в следующий раз войну объявит и проиграет Америка, тогда, надеюсь, мир будет судить зачинщиков, как судил нацистов. Ты можешь утвердить закон против убийства, потом сам убить и быть судимым в соответствии с собственным законом. Это не означает, что закон несправедлив.
Мы перескочили на другую тему. Если бы Рой не был таким эгоцентриком, думаю, он поменял бы точку зрения. Я просто взбесился, когда он завел речь о психической атаке союзников на нацистских заключенных в Нюрнберге.
Какая еще психическая атака?
Это было отвратительно, сказал Рой. Их заставляли носить тюремную одежду. Часами допрашивали, не давая никакой еды. С ними чудовищно обращались.
Чаша моего терпения переполнилась, и я сам стал кричать о концентрационном лагере в Белсене и эсэсовских преступлениях.
Потом разговор перекинулся на евреев, которых Рой превозносил. Только одна однородная нация, ядро, сердце мира, единственный народ, несущий миссию, знающий о своем предназначении и обладающий «историческим чутьем», – так это называл Рой.
– Ты еврей, Джон, – говорил он. – Ты думаешь, как еврей, и сам этого не знаешь. Ты видишь в себе француза и древнего грека, но ты еврей.
Мы продолжали спорить – я не столько из-за несогласия по еврейскому вопросу, сколько из духа противоречия. Хотя у Роя, несомненно, экстремистский взгляд как на евреев, так и на будущее, которое он в принципе не признает; Рой живет в настоящем, пребывает в нем, не задумываясь о будущем. Идеалы – обременительная ноша и т. д. Нет ничего наивнее таких представлений. Отрицать идеалы – безумнейшая из иллюзий. Рой рассвирепел, когда я назвал его гедонистом и экзистенциалистом, но в la vie quotidienne[430]430
Повседневной жизни (фр.).
[Закрыть] он именно такой. Он пьет, думает исключительно об удовольствиях, комфорте. Его занимает только та жизнь, что Проходит здесь и сейчас. Еще я назвал его реакционером и варваром, а потом задал вопрос: почему он занимается творчеством – на который не получил ответа.
Странно, но у него какая-то прерывистая, импульсивная воля. Я знаю, он считает себя волевым человеком, потому что страстно себя выражает и осуществляет все свои прихоти. Ему нравится встряхнуть человека, вывести его из «летаргического сна». Но такая воля не находится под контролем разума, в этом ее слабость. Его взгляды, такие крайние и неубедительные, показательны, как и автоматическая критика всего, что не соответствует его мировоззрению.
25 января
Необычный для Греции январь – сырой, мрачный; но вот наконец выглянуло солнце. Сегодня явился нежный призрак летнего дня. Я пошел в холмы, бродил среди пихт. Ни ветерка, ни звука; когда сидишь неподвижно – полное безмолвие: недвижные деревья под косыми лучами солнца, заброшенная церквушка. В воздухе разлит сладкий, медовый аромат. Я увидел первую паучью орхидею. Потом сидел на ограде развалившегося дома, остро ощущая очарование острова, наслаждаясь теплом, тишиной, пихтами и покоем. В такие минуты это место кажется чудесным далеким раем. Когда я возвращался, море постоянно меняло цвет – оно было сиреневым, бледно-голубым, ярко-синим, изумрудным. На фоне свинцовых туч острова на востоке сияли голубым и розовато-лиловым цветом. Мне повстречались три девушки из поселка, они шли рука об руку и пели от всей души, как поют жаркими летними вечерами.
Устаревшие слова – «посреди», «надлежит», «обитать». Не могу их употреблять. Против них у меня сложилось стойкое предубеждение. Эти слова, которые я употреблял долгие годы, кажутся мне теперь затасканными, ненадежными; я не уверен в них больше и не получаю от них никакого удовольствия. Нужно вести им учет, чтобы понять, насколько они просочились в текст. Клише и анахронизмы, постоянная осада.
Паучьи орхидеи. Две растут в жестяной банке на моем столе – прелестные, элегантные, маленькие растения; стоят почти прямо, по два цветка на каждом стебельке, смотрят, подобно Янусу, в разные стороны. Два широких зеленых крылышка, два боковых лепестка, зеленый шлем и роскошная бархатистая коричневая губа, длинная и вздутая.
У меня также живет настоящий паук – апатичный черный тарантул, небольшой, он сидит в бутылке из-под коньяка. Паук сплел довольно жалкую паутину и поедает в большом количестве мух. У него крупные зеленые ядовитые зубки; в нем есть какое-то мрачное очарование. Возможно, этому способствует сохранившийся запах коньяка. Сегодня он ничего не ел, лежит скрюченный, ко всему равнодушный, недвижимый – он на пути в нирвану, где никогда не кончается мушиный сок.
11 февраля
Апокриас[431]431
Вариант Марди грас у православных греков. Апокриас ежегодно проходит в воскресенье перед чистым понедельником, с которого начинается Великий пост.
[Закрыть]. Школьный бал. За наш стол после обеда сел американизированный молодой грек. Говорил, думал, танцевал и вел себя настолько по-американски, что как-то забывалось, что он грек. За обедом было скучно – с нами сидел директор. Вина хоть залейся. Супруги Кристи пили, как обычно, много, постоянно наполняли бокалы, и вечер для меня понемногу превращался в кошмар. Во-первых, начались танцы. Я не танцевал, потому что не могу вынести их публичности: иностранец среди местных жителей всегда привлекает внимание. Остальные танцевали, а я стоял и наблюдал. Во взгляде Роя появилось лукавое, заторможенное, пьяное выражение – дьявол в нем уже скалил зубы и потихоньку выбирался наружу, – тогда и начались неприятности. На столе еще оставалось спиртное, когда я предложил пойти в «Саванту», где намечалась еще одна вечеринка. «Никуда я не пойду, пока здесь есть выпивка». Эту разновидность алкоголизма я не выношу. Это не дипсомания, а культ спиртного. Кристи только о нем и говорят – что бы они хотели выпить, сколько способны выпить, как бы им хотелось выпить. Рой всегда уточняет, как много он выпил. Если вы не пьете наравне с ним, в его обращении появляется презрительный оттенок, что я нахожу нелепым и примитивным. Для него способность много выпить – ценнейшее социальное качество. Во время вечеринки я обычно выпиваю три четверти его нормы, но после этого я, как правило, трезв, а он основательно пьян. По остекленевшим глазам и яростной жестикуляции я понимаю, что спиртное для него – наркотик. Он громче говорит, громче поет и страстно спорит из-за пустяков.
Наконец мы направились в «Саванту». Американец вел Элизабет под руку и явно с ней флиртовал. В «Саванте» была скука смертная. Гитарист Евангелакис отсутствовал. Назревал скандал. Рой злился на Элизабет из-за флирта с Американцем. Она старалась сохранять спокойствие и невозмутимость, как искушенная и опытная женщина, но иногда срывалась. Евангелакиса пригласили играть в другом месте, и я категорически не хотел выяснять, где он, и извлекать его оттуда, как того требовала Элизабет. Однако она не прекращала терзать меня, и в конце концов мы с Роем пошли искать музыканта. Звуки его гитары доносились из дома на холме. Все двери там были заперты. Выходит, это частная вечеринка. Рой все же рвался войти и увести Евангелакиса. Я пытался ему втолковать, что он не знает греков и их обычаи. Рой, как и положено, вспылил.
Трудная ситуация в «Саванте»: Рой злится на меня, Элизабет его дразнит. У нас с Роем перепалка; Элизабет показывает на меня Американцу и шепчет:
– Боже, он такой…
Позже все успокоились, помирились и решили все-таки пойти незваными гостями на вечеринку с Евангелакисом. По дороге Элизабет держалась за мое плечо, но меня не так просто умаслить.
И вот мы впятером – Кристи, Американец, Пападакис[432]432
Новый учитель в школе.
[Закрыть] и я – подошли к нужному дому. Элизабет стала вызывать Евангелакиса. Через некоторое время гитарист вышел с черного хода. Мы его окружили, и, немного поговорив, он пригласил нас в дом. Основное помещение занимал магазин; вечеринка проходила в соседней комнате, мы могли видеть там пустые столы и горы грязных тарелок. За столом продолжали сидеть пять человек, уставшие и отяжелевшие от еды и питья, – такими обычно бывают хозяева после ухода гостей. Элизабет пригласили войти, или она сама вошла, и после этого мы провели там полчаса, постоянно ощущая неловкость. Элизабет танцевала, преимущественно одна; высокая, хорошо одетая, она импровизировала, расправив плечи и прищелкивая в такт пальцами. Смотрелось это не блестяще. Но Рой так и светился от удовольствия, а молодой Американец повторял:
– Прелестно! Вы чудо, Элизабет!
Думаю, она готова была в это поверить, если б не снисходительно-циничная ухмылка на моем лице; она ее раздражала, но именно к этому я и стремился. Не понимаю, как можно до такой степени не чувствовать ситуацию. Четверо мужчин, организаторы вечеринки, сидели с ледяным выражением в глазах, так и излучая враждебность. Некоторым утешением для меня было присутствие Пападакиса, с которым мы поболтали по-французски.
Наконец мы ушли, направившись домой к Кристи. Молодой Американец и Элизабет постоянно отставали, пропадая из виду. Рой драл глотку, распевая песни, а мы с Пападакисом продолжали говорить по-французски. У Кристи – бесконечный треп и ощущение некоего духовного дисбаланса между мной и супругами.
Они загоняют меня назад в пуританство. Может быть, у них комплекс, связанный с происхождением из рабочей среды, может, это он заставляет их напиваться в обществе. Им хочется быть свободными, раскованными. Однако нельзя относиться к спиртному как к единственному способу развеселиться, эта отчаянная попытка обрести радость, не считаясь с чувствами других людей, – всего лишь современный эгоцентризм, ограниченный и пустой. Богемное времяпровождение эмансипированного рабочего класса. Я опишу их в одной из своих книг.
Частично источником неприятностей здесь является Элизабет. С самого начала я решил держаться от нее подальше. Основной довод – не давать повод для сплетен в школе и на острове. Достаточно раз пройти с ней под руку, и скандал обеспечен. Второе, более важное: мне нельзя, да я и не хочу, вступать с ней в какие-либо отношения. Остров – единственное место, где извечный треугольник просто невыносим, даже если его трудно обнаружить. Здесь, как на сцене, отношения будут драматически изолированы. Установив с ней нежную дружбу, я восстановлю против себя Роя. Да и я буду к нему ревновать. Речь идет не об откровенном адюльтере, а только о незначительных ежедневных намеках на его возможность. Я не знаю, хочу ли стать ближе Элизабет. Но я точно знаю, что в воскресенье меня раздражал ухаживавший за ней Американец, а это уже похоже на ревность.
Было бы самоуверенно, скучно, наивно, глупо отрицать в этом случае мою симпатию к ней. Однако я долго копался в себе – уже сознательно – и не нашел никаких признаков этой симпатии.
25 февраля
Еще одна утомительная пьянка с Кристи. День мы провели на Спетсопуле; праздный день на фоне голубого неба и синего моря. Я повел их на самую высокую точку острова, откуда открывается один из самых прекрасных видов, да и сам остров – сказочная жемчужина. Про такие места думаешь, что они – центр огромного колеса фортуны. У каждой области есть такой центр, но его не так легко найти.
Возвращались на каике, было уже ветрено, и, достигнув острова, мы решили ненадолго зайти в «Саванту». Но наше пребывание затянулось. Рой стал напиваться и взвинчивать себя. К нам присоединился Гиппо. Мы пили узо, а потом я заказал красного вина. Рой и Гиппо запели. Они, должно быть, пели – Рой без передышки – около четырех часов. Мы прикончили четыре или пять бутылок красного; я пил больше других: мне не нравилось пение, и я подумал, что таким образом притуплю восприятие. Чего они только не пели – греческие песни, оперные арии, песни двадцатых, танцевальные песни. Рой пел очень громко. Поет он вполне прилично, не фальшивит, но в его голосе есть своеобразная четкость, что-то от гимна, и это качество он вносит в исполнение всех греческих песен, превращая музыкальное золото южан в позолоту. Поет он и джаз, подражает Синатре – очень скверно, и до смешного неточно воспроизводит американский акцент. Лучше всех пела Элизабет, приятным, хрипловатым голосом, а Гиппо выстукивал мелодию.
Я вновь почувствовал неловкость и нарастающее напряжение. Думаю, мое лицо не выражало явного неодобрения, но сам факт, что я не пел и по большей части не улыбался кривлянию Роя, похоже, их раздражал. Поведение Роя было дерзким, развязным. Он словно говорил: «Мне хорошо и весело, но я нисколько не пьян, хотя со стороны может так показаться». Есть две стадии опьянения. В первой человек сознает, что напился, и не скрывает этого, а во второй хотя и сознает, но никогда в этом не признается. Пьянство Роя – что-то вроде фигового листа, которым он пытается прикрыть свою наготу.
Остальные гости взирали на нас с отвращением, не скрывая раздражения и враждебности. Особенно недоволен был старик Ламбру, хозяин заведения, весь вечер он грозно хмурил брови.
Чрезмерное пьянство – абсолютная бессмыслица. Я видел растущую неприязнь по отношению к нам и продолжал пить, как бы ничего не замечая. Рою необходим алкоголь – он зависит от него. Без спиртного он не может развеселиться, а под его действием превращается в язычника, в одурманенное животное, сатира. Он видит в этом преодоление запретов, раскрепощение, я же вижу только отвратительный переход в иррациональное, грубое, варварское состояние. Еще для меня это знак раздвоения личности. Психология Роя не вяжется с его художественными амбициями. Он пишет длинные сложные произведения, поднимает в них проблемы воли, самоотречения, страдания и пессимизма, а сам живет как раблезианец. Нет, не раблезианец, потому что в его пьянстве есть какая-то одержимость и невротизм, что-то глубинно нездоровое.
У Пападакиса восточные черты лица, он вежлив и дипломатичен, как мандарин, и обходителен, как главный мандарин. Похоже, у него много влиятельных знакомых, он все время говорит о своих проектах по реорганизации школы. Принадлежит к людям, глядя на которых думаешь, что им чего-то недостает – может, кейса, как в руке у дипломата. Очень быстро утвердил свое превосходство над прочими учителями, называет себя помощником директора, советником по внешним связям. Пападакис действительно образованнее и толковее остальных так называемых профессоров. Он бегло говорит по-французски, много читает. Хорошо знает Сефериса[433]433
Уроженец Смирны, поэт Георг Сеферис (1900–1971), переехал с семьей в Афины, после того как греков изгнали из Малой Азии. Он работал в греческом дипломатическом корпусе и в 1963 г. получил Нобелевскую премию по литературе «за выдающиеся лирические произведения, вдохновленные любовью к эллинизму».
[Закрыть] и Кацимбалиса[434]434
В 1939 г. Генри Миллер (1891–1980) ездил в Грецию повидаться со своим другом Лоренсом Дарреллом. В Афинах Даррелл познакомил его с писателем и блестящим рассказчиком Георгосом Кацимбалисом, незаурядным человеком, жившим в Марусси, предместье Афин. «Колосс Маруссийский», впервые опубликованный в 1941 г. сан-францисским издательством «Колт-пресс», – портрет Кацимбалиса, написанный любящей рукой, и рассказ об их совместном путешествии – по инициативе Кацимбалиса – по Греции. Влюбленный в эту страну Миллер называл греков «деятельным, любознательным и пылким народом» и восхищался их «противоречивостью, непоследовательностью и хаотичностью – этими неподдельными человеческими качествами».
[Закрыть]. Что еще интереснее, он встречался с Кавафи в Александрии и однажды целый вечер развлекал меня, рассказывая истории из своей молодости, когда бывал в салоне Кавафи. Великолепный, всегда переполненный салон Кавафи, его спокойная, размеренная речь, огромная эрудиция и «поэтический» облик, вкусная еда, великий человек в египетских одеждах[435]435
Предки греческого поэта Константина Кавафи (1863–1933) жили в Константинополе, он же родился и прожил большую часть жизни в Александрии, будучи на государственной службе. Стихи, которые он сам втайне печатал, при его жизни были известны только друзьям. Признание он обрел после смерти, теперь его называют одним из величайших современных поэтов Средиземноморья.
[Закрыть]. Как-то Пападакис познакомился там с молодым англичанином, который больше молчал. Т.Э. Лоуренс. Мне кажется, что Пападакис во многом похож на Кавафи.
Рой Кристи видит в средиземноморской культуре и философии «поддельный, фальшивый гедонизм». Его предубеждение против классицизма Греции, Франции субъективное, лишенное всякой логики. Он все время говорит, что нужно жить настоящим, не думать о будущем, и, можно сказать, так и живет. Но его совершенно дикие заявления, касающиеся философии и искусства, заставляют меня задуматься: а не розыгрыш ли все это? Как у заслоненного от жизни Д.Г. Лоуренса. В нем есть огонь, сложность, острота и сила, и этой необычности нельзя не позавидовать, но в то же время столько путаницы, односторонности, неубедительности, что зависть быстро проходит. Апокалиптическими настроениями нынче никого не удивишь.
Из того, о чем он всегда говорит (немецкий романтизм, христианство, Север против классицизма, язычества Юга), только классика может привлечь общественно ориентированного человека, сторонника прогресса. Это слабый луч света во мраке. Но, пытаясь притушить свет и затормозить медленное движение вперед разума, – ничего не выиграешь.
Рой показал мне первую часть романа, переписанную им заново. Сырой, резкий, чрезмерно эмфатический стиль; его idees fixes (семитизм, историческая воля и т. д.) проводятся с наивностью ребенка, выбалтывающего секрет раньше времени.
Меня раздражает та настойчивость и убежденность, с какой он говорит о себе как о писателе: «мои книги», «мой агент», «моя работа», – словно у него устоявшаяся писательская репутация. Я заговариваю о своих литературных занятиях только когда без этого нельзя обойтись: например, кто-то входит в мою комнату и спрашивает, чем я занимаюсь. И дело не в недостатке уверенности в себе. В конечном успехе я уверен – возможно, даже слишком; просто не выношу, когда успех присваивают заранее, – это все равно что брать заранее жалованье за следующий месяц. Реальность подменяешь болтовней. Поэтому я стараюсь держаться скромнее.
20 марта
Идет к концу очередной год моей жизни. Меня не оставляет тяжелое чувство, что пора не плестись кое-как, а переходить на бег. Я по-прежнему разбрасываюсь и тону во множестве проектов. И все же не могу преодолеть значительное расстояние между зародышем идеи, ее внезапным бурным раскрытием и конечной стадией – цветком; расстояние, требующее недель и месяцев кропотливого труда. Однако веру в себя не утратил. Я приветствую каждый свой новый промах: ведь его можно устранить, в очередной раз сменив кожу. Чувствую, что копаю все глубже. И даже если с литературной точки зрения глубины моей души не представляют никакого интереса, думаю, я все же не стану сожалеть об этом духовном путешествии. Узнай я сейчас, что все написанное мною не будет иметь никакой цены, или почти никакой, я почувствовал бы глубокое разочарование. Но верю, я сумел бы найти утешение. В настоящее время я ловлю себя на самодовольстве. В обычном общении я не замечаю такого за собой. Но в творчестве – моем творчестве – так много серьезного самоанализа, рефлексии молодого человека, что подобный повышенный интерес к собственной персоне не может не раздражать. Я знаю об этом недостатке и вижу его, но этого мало. Дело в том, что мне не удается избавиться от этой дурной привычки. Пока я не представляю, как писать иначе.
Поездка на Крит, 1—14 апреля
Каникулы не удались. Испортил их собственной филантропией. Покинул Спеце вместе с Кристи на день позже учеников, теплым, лучистым днем, на рассвете. В течение нескольких недель я ощущал скрытое давление со стороны супругов, они явно хотели, чтобы я одолжил им деньги на поездку. Собственных у них не осталось. Всякий раз, выпивая с ними, я старательно душил рвущуюся наружу щедрость. Благополучно обойдя множество опасных моментов, под конец я не выдержал и, попивая с ними кофе, сказал Рою:
– Я мог бы дать вам деньги на Крит.
Они согласились не раздумывая. Не знаю, почему я сделал это предложение. У нас очень разные вкусы. Теперь, задним числом, я жалею о своем предложении. Деньги они не возвратили, и весь мой выигрыш заключается в том, что я кое-что добавил в знание о себе и пережил один-два момента горького разочарования. Мне не жалко денег, мне жалко – и то не очень, – что они оказались неблагодарными. Правда, был один случай, довольно неприятный. Мать прислала мне на день рождения книгу. Дня за два до 31 марта он взял ее в руки и спросил, действительно ли у меня скоро день рождения. Да, подтвердил я, в понедельник. В понедельник ни один из них об этом не заговорил. Про деньги, потраченные на билеты, тоже никто не вспомнил. Конечно, они понимали, как понимал и я, что Рой никогда не сможет их вернуть. Не так уж, впрочем, и много – всего 8 фунтов, и я всегда дал бы такую сумму, если б они попросили. Что мне ужасно не нравится, так это их пренебрежительное отношение к чужим деньгам, их эгоцентризм. Они живут весело, подчас за чужой счет, но умудряются делать это, не оскорбляя чужие чувства. Физически Рой очень чувствителен: грубая ткань, яркое солнце, минута, проведенная на жестком стуле или в неудобном положении, причиняют ему муки. Он не тянул армейскую лямку, не носил тяжелое снаряжение, не занимался строевой подготовкой, не жил в казарме. В группе он стремится быть лидером; все должны делать то, что и он, – останавливаться, пить, есть, идти дальше. Роя можно назвать современным Лоуренсом, но без шарма последнего, без знания природы, цветов, птиц, земли. Нет, не Лоуренсом, а его тенью – бледной, ничтожной.
Элизабет мне нравится больше; она не болтлива, в ней есть стиль, ее не волнует ничего, кроме того, что происходит сейчас; в повседневной жизни она умнее и добрее своего мужа.
20 апреля