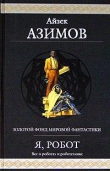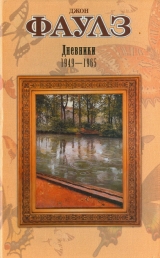
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 58 страниц)
– Это Христов, – сказала она. – Горе мое.
– Христов?
– Тот самый Христов.
– Певец? – Оказалось, это действительно он[746]746
Борис Христов (1914–1993) – популярный в те годы болгарский оперный исполнитель.
[Закрыть]; вне сцены он похотлив. Затем мимо прошла оживленная иностранка. Это была Амелия Родригеш, исполнительница португальского фадо.
Чуть позже я вытащил Санчию из «Савоя», и мы двинули в бар «Хенеки», что на углу Стрэнда, где я заставил-таки ее сбросить маску наигранной бодрости. Это случилось не сразу, но в конце концов она поведала мне все, что приключилось с нею за минувшие годы. Пять лет в Африке и вот уже два года в Европе: в Париже, в Лондоне, пробавляясь то одним, то другим и находясь едва ли не на грани нищеты – впрочем, невсамделишной, ибо родители всегда готовы ей помочь, если станет совсем уж невмоготу. Она то прозябает на рю де ла Юшетт в Париже, то работает официанткой в Кембридже. Типичная ситуация для женщин из среднего класса: они хотят быть независимыми, стремятся доказать, что на это способны – и тем не менее раз за разом терпят крах, терпят неизменно, при всех деньгах, что за ними стоят.
При ней все еще былой шарм – шарм princesse lointaine[747]747
Принцессы Грезы (фр.).
[Закрыть], с которой она у меня ассоциируется; однако теперь я взираю на него как бы в бинокль и уверен, что этот шарм быстро испарится, стоит лишь оказаться с ним в более тесном соприкосновении. Ибо он в огромной мере зиждется на отказе взглянуть в лицо реальности, как физической, так и духовной. Я вытянул из нее подробности теперешних ее отношений с «женатым мужчиной». Итак, они всегда изъясняются аллегорически. Они живут в Индии (где ни она, ни он никогда не были). С. обитает на дереве, мужчина приходит охотиться в ее «владениях»; иногда она удостаивает его ответом, иногда взлетает «так высоко», что общаться они могут только в третьем лице – через цаплю. «Цапля говорит…»
– Ну что за ребячество, – отреагировал я под конец.
Но в ее глазах это «замечательный» опыт.
– Так мы поверяем друг другу то, что нельзя выразить иначе.
Потом она часами распространялась о своей семье, об ужасной, властной, безумно неуверенной в себе матери.
– Я не могу выйти замуж, – сказала С. – Должен же быть какой-то выход. А для меня любой брак как родители.
Рассказала, что пять лет прожила в Южной Африке с немцем, бывшим эсэсовцем.
– Он был очень суров, но приучил меня быть независимой.
Она без умолку говорила о себе. Из меня, должно быть, вышел бы первоклассный психиатр. Женщины определенного типа, лет тридцати с небольшим, обманутые в своих ожиданиях, доведенные до ручки мужчинами (Дженнифер Ардаг, Лоррейн Робертсон), обретают во мне идеального отца-исповедника. В случае С. я сам на это напросился, поскольку упорно задавал ей вопросы, которые она ненавидит, но в которых, как мне кажется нуждается: иными словами, ей нужно, чтобы, тактично обходя ее уловки, ее загоняли в угол.
Тот вечер был очень любопытен. Под конец мы прохаживались вверх и вниз по Тоттнем-Корт-роуд; и я ощутил, как к старому чувству горечи – оттого, что я никогда не смог бы быть С ней близок (так взираешь на гору, на которую никогда не взойдешь, или страну, в которую никогда не поедешь), – примешивается печаль за нее, теплота и жалость. В своей обычной уклончивой манере она пыталась выразить то же самое – позволив себе проявить малую толику непосредственного чувства, которое тотчас спрятала, завуалировав какой-то банальностью.
Думаю, на самом деле она мне нравится – нравится своей неповторимостью, неповторимостью поведения, внешности (хотя ее и не назовешь ослепительной красавицей), неповторимостью своего подхода к жизни и своей необыкновенной склонностью к мифотворчеству. Теперь мне отчетливо видны ее недостатки, жалкая суть ее отговорок, ее обреченность, ее непреоборимая потребность окутать себя пеленой двусмысленных аргументов, упрямое нежелание прислушаться – или хотя бы проявить уважение – к гласу мужского рассудка.
– Ненавижу «Чуму», – заявила она. – Ненавижу, как он выражает то, что думает.
Она очень напоминает мне ту разновидность женщин, какую встречаешь у Пикока: типичную для конца восемнадцатого столетия смесь проницательности, снобизма и женственности – вроде Фанни Берни и Джейн Остин. Да-да. На свой лад она напоминает Джейн Остин.
Мое ощущение Санчии было, остается и всегда будет (должно быть) литературным. Нереальным. Реальность – это Элиз; и я сделал свой выбор много лет назад. Выбор столь определенный, что у меня не было и тени кьеркегоровского страха: другого выбора, сулящего обновление, не существовало[748]748
Христианский философ Сёрен Кьеркегор (1813–1855) считал, что решению принять христианство обязательно предшествует ощущение страха.
[Закрыть].
19 апреля
Опять потонул в «Волхве»: потонул творчески. Определился каркас, символика, подтексты, с этим все ясно. Трудность в том чтобы нарастить мясо на все эти большие и маленькие косточки. Пункты назначения и даты прибытия.
Источники: «Робинзон Крузо» и «Буря». Как и в «Коллекционере», но на этот раз иначе, в более прямой проекции.
Отношения между Кончисом и Лилией суть отношения Жули И Мишлин в Коллиуре (плюс мое собственное положение применительно к ним). Алисон = Кайя[749]749
См. Введение, с. 12.
[Закрыть]. Возможно, в психологическом плане доминирует то лето в Коллиуре. А вовсе не Спеце.
23 апреля
Экземпляры книги. Один – Денису, один – Портерам, один – Лавриджам, один – домашним, один – Санчии (на котором я написал подобающе двусмысленное «Возделывай свой сад» и ничего не добавил); и два для себя.
25 апреля
Незадача с Томом Мэшлером. Я написал небольшой материал под заглавием «Коллекционер: некоторые заметки», в котором он фигурирует как прекрасный молодой бизнесмен. Его это задело: никому не хочется быть тем, кем он на самом деле является. Он, видите ли, желает быть глашатаем общественного мнения, гидом, защитником, всем вместе. На днях мы с ним ужинали, и он нравится мне еще больше. Дом полон современной живописи; но даже картины, это чувствовалось, были приобретены потому, что это хорошее вложение денег (хотя он и пытался скрыть это обстоятельство). У него пальцы Мидаса. Все, к чему бы он ни прикоснулся, превращается в золото; и все-таки он мне нравится, ибо, как мне кажется, он действительно хочет, чтобы хоть что-то из того, к чему он прикасается, превратилось в нечто человеческое.
Дал интервью молодой девушке – сотруднице журнала «Букс энд букмен» (никогда о таком не слышал). Милая, но глупенькая; и внезапно мне расхотелось говорить с ней всерьез.
2 мая
«Волхв». Работаю над ним без перерыва. Кончис сбегает в Невшапеле.
3 мая
Странный сон. Стою у окна, разглядывая сверху вниз фасад дома напротив. В других окнах фасада появляются разные фигуры. Я знал, что это призраки – или «гости», как я именую их в «Волхве». И не чувствовал страха, а лишь горячее желание, чтобы они взглянули на меня. Чувствовал, что глаза вылезают из орбит; столь сильным было мое желание. Но их взгляды старательно избегали меня, словно я (живой) был тем, кого на самом деле не существовало. Толковать этот сон можно, следуя одному из трех вариантов:
1. Это просто продолжение «Волхва».
2. Это нечто связанное с неуловимостью созданных мною образов. У них – своя жизнь, своя воля и т. п.
3. Это драматизированная проекция моей тревоги по поводу предстоящей встречи с критиками; первые рецензии выйдут в воскресенье.
5 мая
Первые рецензии. Худшая – в газете, в которой я предпочел бы увидеть лучшую: в «Обсервер». Вышла из-под пера вопиюще дилетантствующего «литератора» Саймона Рейвена, с которого станется и «Войну и мир» сделать весьма заурядным произведением. Но, понятное дело, жаловаться я не смею[750]750
В отмеченной сдержанно-похвальной тональностью рецензии Саймон Рейвен писал: «У этой книги два достоинства. Во-первых, она содержит интригующее исследование извращенной сексуальности… Во-вторых, развитие событий в ней отмечено мастерски нарастающим напряжением… Еще более располагает к этой книге вполне правдоподобный финал».
[Закрыть].
7 мая
Первые стрижи.
Просидел сегодня три часа в библиотеке на Уэст-Энд-лейн, просматривая «Таймс» за январь – март 1915 года и «Панч» с сентября 1914-го по март 1915 года. Вот уже несколько дней работаю над этой главой «Волхва». Поначалу испытал живой интерес; потом раздражение. Захотелось вернуться в собственный воображаемый, упрощенный 1915-й.
9—11 мая
Плохие дни. Мне не доставляет удовольствия чтение рецензий на книгу – тем более таких рецензий. В тех еженедельниках и газетах, на которые я рассчитывал, ничего не появилось. «Небольшой шедевр в жанре триллера» – таков, похоже, вердикт «примечательно беглого» критического взгляда. Последняя неделя сделала меня предельно раздражительным, и теперь я страшно жалею, что не уехал из Англии – один. Э., кажется, не понимает, что со мной творится. Кроме всего прочего, завяз с трудным местом в «Волхве»; не могу понять, что меня держит: трудность дать наглядное описание «Бурани»[751]751
Это название Дж. Ф. присвоил вилле своего персонажа Кончиса. Ее архитектура выстроена по образцу виллы Джасмелии, на которой он нередко бывал в период преподавательской работы на острове Спеце. См. примеч. 2 на с. 347.
[Закрыть] или принципиальная невозможность придать этой вилле конкретные черты. Неужели описать это место выше моих сил, выше чьих бы то ни было сил?
В пятницу съездили в Садбери посмотреть дом – часть помещичьей усадьбы эпохи Тюдоров в Глемсфорде. Но этот вояж окончательно вывел меня из равновесия: по мере того как мы, сев на поезд до Маркс-Тей, пересаживались на боковую ветку и неторопливо катили мимо викторианских полустанков и зеленеющих полей, все происходящее становилось более и более нереальным; и сделалось еще нереальнее, когда мы проезжали в такси через Лонг-Мелфорд бесконечной деревенской улицей, пока, обогнув несколько муниципальных домов, не свернули в узенький проулок[752]752
Садбери – небольшой торговый городок на реке Стаур в Суффолке. Чтобы доехать до него, Дж. Ф. и Элизабет пришлось сесть в Лондоне на поезд до Маркс-Тей. Глемсфорд – небольшая суффолкская деревушка, расположенная к северо-западу от Садбери; она разместилась на холме с видом на реку Стаур.
[Закрыть]. Дом был прекрасный: светлый, с остроконечной крышей, чуть покосившийся, как на иллюстрациях к диккенсовскому роману. Уютные старые комнаты и лестница, прелестный сад. Не на отшибе уродливой деревеньки, где повсюду высятся муниципальные строения. Но я сразу же понял, что жить там не смогу. В Литтл-Уолдингфилде мы посмотрели еще один, а на другой день третий – в Лавенхэме[753]753
Еще две деревушки в окрестностях Садбери в Южном Суффолке.
[Закрыть], с чудесной лестницей, образцом восхитительной планировки периода короля Якова; но дом оказался в непотребном состоянии, такой сырой и обветшавший, что я даже не потрудился сделать вид перед его владельцем, что мы всерьез заинтересованы в покупке. Да и все вокруг него слишком отзывчиво к изменчивым веяниям времени, слишком демонстративно «сельское», чтобы привлечь меня. Слов нет, деревушки симпатичные, Садбери – милый городок, но это не то, чего бы мне хотелось. Я понял, что мое представление о том, чего я жду от дома в сельской местности, столь неопределенно, что нет смысла принимать окончательное решение, пока мы не побываем еще в нескольких десятках местечек Англии и не посмотрим еще несколько десятков домов или коттеджей.
Теперь мне ясно, что для спокойной жизни мне требуется: 1) не меньше акра или около того земли; 2) или очень новый дом (спроектированный для меня), или георгианский; дом эпохи Тюдоров исключен – он слишком темный, слишком замкнутый; 3) уединение: не хочу, чтобы за мной подглядывали или меня прослушивали; 4) вода: море или по крайней мере ручей; 5) сад: позади тюдоровского дома в Глемсфорде был прелестный садик на склоне холма; 6) холмистый ландшафт – овраги.
Но даже если принять во внимание все эти ограничения, я все еще не знаю, действительно ли хочу жить в деревне. За городом над всеми чувствительными людьми висит некая чеховская грусть; их пронизывает та ужасная потеря чувства соразмерности, какая именуется местной гордыней; монотонность существования или недостаток впечатлений, недостаток выбора; и там еще торжествует тот старый, старый торийский (в смысле восемнадцатого столетия) взгляд на жизнь, какой подчас чувствуется в глазах всех образованных людей: он слышался мне в голосе агента по недвижимости, виделся в манерах печально-светской, благовоспитанной владелицы гостиницы, в глазах куратора Музея Гейнсборо[754]754
Музей Гейнсборо был открыт в 1961 г. в Садбери, в доме, где родился Томас Гейнсборо (1727–1788).
[Закрыть]. (Они отвратительны, эти полотна Гейнсборо – его «ипсуичский период» начисто лишен гениальности.) Мир, отмеченный нездоровым уважением к деньгам, собственности, семье, традиции. Где все еще соседствуют сквайры и землепашцы. И даже еще древнее: вожди племени и их соплеменники.
Когда мы вернулись, Элиз среди ночи внезапно потеряла самообладание. Совершенно неожиданно. Какой бы неудачей ни обернулась наша поездка в Садбери, это не отразилось на наших занятиях любовью: в гостиничных номерах есть нечто чрезвычайно возбуждающее. Но ее раздражает, что я коллекционирую фарфор, – и, по-моему, зря. Ее не на шутку задело, когда к нам заявилась глупенькая девчонка-репортер и начала задавать мне вопросы о фарфоре и о книгах. Ненавижу коллекционировать живых существ, но не вижу никакого вреда в том, что делаю я. Коллекционирование дурно, когда: 1) собранные в коллекцию предметы перестают быть таковыми; 2) когда собирают исключительно с целью вложения денег; 3) когда их собирание влетает в такую копеечку, что вносит дисбаланс во все остальное. Элиз постоянно обвиняет меня в том, что мною движут исключительно эти побуждения, хотя раз десять читала и слышала мое мнение по поводу того, что считаю допустимым и недопустимым в этой области. В Лавенхэме нам случайно довелось завидеть в окне коттеджа чайник из Нью-Холла, и это доставило мне ничуть не меньшее наслаждение, нежели то, что испытывает коллекционер. Я думаю, эта керамическая посуда – по духу английская, в ней есть именно та «английскость», которой я восхищаюсь и которую люблю. Что до книг, я собираю их по причине, какая заставила бы большинство библиофилов с отвращением сплюнуть, потому что хочу прочесть их, погрузиться в прошлое. А вовсе не потому, что это раритеты, в хорошем состоянии и т. п. Ошибкой с моей стороны было – потому просто, что я не знаю, как поделиться радостью от нью-холловского кувшина для молока, от никому не известной пьесы восемнадцатого столетия похвастать ценой, выгодной сделкой. Та глупая девчонка-репортер – она все допытывалась, «сколько все это стоит»; и нынешний век сводит все к этому: к тому, «сколько все стоит», к деньгам. Меня нередко шокирует, когда я слышу, что Элиз считает все потраченное на неутилитарные нужды «деньгами на ветер», каким-то «расточительством». «Хлебом единым» – такой взгляд на жизнь не более чем пережиток дней, проведенных нами в бедности; и он столь же характерен для всех наших друзей, в чьих глазах коллекционирование – даже в том более чем скромном виде, в каком я его практикую, – не имеет права на существование. Они как Портеры, приобретающие ту или иную антикварную безделушку, потому что она «занятна»; или как Шарроксы, которым импонирует «жить с одним чемоданом». И над всеми довлеет мания без конца менять внутреннее убранство. Если существует кощунство по отношению к предметам, то оно именно в этом.
Досталось мне от Элиз, на сей раз больше по заслугам, и за мое подглядывание в телескоп за девушкой в доме напротив. Это чистое любопытство, или почти чистое, оно больше сродни орнитологии, нежели вуайеризму. Но, конечно, предполагается, что следует глубоко стыдиться подобных инстинктов. Даже будь я вуайером, думаю, не стал бы так уж стыдиться этого.
Ссора позади. Удивительно не то, что она произошла, но то, что, живя так близко друг к другу, как мы, и в таком отдалении от других, мы не ссоримся чаще.
Арчи Огден. Хороший человек, несмотря на то что не может вырваться из когтей демона по имени Алкоголь. Без стакана в руке он как потерянный; а когда стакан возникает, не спешит его опустошать. Лишь блаженно прихлебывает. Пора, думается, нам поговорить о джентльменстве Нового Света: у него, как у многих воспитанных американцев, манеры и обходительность XVIII века.
Бесподобная (чисто американская) шутка о Филадельфии: «В прошлое воскресенье я провел там неделю».
14 мая
Дождливый день. Нам внезапно пришло в голову поехать в Грецию. Пожить в палатке и побродить пешком по Пелопоннесу.
Хадсон «Зеленые угодья» (1904)[755]755
Потомок американцев, родившийся в Аргентине, Уильям Генри Хадсон (1841–1922) в 1874 г. переселился в Англию, где издал несколько романов и книг о природе. Главный герой «Зеленых угодий» (1904) Абел, спасаясь от преследований в Венесуэле, скрывается в сельве, где влюбляется в «дочь джунглей» Риму. Роман заканчивается тем, что Риму пленяют и сжигают на костре индейцы.
[Закрыть]. Никогда раньше не читал Хадсона. Думаю, даже испытывал к нему легкое презрение как к ненастоящему англичанину. Между тем он, разумеется, очень английский: «Зеленые угодья» – не менее английское произведение, чем «Робинзон Крузо». «Зеленые угодья», при всей их фатальной детерминированности, сильная и поистине печальная книга. Полагаю, она нравится мне потому, что я могу в точности ощутить, сколь одержим был Хадсон овладевшей им идеей, идеей Римы; в такого рода книгах воображение ярким пламенем высвечивает тьму, тьму мерцающую в бессчетном множестве книг, написанных без воображения и страсти. Жаль только, что он наделил Риму речью, хотя ее последние слова: «Абел, Абел», вы-рвавшиеся из пламени костра, почти оправдывают подобный произвол, досадно и то, что, как только он начинает описывать ее внешность, в повествование вторгаются штрихи в манере Артура Рэкхема, Джеймса Барри; ведь секс – это тот странный, смутный, полубесплотный-полутелесный выплеск эмоций, который МЫ называем страстью (в наши дни это слово, конечно же, носит уничижительный оттенок); а между тем если какая-то книга и могла бы поведать нам о Веке секса, о том, что мы утратили, существуя в нем, то это «Зеленые угодья».
Эта книга заинтриговала меня потому, что в «Волхве» я дошел до того момента, где появляется Лилия; и еще потому, что она обладает тем свойством, которое, по-моему, необходимо вернуть роману и жизни, – таинственностью.
Пантеизм Хадсона и его отказ от идеи Бога-заступника; само собой, он прав. Второе подразумевает первое.
17 мая
Особенный, очень неприятный день. Мне не по себе, но дело не только в этом. Начиналось все не так уж плохо. Мы отправились на Дорсет-сквер посмотреть двухъярусную квартиру, объявление о которой Элиз обнаружила в газете. Однако очень быстро у меня появилось ощущение (оно не покидает меня и сейчас, пока я пишу), столь разительно напоминающее экзистенциалист скую тошноту, что я едва мог поверить в его реальность. По мере того как мы обходили комнату за комнатой, квартира начала удаляться от нас. Как в кино. Тошноту вызывала не чужеродность предметов, которые нас окружали, но их удаленность, чувство, что они не имеют ко мне ни малейшего отношения, словно вижу их на экране – притом в фильме, смотреть который не имею ни малейшего желания. А потом, когда мы были в кафе (Элиз квартира нравится, она хочет ее снять), чувство тошноты усилилось, вылившись в сильнейший приступ, какого мне еще не случалось испытывать. Девушка, проходившая по тротуару снаружи, другие посетители, Элиз, мой собственный сведенный конвульсиями желудок – все это давало о себе знать лишь на четверть. Такое ощущение, будто умираешь. Проходим мы по Бейкер-стрит, спорим, стоит нам снимать квартиру или нет, – все в тумане. Один из показывавших нам ее пареньков отвез нас на машине в контору агента по недвижимости рядом с виадуком Холборн. Жуткие грифоподобные крылатые фигуры темно-красного цвета с золотой (чуть не написал: «злой» – описка явно по Фрейду) окантовкой; бесконечный подъем мимо позолоченных клеток, где жизнь не пульсирует, а замирает. Проходим нескончаемым коридором по верхнему этажу здания и натыкаемся на клерка-заику. Похоже, во всем огромном доме нет ни души, не считая этого кафкианского создания, каковое н-ничего н-не зн-нает. В машине Элиз укачало, и она стоя, ничуть не таясь, принялась читать письма, разбросанные на столе клерка. Мое «я», казалось, начисто отделилось от меня; осталось только тело и телесные ощущения. Моя личность словно взорвалась, не оставив ничего, кроме саднящих осколков распавшегося целого. Потом мы бродили по Холборну подобно бесприютным скитальцам в лимбе. Но Элиз мучила только физическая тошнота. Я же чувствовал и до сих пор чувствую себя онтологически оторванным от реальности; течение моей жизни будто прервалось. Это можно было бы счесть угрожающим симптомом, не будь оно так странно: то, о чем не раз читал и писал, становится столь физически осязаемо.
Ужасает отнюдь не чужеродность вещей, нет; ужасает, когда они утрачивают свою чужеродность, теряют всю присущую им ценность, все свое онтологическое значение. Они есть, и в то же время их нет. Они более не отражают тебя самого, уже не таят и не фиксируют в себе (в навигационном смысле слова) компонентов твоей индивидуальности; она просачивается сквозь них в психологическую пустоту, néant[756]756
Ничто (фр.).
[Закрыть].
19 мая
Взяли с собой посмотреть квартиру на Дорсет-сквер Джейн и Берта Саундерс. Слава Богу, их здравый смысл городских (а в прошлом богемных) жителей со стажем забраковал ее с первого взгляда.
22 мая
Проснулся в пять утра от расстройства желудка. Сидел в длинной комнате, уставясь в одно из маленьких окон на восточной стороне. Только-только рассвело. И вдруг огромная спелая хурма поплыла над Хайгейтским лесом. Я смотрел на нее сквозь стекла, круглую, с дрожащей кромкой, оранжевую и необъятную. Из-за какого-то оптического каприза ее нижняя часть, будто, как прежде, удерживаемая горизонтом, вытягивается перевернутой каплей. На правом ее плече черная родинка; еще дремлющее солнце виснет над невозмутимыми серыми кронами пробуждающихся деревьев. Самые чарующие цвета, самая чарующая форма; и ненарушимая тишина вокруг, между мною и солнцем только воркуют голуби и снуют стрижи; вся мощь, вся природа, затаившись, трепещет, будто беременная женщина, – самое прекрасное зрелище, какое предстало мне за многие месяцы.
28 мая
Завтра отбываем в Грецию. Последние дни – суматошные, напряженные, бестолковые, нервные и пустые; но наконец-то мы чувствуем какую-то радость от предстоящей поездки. Сегодня утром я навестил Св. Годрик: в комнату набилось полным-полно девушек-иностранок, запасшихся книгами, чтобы получить автограф. Милые, кроткие, искрящиеся жизнью создания, относящиеся ко мне и к моей книге как к чему-то простому и здоровому – словно мы мать и ребенок; насколько же это лучше тех нервных конвульсий, какие неотделимы от существования литератора в Англии.
6 августа
Начали приходить американские рецензии – большей частью очень одобрительные. Но книгу так часто истолковывают превратно: никому не приходит в голову воспринять ее как параболу, как речение Гераклита; а ведь такой она задумывалась.
Сценарная разработка «Коллекционера», сделанная Джоном Коном, почти без исключений, так плоха, что я читал ее, не веря собственным глазам. Изменения в сюжете, счастливый конец и прочее – все это я готов принять. Но того, что напрочь изменены характеры, до неузнаваемости смещены мотивировки их поступков, а хуже – искажены все мои идеи, – я перенести не могу. Не говоря уже о ряде американизмов, какие вложены в уста моих бедных персонажей-англичан…
9 августа
Мы заготовили длиннейший перечень возражений; и я сочинил письмо.
Уважаемый Джон Кон!
Это очень трудное письмо, и читать его будет тоже нелегко. Но суть его вот в чем: даже со скидкой на все соображения кассового характера и специфику экрана Ваша разработка во многих местах представляется крайне неадекватной.
Пожалуйста, не думайте, что я не оцениваю по достоинству Ваши усилия и все мысли, какие Вы и Стенли Манн отдали данной работе. Мне понравилось очень многое из того, что Вы придумали в визуальном плане, а также – это ключевой момент – то, что в общем и целом Вы избавились от тех персонажей и сюжетных ситуаций, от которых и надо было избавиться.
Можем ли мы, во имя Господа, в будущем вместе поработать над сценарием? Насколько я понял, Вы не считаете меня достаточно компетентным помощником; однако, имея на экране дело с таким сюжетом, как этот, Вам придется быть максимально последовательным и точным в визуальных деталях, мотивации персонажей и диалогах. Если же попытаться суммировать все мои критические замечания к Вашей разработке в одном слове, то вот оно: она неправдоподобна, в ней просто не сходятся концы с концами с точки зрения английского (или любого иного) смысла.
Позвольте мне в заключение заметить, что мое разочарование не было бы столь велико, не будь у Вас за плечами такой прекрасной экранизации, как «Дотянуться до славы».
Так вот. Простите, если можете, все резкие слова (такова моя «первая реакция»); они продиктованы стремлением помочь Вам достичь лучшего. Вы хотите сделать хороший фильм, я тоже хочу, чтобы фильм был хорошим. Может быть, имеет смысл подступиться к нему с разных концов?
Арчи Огден, впрочем, думает, что этим контрактом меня «взяли за горло»: они могут просто послать меня ко всем чертям. И пошлют, если я отправлю письмо. Поэтому он намерен переговорить с ними и попытаться убедить, чтобы меня взяли в долю – подчистить концы в сценарии. Как бы то ни было, сам он считает, что ребята справились неплохо: решили «действительно сложную проблему». Определенная трудность заключается в том, что между английским и американским воображением лежит пропасть. Даже такой интеллектуальный американец, как Арчи, кажется мне недостаточно тонким, с удивительной легкостью мирящимся с видимой неуклюжестью и выпрямленностью сценария. В конечном счете это вопрос не интеллекта, а вкуса: им нравится, когда все намеки раскрыты, под всеми умолчаниями подведена черта, а символику заталкивают прямо в глотку аудитории. Англичанам свойственно недоговаривать, американцам – говорить слишком ясно. (Лекция закончена.)
14 августа
Два дня в Ли – отвратные, полные с трудом сдавливаемой тошноты. Все больше прихожу в исступление от тупости тех, кто меня окружает: моих родителей. М. раздражает меня до такой степени, что уже спустя пару часов по приезде я не могу смотреть ей В глаза: к О. я по крайней мере испытываю некое подобие симпатии и жалости, хотя его взгляды на литературу и писательское ремесло так провинциально-викториански идиотичны, что мне приходится крепко держать язык за зубами.
Хотя Ли, не исключено, лишь соль на уже растравленную рану. Ибо я на распутье, обуреваемый таким множеством страхов и такой тошнотой, что сосредоточиться невозможно; весь мой успех в Америке ничего не значит – во всяком случае, не доставляет удовольствия. Честно говоря, мне до смерти надоел «Коллекционер», и мысль о необходимости еще раз продираться сквозь его дебри (в ходе написания сценария) побуждает меня задаться вопросом, не кончится ли это психушкой. Я уже забыл, что такое отдых и душевный покой, – и в этом плане каникулы в Греции ничем мне не помогли. То были два месяца, проведенных в вакууме, а теперь наступила пора вернуться к реальности – ровно на то же место, на каком я был в конце мая.
Главная причина этого душевного раздрая – чувство неудовлетворенности стихами и «Аристосом». Перспектива издания тех и другого ныне так же нереальна, как и до «Коллекционера». Меня неправильно понимают, превратно истолковывают, принижают. Само собой, это гордыня – гордыня проповедника в узилище. Но все чаще и чаще я чувствую, что выхожу из-под контроля – иными словами, корабль не внемлет гласу разума. Я – то, что исподволь диктуется моими навязчивыми идеями и глубинными импульсами, а не то, что подсказывает мне рассудок. За блестящим фасадом теснятся темные коридоры; команды поступают из тени, а не с ярко освещенных мостков.
Когда мы с Элиз на пару часов вырвались из родительского дома, в Ли выдался странный момент умиротворения. Мы присели в саду у публичной библиотеки, глядя на тихое течение реки. И там я почувствовал, что у меня достанет сил пережить, переупрямить всю эту лихорадочную возню вокруг успеха, боль от непонимания, неуверенность в том, что смогу написать что-нибудь не хуже. Но это был только проблеск чего-то бесконечно дальнего, миг, который вспыхнул и тут же погас.
Вся тяжесть этого, и в Ли, и в Лондоне, падает на плечи Элиз. Подчас она оказывается стеной между мной и моим безумием, распадом, утратой уверенности в себе; и тогда от нее исходят – возвращаясь путем какой-то невообразимой трансформации – здравомыслие и терпение, некогда присущие мне.
В саду в Ли увидел ежа. Хотел поймать его, а в результате только травмировал бедного зверька, застрявшего под изгородью. Он не сворачивался в клубок, не пытался скрыться, а лишь лежал на боку, выставив наружу одну розовую лапку, тусклый черный глаз укоризненно выглядывал из-под иголок. Я выбранил себя за то, что прибегнул к силе, – за то, что поддался инстинкту старого азартного охотника. На следующее утро еж исчез; но этот урок я должен принять к сведению.
20 августа
Том Мэшлер:
– Мэри Хемингуэй[757]757
Имеется в виду Мэри Уэлш (1908–1986) – четвертая и последняя жена Эрнеста Хемингуэя; они сочетались браком в 1946 г.
[Закрыть] попросила меня слетать (в Америку) разобрать рукописи Папы. Больше никому она не доверяет.
Абсурд: вообразите кузнечика, оценивающего Стравинского. Правда, Том при этом добавляет:
– Одному Богу известно почему, – и еще что-то в таком духе.
Каждый раз, когда мы встречаемся, он нравится нам все больше, а его неугомонность, суетная озабоченность собственной репутацией – иудейские миро и уксус.
Последние четыре-пять дней сражаюсь со сценарием: два долгих совещания на Уигмор-стрит и три дня в одиночестве в собственной квартире (Элиз в Бирмингеме). Странные дни: по восемнадцать часов кряду переписываю худшие куски диалогов (те, что не взяты из романа), и внезапно вся троица: Пастон, Миранда и Клегг – вновь оказывается со мной. Необыкновенное состояние, в котором тобою же придуманные персонажи кажутся столь реальными, что пропадает всякая охота сидеть за пишущей машинкой: ведь можешь видеть и слышать их, просто расхаживая по комнате.
А следом мне пришлось встретиться с другой (не столь реальной) троицей из компании «Блейзер филмз»: Джоном Коном – возможно, и либералом, но подернутым такой коростой должностного самомнения по-голливудски, таким природным отсутствием тонкости, что его либерализм близок к нулю; Джадом Кинбергом – приятным, обходительным человеком, но при этом чем-то вроде пустого места; и Стенли Манном – этаким комком тугих нервов, вне сомнения, умным, но лишенным творческого начала, поднаторевшим в искусстве подгонять оригинальные произведения под заданный шаблон. Манн более или менее на моей стороне, Кинберг занимает выжидательную позицию, а Кон активно против: ему нужны трюки, нарастающее напряжение, двухмерные персонажи и хеппи-энд.
Я читал вслух свои куски диалогов. Некоторые им понравились, другие нет – Кону не понравилось почти ничего. Язык на этих сценарных посиделках преобладает жесткий и ненормативный: «Ну ладно, хочет он уложить в постель эту чертову шлюшку, а она, эта маленькая сучка, не дает ему»; «Послушай, твоя упрямая целка выпендривается…» И так далее. Что привело мне на память один из романов о войне – «Обнаженные и мертвые», переполненный непечатной лексикой. Наш разговор тоже изобиловал матерщиной, и в этом проступило что-то неуловимо сходное: в конце концов, мои собеседники столько времени думали о фильме, перепробовали столько вариантов, что его герои основательно потрепались и у них появились шрамы, как у солдат в ходе военных действий.
Однако и Кинросс, и Мэшлер считают, что я делаю ошибку, вообще связываясь с ними – особенно не оговорив заранее финансовую сторону. Но в ситуациях такого рода я уверен, что поступаю правильно. Если в картине найдет место хотя бы половина тех корректировок, с которыми они на словах согласились, игра уже стоит свеч. Я способен распознать нечистого, когда он передо мной; и уж он-то не обведет меня вокруг пальца.