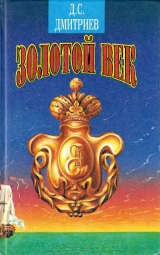
Текст книги "Золотой век"
Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 49 страниц)
LXXXI
Долго Пугачев не спускал своего злобного взгляда с Серебрякова, он как бы наслаждался смущением молодого офицера, который молча стоял перед ним.
– Знакомый человек, здорово! – насмешливо промолвил Пугачев.
– Здравствуй!
– Изменять мне задумал; с моим воинством сражался. Повесить бы давно тебя следовало, да Чика за тебя стоял горой.
– Что же, вешай, тебе не привыкать губить человеческую жизнь.
– Петли, барин, тебе не миновать.
– Что же ты медлишь?
– Успеешь; повешу, когда придет время. Не спеши. И этого изменника тоже повешу, – проговорил самозванец, показывая на Мишуху Трубу.
Дворовый парень нисколько не растерялся и смело стоял перед Пугачевым.
– За что вешать? Ни барин, ни я и не думали тебе изменять, – оправдываясь, проговорил Труба.
– А против меня, своего «ампиратора», осмелились поднять оружие.
– И не думали, тебе на нас облыжно сказали. Ни я, ни барин…
– Оставь меня, Михайло, не оправдывай. Смерть меня не страшит и оправдываться перед самозванцем не буду, – прерывая Трубу, с достоинством проговорил Сергей Серебряков.
– Молчать! Не то клещами прикажу вырвать твой проклятый язык!
– Злодей, злодей, – с презрением проговорил Серебряков.
– Сразу вас я не повешу, а придумаю другую муку, страшную… Пусть все видят, как я расправляюсь с изменниками! Гей, уведите этих предателей, до утра я дарую им жизнь, а завтра с ними будет моя расправа! – обращаясь к своим приближенным, проговорил Пугачев, показывая на беднягу Серебрякова и на Мишуху Трубу.
Мятежники крепко привязали к телеге Серебрякова и Мишуху Трубу так, что они не могли ни сесть, ни лечь.
В таком ужасном положении они должны были провести день и ночь; у них ломило руки, ноги, кружилась голова.
Солнце палило Серебрякова и Мишуху; им как-то невольно пришлось пожалеть, что злодей-самозванец отложил до утра их казнь: смерть избавила бы их от той муки, которую пришлось им терпеть.
Спасения они себе ниоткуда не ждали.
– Как бы я желал теперь умереть, – тихо проговорил бедняга Серебряков; от сильной жары его начинала морить жажда.
– Жаль мне тебя, барин, крепко жаль, а помочь нечем, да и не можно… проклятые мятежники так скрутили меня, что двинуться не могу, – со вздохом промолвил Мишуха Труба.
И на самом деле, его так скрутили, что веревки впились ему в тело и причиняли нестерпимую боль.
– Пить… хоть бы дали каплю воды; в горле все пересохло…
– Ох, сердечный мой, не дадут злодеи, и просить нечего.
– А пить страшно хочется… Если вы, люди, веруете во Христа, утолите мою жажду, – голосом, полным мольбы, проговорил Серебряков, обращаясь к проходившим мимо двум казакам.
Казаки остановились.
– Ты воды просишь? – с ноткой участия спросил у Серебрякова один из казаков.
– Да, я умираю от жажды…
– Принес бы я тебе целый ковш воды, да боюсь без разрешения… на это надо царское разрешение испросить…
– Ну, не надо… за разрешением не ходи…
– Почему не ходить, схожу… «царь»-то вон он, кажись, сюда идет… так и есть.
– Какой он царь, – с презрением промолвил бедняга Серебряков.
– А кто же?
– Вор и самозванец…
– Смолкни, не моги так говорить, не то тут тебе и смерть будет.
– Что же, пусть, я рад буду смерти.
К телеге, к которой были привязаны Серебряков и Мишуха Труба, подошел Пугачев.
Казак передал ему просьбу «осужденного на казнь» Серебрякова.
– Что же, принеси им пить, а если есть попросят, то дайте им и есть.
Сердобольный казак принес Серебрякову ковш холодной воды и из своих рук напоил Серебрякова.
– Спасибо, спасибо, – голосом, полным благодарности, проговорил казаку Серебряков, утолив свою жажду.
Пугачев близко подошел к телеге и махнул рукою своей «свите» и казакам, чтобы они отошли от телеги.
– Что, барин, сладко ли тебе, а? – с злобной усмешкой спросил самозванец у Серебрякова.
– Ты, видно, измываться надо мною пришел.
– А ты слушай-ка, что я молвлю… Не жалостлив я, тебе чай ведомо, что народу я удавил и удушил, страсти… и ни к одному из повешенных не было у меня жалости… а тебя, барин, мне жалко…
– Спасибо за жалость, – промолвил на слова самозванца Серебряков с горькой улыбкой.
– Ступай ко мне на службу, я тебя награжу большим чином.
– На твои слова что прежде тебе отвечал, то и теперь отвечу: я слуга ее царского величества императрицы Екатерины Алексеевны; самозванцу же никогда слугой не был и не буду.
– Ну, ладно… пожалуй, мне твоей службы не надо… я освобожу тебя от казни за то, что ты при всем моем «войске» назовешь меня «ампиратором» Петром Федоровичем и как царю поклонишься мне.
– Никогда, – твердым голосом ответил Серебряков.
– Ну, если так, то готовься к виселице и пеняй на себя… Теперь уже Чика не спасет тебя. А ты, парень, тоже смел мне изменить! Я доверял тебе, а ты, дьявол, над моим доверием насмеялся… Вас бы обоих прежде чем повесить, надо бы предать лютой муке, пытке, да возиться с вами, чертями, мне недосуг; и тебя прикажу повесить, – грозно обратился Пугачев к Мишухе Трубе и отошел от телеги.
Летний жаркий день давно окончился; был поздний вечер. В стане самозванца Пугачева давным-давно спали казаки и мятежники.
Только не спали одни сторожевые, они медленно и равномерно расхаживали около цепи.
Огни давно были погашены, и непроницаемый мрак царил кругом.
А в дорогом шатре у Пугачева было светло от горевших на столе восковых свеч в высоких серебряных иодсвечниках; шатер был большой и убран дорогими коврами, парчой и бархатом.
Сам Пугачев сидел в золоченых креслах; эти кресла возили, носили повсюду за самозванцем; в них он чинил свой «суд и расправу», и отдавал бесчеловечное приказание казнить несчастных, попавших к нему в руки.
Теперь в этих креслах сидел Емелька Пугачев перед своею женой Софьей. Убитая горем, с глазами, полными слез, стояла бедная женщина пред своим мужем-самозван-цем.
– Ох, Емельян, Емельян, далеко ты залетел… Смотри, не сорвись… Одумайся, пока время есть… Беги в степи, укройся там… Тебе ли с царицею бороться… Беги, говорю, – с глубоким вздохом проговорила Софья; – она все еще продолжала жалеть своего мужа, а любить его бедная женщина уже больше не могла…
Любовь к злодею-мужу она давно уже вырвала из своего сердца, растерзанного им.
– Поздно теперь бежать, поздно… Надо играть вовсю, что будет – то и будет; возврата нет. Если бы ты, Софья, пришла ко мне с советом пораньше, в ту пору, может, я и послушал бы тебя… А теперь, знаешь ли, голова моя оценена дорого… На пощаду мне нет надежды, – мрачно ответил на слова жены Пугачев. – Сам я никому пощады не давал, и мне надеяться на пощаду нечего; кровь за кровь, – добавил он.
– Брось свою шайку и беги в степь, там легко тебе укрыться.
– А ты все еще жалеешь меня, Софья?
– Да, только жалею.
– И на том спасибо; еще больше скажу тебе спасибо, когда ты научишь детей наших за меня, преступного отца, молиться.
– Они и то за тебя молятся.
– Где ты жить думаешь? – после некоторой задумчивости спросил у жены Пугачев.
– И сама не знаю, в твоей я воле нахожусь…
– Хочешь, живи здесь, в моем стану.
– Уж лучше отпусти ты меня.
– Куда же ты пойдешь?
– Где-нибудь найду себе приют… жить здесь, Емельян, мне невмоготу… измучилась я, глядя на твое житье…
– Думается мне, Софья, что скоро конец настанет моей вольной жизни. Будет, погулял я на белом свете; есть чем вспомянуть свою жизнь.
– Добром, Емельян, нельзя вспомянуть.
– Были и у нас, Софья, светлые, радостные дни…
– Давно это было, Емельян; давно прошло.
– А все же ты и теперь мне жена.
– Прежде была я твоей женой, а теперь я тебе чужая, совсем чужая.
– Как чужая?
– Да так. У тебя есть другая жена, молодая, красивая, а я что…
– Та не жена мне.
– А кто же?
– Так, наложница…
– Чай, ты в церкви с ней венчался…
– А ты спроси, кто венчал меня с Устиньей. Ну, да что про то говорить… Хочешь, мол, Софья, живи в моем стану, обиды тебе ни от кого не будет; никто обидеть тебя не посмеет, только ты не моги говорить, что моя жена. Я покуда царь Петр Федорович. Знай, что с царством мне придется скоро проститься. А пока, мол, меня принимают еще за царя.
– Может и принимали прежде, только не теперь. Перестали, Емельян, тебе верить.
– И сам это я знаю, – хмуро проговорил Пугачев; он знал, что жена говорит правду.
Казаки и мятежники перестали ему верить; они теперь тяготились Пугачевым; хоть были у него приверженцы, только их осталось немного.
Пугачев догадывался и сознавал, что дни его мятежной жизни сочтены и скоро придется ему расплачиваться за свои злодеяния.
– Опять тебе скажу, Емельян, спасайся, пока есть время. Брось все и беги, иначе ждет тебя гибель.
– Свое «воинство» я не брошу и никуда не побегу, а если надо будет продать мне свою свободу, а с ней самую жизнь, то не дешево я продам ее.
Едва только самозванец проговорил эти слова, как быстро откинулся полог шатра и вошла Устинья.
Глаза у красавицы сверкали гневом, лицо было бледно от волнения, высокая грудь тяжело дышала.
– Устинья! – с удивлением воскликнул Пугачев.
– Да, я… не ожидал?..
– Как смела войти в мой шатер без моего на то приказа? – грозно проговорил самозванец.
– Что больно грозно, «царь»? – насмешливо проговорила Устинья; на слове «царь» красавица сделала ударение.
– Зачем пришла?
– Посмотреть и ознакомиться с твоей – женой законной, венчаной.
– Ее не тронь, Устинья.
– За что ее трогать, она не виновата. Ты один, злодей, виновен предо мной. Ты погубил меня, обманул… От живой жены на мне женился! Ты над честным венцом надругался и за свое беззаконие сторицею будешь проклят от Бога и от людей. И я тебя, погубителя, кляну страшной клятвой. Будь ты проклят! – громко и грозно проговорила Устинья; ее красивое лицо было искажено от страшной злобы, глаза метали искры; в таком виде она была прекрасна.
Устинья неотлучно находилась при Пугачеве, у ней был свой шатер.
Она не только ненавидела, но даже презирала самозванца, который так безжалостно разбил ее молодую жизнь, похитил счастье.
Она несколько раз порывалась бежать, но, к несчастью, ее догоняли; Пугачев безжалостно хлестал свою жену, «благоверную царицу Устинью Петровну», нагайкой.
Устинья все больше и больше его ненавидела.
У ней как-то родилась мысль убить Пугачева, чем избавит себя от постылого мужа, а русскую землю от страшного возмутителя.
«Убью сонного; задушу его своими ласками… Силы у меня хватит, вопьюсь руками в шею и задушу. За всех отомщу ему, злодею, отомщу за себя, за Васильюшку, отомщу и за всю землю Русскую, за всех убитых и замученных им. Рука у меня не дрогнет… Может, сама погибну, зато Русь от возмутителя избавлю», – таким мечтам часто предавалась красавица.
Устинья стала выжидать удобного случая к выполнению задуманного.
До нее дошел слух, что в стане появилась первая, настоящая жена Пугачева, с двумя детьми, и что она в шатре у самозванца Пугачева.
Устя, в страшном гневе, решилась обличить Пугачева в двоеженстве и, спрятав в кармане нож, пошла в шатер к постылому мужу с твердым намерением отомстить ему, если удастся.
– Уйди, Устинья, а не то… – крикнул Пугачев, глаза у него заблестели недобрым огоньком.
– Убьешь меня, что ли… убей, злодей, я рада буду смерти.
– Пошла, дура, в свой шатер и спи, не то опять плети у меня отведаешь.
– А если так, вот же тебе, убивец, – вне себя от гнева красавица Устя бросилась на Пугачева; в руках ее сверкнул нож.
Убив Пугачева, она тем оказала бы ему немалую услугу: избавила бы его от страшной казни, которая ждала злодея; Пугачев был силен, ловок, он скоро вырвал нож из рук жены, сбил ее с ног и, несколько раз ударив по лицу, громко позвал стражу и, показывая на несчастную Устю, спокойно проговорил:
– Стащите царицу в ее шатер, она вне себя.
И на самом деле красавица не вынесла нравственной пытки и впала в беспамятство.
Ее вынесли.
Пугачев как ни в чем не бывало продолжал прерванный разговор со своей первой женой, – ему жаль было детей, в нем проснулся отец.
– Сделай так, Софья, чтобы дети меня не презирали и за разбойника не почитали, ты умная, растолкуй им все, объясни…
– Нет, Емельян, пусть лучше они ничего не знают, не надо им объяснять, кто и что ты, их отроческие души чистые.
– Но ведь мои дети знают, что я по роду простой казак, а зачем я стал называться царем, для чего, они не знают.
– И не надо, Емельян, не надо… лучше им ничего про то не говорить.
– Как знаешь… Только, когда меня не станет в живых, а сие скоро будет, ты научи наших детей молиться за мою душу грешную… их чистая, детская молитва доходчива до Бога, – проговорив эти слова, Пугачев незаметно смахнул слезу, появившуюся на глазах.
Зверство Пугачева в этот миг уступило место человечеству.
– Молятся за тебя дети теперь, молиться не перестанут, когда тебя и в живых не будет, – тихо ответила ему Софья. – Ну, Емельян, мне пора, я чуть свет выйду из твоего стана, прощай!..
– Прощай, жена… прощай, Софья… За все прости мне, Христа ради!., лихом меня не поминай… Прости! – проговорив эти слова, Пугачев встал и низко, чуть не до земли поклонился своей первой жене.
– Бог простит… Меня, Емельян, прости, – Софья сама также низко поклонилась Пугачеву.
Потом они обнялись и поцеловались.
LXXXII
Наступило утро.
Солнце величаво всплыло из-за горизонта и своим ослепительным блеском осветило проснувшуюся землю; все ожило, задвигалось…
Птицы-вольные пташки первыми приветствовали своим разнообразным пением восходящее светило и наступающий день.
Этот день, казалось, последним будет в жизни Сергея Серебрякова и его спутника Михайлы Трубы. Оба они обречены злодеем Пугачевым к повешению… Как они провели ночь?
Что вытерпели и перенесли они в эту ужасную ночь, стоя прикрученными к телеге…
Их не пугал страшный час казни: оба они были верующими и в свой предсмертный час молились Богу.
Пугачев, проводив свою жену и детей из стана, мрачным подошел к телеге с привязанными Серебряковым и Трубою.
– Что, барин, хочешь мне служить или нет? – мрачно спросил Пугачев у Серебрякова.
– Нет, – твердым голосом ответил тот.
– А ты? – обратился Пугачев к Мишухе Трубе.
– И я тоже.
Дворовый парень решил лучше умереть, чем служить самозванцу и быть изменником.
– На сук обоих, – злобно прохрипел самозванец, показывая на Серебрякова и Трубу.
Трое мятежников, заменявшие у Пугачева палачей, быстро отвязали от телеги пленных и повлекли их к растущей одиноко старой березе, сучья которой заменяли Пугачеву виселицу.
Две длинных веревки с петлями переброшены были через сучья.
Серебрякова и Мишуху Трубу, не потерявших в этот ужасный час присутствия духа, подвели к веревкам и, прежде чем накинуть на них петлю, посмотрели на Пугачева, выжидая его последнего приказа.
– Вершайте! – глухо проговорил самозванец, махнув рукою.
Один момент – и офицер Серебряков с дворовым Мишухой были бы повешены.
Но казнь невольно была остановлена: в стане мятежников-пугачевцев произошел большой переполох, суета.
– Государь, спасайся, гусары! – кто-то крикнул Емельке Пугачеву.
Пугачев быстро вскочил на коня и вихрем полетел из своего стана, спасаясь от гусар отряда храброго полковника Михельсона.
Многочисленный отряд гусар с пиками наперевес быстро приближался к стану мятежников.
За Пугачевым бросилась спасать себя и его многочисленная шайка.
Казаки, заменявшие у Пугачева палачей, бросили свои жертвы и, не желая попасть в руки гусар, со всех ног кинулись за шайкой.
Сергей Серебряков и Михайло Труба так и остались с веревками на шее; смертельно бледные, с удивлением смотрели они, что делается в стане пугачевцев.
Остались только Серебряков и Михайло Труба, и ни одного мятежника не видно было.
Гусары бросились преследовать мятежников по следам.
Сам же полковник Михельсон и небольшой отряд гусар заняли стан Пугачева.
– Михайло, что же это значит? Мы живы, нас не повесили? – осматриваясь по сторонам, дрожащим голосом проговорил Серебряков, обращаясь к своему спутнику.
– Шивы, барин… нас Бог спас!.. – сбрасывая с шеи веревку, весело проговорил Михайло Труба.
– Что же все это значит?
– А вот что… гляди-ка, барин, никак наши гусары идут сюда? – сказал Серебрякову Мишуха Труба, показывая ему рукою на приближавшихся гусар.
– И то, и то… Вот кого Бог послал для нашего спасения…
Сергей Серебряков и Михайло Труба не помня себя от радости пошли навстречу гусарам.
Впереди своего отряда ехал Михельсон. Он заметил наших путников и, принимая их за мятежников-пугачевцев, грозно крикнул:
– Сдавайтесь, иначе я прикажу в вас стрелять.
– Охотно сдаемся и просим вашего покровительства, господин полковник, – ответил вежливо Серебряков полковнику Михельсону.
– Как, вы, будучи мятежниками, просите у меня покровительства? – удивился и рассердился Михельсон.
– Вы, господин полковник, нас за мятежников принимаете?.. Не так ли? – спросил Серебряков.
– А кто же вы?
– Я офицер, а это дворовый князя Полянского, – ответил Серебряков, показывая на Мишуху Трубу.
– Вот как… давно ли русские офицеры стали носить мужицкие армяки?..
– Я офицер… Можете мне верить и не верить, господин полковник.
– Нужны к тому доказательства…
– У меня оно есть, господин полковник.
– Какое?
– Я вам покажу… Только не теперь.
– Ты, любезный, хочешь меня провести и если сейчас же не докажешь, что ты не мятежник и не изменник, то я прикажу тебя и этого парня расстрелять! – сердито крикнул Михельсон, показывая на Мишуху Трубу.
– Господи, что же это за напасть – едва спаслись от петли, как хотят расстрелять, – чуть не со слезами воскликнул бедняга дворовый.
– Господин полковник, выслушайте меня… – умоляющим голосом промолвил Серебряков. – Я постараюсь разъяснить, доказать свою невиновность.
– Ну, пожалуй… только скорее.
Офицеру Серебрякову пришлось в свое оправдание рассказывать то, что он уже ранее рассказывал князю Голицыну и генералу Ларионову.
Серебрякову пришлось еще прибавить, как он во второй раз попал в руки Пугачева и как тот предлагал ему вступить к нему на службу, угрожая в противном случае казнью.
Михельсон выслушал Серебрякова и, когда он окончил, спокойно проговорил:
– Словам я не верю… мне нужно доказательство.
– Ну, если вы, господин полковник, не верите моим словам, то я покажу письмо государыни императрицы, которое она изволила мне вручить для передачи графу Румянцеву-Задунайскому.
Проговорив эти слова, Сергей Серебряков показал Михельсону письмо государыни; его молодой офицер хранил, как святыню, в течение многих месяцев.
Серебряков думал, что достаточно показать ему письмо императрицы, адресованное к нашему главнокомандующему на Дунае, чтобы убедить Михельсона в своей невиновности, но полковник этим не удовлетворился.
– Письмо это не доказывает вашу невиновность, напротив, еще больше, государь мой, ее увеличивает, – холодно заметил Михельсон Серебрякову, отдавая ему письмо.
– Как! – удивился молодой офицер.
– Вы должны были бы давным-давно передать сие письмо по назначению, а вы не удерживаете.
– Но что же мне было делать, господин полковник, когда меня схватили и в течение нескольких месяцев держали под замком, как какого колодника, арестанта?
– Впрочем, относительно письма, врученного вам ее величеством, дело не мое… вы за него сами ответите… Что вы не были мятежником-пугачевцем – пожалуй, я этому поверю. Но все же, государь мой, я вынужден вас и вашего слугу держать до времени под арестом. Об вас я должен послать в военную коллегию рапорт, и до получения ответа на сие вы будете находиться под арестом, – голосом, не требующим возражения, проговорил полковник Михельсон и отдал приказ «задержать» бедного офицера Серебрякова и дворового князя Полянского.
И, по воле злой судьбы, Сергей Серебряков очутился опять, вместе с Мишухой Трубой, под арестом.
– Что же это, за что эти мытарства? За что гонения? Неужели так всю жизнь злодейка судьба будет меня преследовать? – чуть не с отчаянием воскликнул молодой офицер, очутившийся опять под арестом.
– Погоди, барин, не все же будем мы вести такую жизнь, будет когда-нибудь и на нашей улице праздник, – утешал его Мишуха Труба.
– Нет, так больше жить нельзя – я… я не вынесу… лучше смерть…
– Что ты говоришь, барин.
– Да, да, лучше смерть… чем такая жизнь.
– И всему виною ваш киязь, – мрачно проговорил Мишуха Труба.
– За меня он отдаст ответ и Богу, и своей совести.
– Наш князь искупит свою вину, загладит ее перед тобою, бария, – только бы нам до Москвы добраться.
– Как же доберемся, если мы под арестом, – возразил Серебряков Мишухе.
– Не все же, барин, станут держать нас под замком, выпустят же когда-нибудь.
– Ох, Михайло, выпустят ли?
– В неволе не будут держать. Пошлют рапорт в Питер, а оттуда придет приказ выпустить тебя на волю. В ту пору мы и пойдем с тобою в Москву-матушку, к князю Платону Алексеевичу в гости.
– Скоро ли это, Михайло, будет?
– Скоро, барин, – с уверенностью проговорил Мишуха Труба.
Но предположения дворового князя Полянского не сбылись. Из Петербурга, по прошествии недель двух-трех, пришел ответ относительно Сергея Серебрякова, далеко не в его пользу; Серебрякова указано было «немедленно под строгим караулом доставить в Петербург, а дворового парня князя Полянского, Михайлу, по прозванию Труба, выпустить на волю, как не имевшему никаких улик к обвинению его в сообществе с Пугачевым».
И вот злополучного Серебрякова повезли в Петербург, в простой телеге, под конвоем трех солдат, с ружьями, а Мишуха Труба побрел один в Москву с отчетом в своих действиях и поступках к своему господину. Ему не дали хорошенько и проститься с Серебряковым.
Императрица Екатерина Алексеевна с своим двором пребывала в Москве.
Приехала она в конце шестой недели Великого поста, присутствовала в Успенском соборе при всех богослужениях Страстной седмицы, а также и всю Пасхальную неделю.
Великая монархиня с своим народом встретила Светлый день.
По православному обычаю христосовалась не только со своими приближенными, но даже удостоились этого некоторые из народа.
Радость у москвичей была неописанная. Забыто было и так недавно постигшее Москву страшное горе: моровая язва, унесшая в могилу не одну тысячу москвичей, также забыли и про неистовства Емельки Пугачева и его мятежной шайки.
Ликовали москвичи, прославляя свою царицу, мудрейшую из женщин.
С императрицей прибыл в Москву и Григорий Александрович Потемкин, один из приближенных к императрице лиц, пользовавшийся огромным влиянием. Теперь перед Потемкиным все преклонялись, слава его была упрочена.
Княжна Наталья Платоновна, во время пребывания государыни в Москве, находилась при ней как фрейлина.
Редкая красота княжны, кажется, за последнее время расцвела еще более; она была весела, мила, хоть временами облачко грусти виднелось на ее лице. Княжна Наташа не могла забыть Сергги Серебрякова, которого она продолжала любить своей играно чистой любовью.
Прошло немало времени, как она рассталась с Серебряковым, не зная, где он, что с ним? Она не знала даже, жив ли Серебряков.
Неизвестность участи возлюбленного очень часто повергала княжну в печаль и вызывала на ее прекрасные глаза слезы.
Перед отцом и теткой она не хотела выказывать свою печаль; старалась при них казаться всегда веселой.
Как-то раз, к немалому удивлению княжны, про офицера Серебрякова заговорил с нею сам князь Платон Алексеевич.
– Наташа, ты не забыла того офицера? – как-то медленно спросил у княжны ее отец князь Платон Алексеевич.
– Какого, папа?
Княжна Наташа с удивлением посмотрела на отца; она никак не ожидала такого странного вопроса.
– Серебрякова не забыла? – переспросил князь.
Наташа вспыхнула и молчала, наклонив свою красивую головку.
– Что молчишь, Наташа?
– Папа…
– Не забыла, вижу… любишь…
– Дорогой папа, я… я не знаю… может, его давно и в живых нет?
– А если Серебряков жив?
– Вы это знаете, папа?
– Допустим, знаю… Ты, Наташа, рада этому будешь? – пристально посматривая на дочь, спросил у ней князь Платон Алексеевич.
– Папа, не скрою от вас… да, буду рада, – чуть слышно ответила княжна.
– Ты продолжаешь любить Серебрякова, я это вижу… Ты не думай, Наташа, что это будет мне неприятно… Я… я не могу насиловать твои чувства… ты можешь любить его.
– Что я слышу, милый папа! – радостно воскликнула княжна.
– Да, да… Повторяю, я не могу запретить тебе это, ты вольна в своих чувствах…
Княжна Наташа с удивлением глядела на отца. Она не могла не удивляться перемене, происшедшей с ним.
Прежде отец запрещал и думать о Серебрякове, а теперь дозволяет ей даже его любить. Что же все это значит? Что за перемена?
Этот разговор отца с дочерью произошел вскоре после того, как князь Платон Алексеевич послал Мишуху Трубу в стан к мятежникам-пугачевцам с поручением отыскать Серебрякова и привезти его в Москву.
Прошло немало времени, а Мишуха Труба не только с Серебряковым, но даже и один не возвращался.
Князь Платон Алексеевич решил, что его верного слуги, вероятно, нет в живых, злодей Пугачев, видно, его повесил; если бы Мишуха был жив, то непременно вернулся бы… Может, и Серебрякова постигла та же участь…
«Наверное так… и его смерть черным пятном падет на мою совесть… Через меня погиб офицер. В его смерти буду я ответчиком и перед Богом и перед совестью», – так часто думал князь Полянский, предаваясь раскаянию.
До князя Платона Алексеевича доходили слухи, что Пугачев с своими мятежниками потерпел несколько поражений и что недалек тот день, когда Пугачева возьмут наши солдаты живым или мертвым.
Ждали окончательного истребления пугачевцев.
С большим нетерпением поджидал этого и князь Платон Алексеевич; ему хотелось скорее узнать о судьбе Серебрякова.
Время шло, но никаких известий о нем не было.
«Погиб, непременно погиб… и все через меня».
Теперь уже князь считал Серебрякова окончательно погибшим.
До князя Полянского дошел слух, что Пугачев взял штурмом Казань и покушался завладеть кремлем, но храбрый Михельсон с своими гусарами помешал ему выполнить это.
Также до князя дошло печальное известие, что Александр Ильич Бибиков неожиданно скончался, не довершив возложенного на него государыней поручения. Непритворными слезами оплакал князь храброго и честнейшего генерала.
– Со смертью Бибикова Россия потеряла многое. Место, которое занимал Александр Ильич, останется незанятым… и злодея Пугачева теперь не скоро усмиришь. Хоть генералов у нас много, а такого, как покойный Бибиков, нет… Бибиков мешал многим, вот его и убрали, – так проговорил князь Платон Алексеевич, обращаясь к находившемуся у него в гостях Потемкину, который по приезде в Москву стал часто бывать в княжеском дому, хоть сам князь и не особенно был рад такому гостю.
«Выскочка, баловень фортуны – не больше», – так говорил князь Полянский про Потемкина и все-таки его у себя принимал.
– Как, князь Платон Алексеевич, вы не верите, что генерал Бибиков умер естественной смертью, от простуды? – спросил с удивлением Потемкин.
– Не верю, не верю…
– Что же, по-вашему, Бибиков умер от отравы?
– От отравы или от чего другого, только не своею смертью.
– Вы в этом, князь, уверены?
– Почти…
– А показание врачей, которые лечили покойного Бибикова, и окружавших его лиц идут, князь, вразрез с вашим мнением.
– Может быть… но я останусь при своем мнении.
– Мне, князь, и самому хотелось бы дознаться истины, – после некоторого молчания проговорил Потемкин. – Смерть Бибикова огорчила императрицу.
– Вся Русь о том скорбит… повторяю, потеря незаменимая.
– Да, да, я с вами, князь Платон Алексеевич, вполне согласен… На место действия теперь отправлен Суворов.
– Он очень храбрый и деятельный генерал…
– Еще бы, еще бы, я кой-что слыхал про Суворова. Чего стоит его победа над поляками… Если Суворов примется за дело, то злодею Пугачеву плохо придется…
– Не нынче завтра шайки Пугачева будут разбиты и сам он или будет убит, или взят в плен.
– Дай Бог! Дерзость сего злодея превыше всяких мер: сколько крови, сколько жертв…
– Ваша казанская вотчина, князь, кажется, злодеем выжжена и опустошена?
– Что значит, Григорий Александрович, опустошение моей усадьбы в сравнении с бедствием других.
– Всякому дорого свое; кстати, князь, до сведения императрицы дошло, что вы в своей казанской усадьбе держали под арестом, или, сказать попросту, под замком какого-то офицера, я фамилию его забыл; этот офицер взят был Пугачевым, состоял у него в писарях и в числе других мятежников взят князем Голицыным, отправлен им к главнокомандующему Бибикову. Бибиков, кажется, не нашел в офицере вины и приблизил его к себе. Во время штурма Пугачевым Казани офицер исчез, вероятно, сошелся опять с Пугачевым.
Потемкин говорил это медленно, пристально посматривая на князя Полянского.
– Я… я не знаю, про какого офицера вы говорите, – с большим смущением ответил князь Платон Алексеевич.
– Я, право, забыл его фамилию… Серебрянский, что ли, Серебряный… Но дело, князь, не в том; у этого офицера было письмо от императрицы к графу Румянцеву-Задунайскому, письмо очень важное; императрица запомнила фамилию офицера, которому изволила вручить письмо для передачи. Офицер, оказывается, князь, тот самый, которого вы держали под замком в усадьбе.
– Кто же на меня донес? – слегка дрожащим голосом спросил князь Полянский у Потемкина.
– Никто, князь, не делал на вас доноса…
– А как же про то узнала императрица?..
– Из рапорта князя Голицына… И вот я, чтобы проверить… решился сделать вам несколько вопросов…
– Прежде, генерал, чтобы отвечать на ваши вопросы, я сам спрошу у вас…
– Пожалуйста, пожалуйста…
– Как мне на вас смотреть прикажете, как на судью, что ли, который может, даже должен вопросы мне чинить, или как на не в меру любопытного гостя… – оправившись от смущения, уже твердым голосом проговорил князь Платон Алексеевич.
– Смотрите на меня, князь, как на исполнителя воли ее величества государыни…
– Вот что… Вот уже до чего дошло!..
– Только, пожалуйста, князь Платон Алексеевич, не смотрите на меня, как на своего недоброжелателя… Все, что от меня зависит, я готов для вас сделать…
– В вашей помощи, генерал, я покуда не нуждаюсь… Отпираться не буду, офицера Серебрякова я, точно, держал в своей казанской усадьбе, а за что – про то я отвечу одной императрице. Не смея утруждать ее величество, я постараюсь все изложить письменно, на сие и прошу соизволения у моей монархини, – с достоинством проговорил князь Полянский и встал, давая тем понять гостю, что разговор с ним окончен.
– Пожалуйста, князь, не претендуйте на меня и верьте в искренность моего расположения к вам и к вашей семье, – ответил Потемкин.
На эту любезность князь Платон Алексеевич ничего не ответил Потвхмкину. Он был сильно расстроен, да и на самом деле князь очутился в неловком положении: перед императрицей он должен дать ответ, и ответ строгий, в поступке с Серебряковым, должен оправдываться.
– Вот когда заварилась каша… Как мне оправдать себя перед государыней? Что я скажу, какое найду оправдание? Поступок мой с Серебряковым низок, гадок, я сознаю сам… Я не знал, что у него есть какое-то письмо государыни. Боже, что я наделал? Как-никак, а оправдываться надо… Что же, напишу все государыне. Пусть наказывает и милует… Ничего скрывать не буду.








