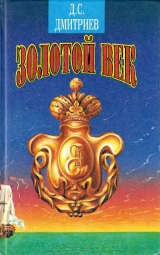
Текст книги "Золотой век"
Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
LXXII
Офицер Серебряков стал украдкой видеться с мужиком Демьяном и с дворовым Мишухой Трубой.
Виделись они ночью, когда разбойники-пугачевцы спали; днем, при встрече, они все трое и виду не показывали, что знакомы друг с другом.
Бесчинство, разгул, бесшабашное пьянство и всякий день новые казни происходили в стане Емельки Пугачева.
Пленных, которые отказывались служить ему, Пугачев приказывал вешать без разбора; нередко казни подвергались женщины и ни в чем не повинные дети.
Ни к кому не было жалости у злодея Пугачева; он спокойно смотрел на мучения несчастных.
Во время казни офицер Серебряков никуда не выходил и сидел в горнице, чтобы не слышать стонов и не видеть предсмертных судорог повешенных.
Сердце у Серебрякова обливалось кровью в благородном негодовании на злодея-самозванца; он не раз думал освободить свое отечество от этого кровожадного зверя, пристрелить его или зарубить саблею; но благоразумие удерживало его от этого: рисковать своею жизнью он не хотел.
У Серебрякова после разговора с Михалкой Трубой явилась надежда на не совсем еще потерянное счастье.
«Может, нам удастся бежать… Я доберусь до Москвы, потребую отчет у князя Платона Алексеевича… Вишь, он хочет мне дать удовлетворение, какое я хочу… я откажусь от всех удовлетворений… я все прощу охотно князю, если княжна Наталья станет моей женой», – таким размышлениям часто предавался молодой офицер, выжидая случая бежать.
Но случай этот не представлялся; напротив, теперь за Серебряковым удвоили надзор; Чика был хотя и на его стороне, но сам Пугачев не доверял молодому офицеру и давно бы его повесил, если бы не Чика.
А своего «первого министра» Емелька уважал и во многом советовался с ним и доверял ему.
– Что ни говори, Чика, а не по нраву мне твой секретарь… Хитрит он с нами, и рожа у него хитрая… того и гляди сбежит от нас… насмеется над нами, – так однажды мрачно проговорил Пугачев своему «первому министру».
– Небось, государь, не убежит. Меня он не проведет, я за ним смотрю в оба…
– Смотри, Чика, не прогляди. Лучше было бы, если бы ты повесил своего секретаря.
– Это самое, государь, мы успеем сделать с ним, когда хотим. Рук наших он не минует… Нужный он человек, а то давно бы его повесил, – проговорил Чика в ответ Пугачеву.
– Я тебе, Чика, за твою верную службу подарил этого офицеришку, делай с ним, что хочешь, в твоей он воле, а все же мой совет его повесить…
– Успеем, государь, повесить… Говорю, офицер в наших руках.
– А все-таки надзор за ним надо иметь строгий… слышишь?
– Слушаю, государь.
И вот Чика удваивает надзор за бедным Серебряковым, за ним всюду следят казаки-стражники.
При первом покушении на побег Серебрякова его пристрелили или повесили бы.
Теперь о побеге Серебрякову и его сообщникам – мужику Демьяну и дворовому Мишухе Трубе до более удобного времени и думать было нечего.
Дела Пугачева были теперь не так хороши и удачны, как прежде.
Оренбург не думал о сдаче и, имея небольшую охрану, все же отражал многочисленные толпы мятежников.
Пугачевская шайка начинала редеть. Пьянство и неурядица между Пугачевым и его приближенными стали отзываться и на всех мятежниках; начался ропот и непослушание.
Между казаками явилось недовольство на Пугачева, вызванное казнью «храброго и отважного» казака Васильки.
Васильку любили и уважали.
Пугачев отдал приказ повесить без суда этого общего любимца.
За что Пугачев обрушился своим страшным гневом на Васильку?
А вот за что.
Как-то раз самозванец вздумал навестить молодую жену и, оставив под Оренбургом свою ватагу, отправился к жене в городок, не предупредив ее о своем приезде.
Пугачев, своею скотскою любовью полюбив красавицу Устю, во многом ей «мирволил»; он хорошо знал, что жена его не любит, про то она откровенно ему сказала; Емелька на это мало обращал внимания.
«Теперь не любит, после полюбит, я добьюсь любви Устиньи, – по доброй воле не полюбит, силою заставлю любить меня», – так раздумывал самозванец дорогою к своей молодой жене.
Была уже глубокая ночь, когда он подъехал к дому, где жила Устя.
В Яицком городе давным-давно спали; нигде не видно было огонька. И тишина кругом стояла могильная.
Приехал Пугачев один, без своей «свиты».
У ворот дома жены он не увидал сторожевых казаков, иначе – «почетную стражу».
– Ишь, черти, дрыхнут, завтра отведают у меня плетей. Хорошо же стерегут они покой моей жены-царицы, – вслух проговорил самозванец, слезая с своего коня.
Он хотел было постучать в калитку, но калитка оказалась незапертой.
Пугачев послал отборную брань по адресу своего тестя Кузнецова, исполнявшего при своей дочери «царице» и при самом Пугачеве должность «министра двора».
– Погоди же, старый черт, я не погляжу, что ты мне тесть, прикажу тебе всыпать плетей полсотни, в ту пору будешь у меня вести порядок и как следует охранять царицу.
Ночь была темная-претемная, и Пугачеву пришлось чуть не ощупью идти по двору, чтобы добраться до крыльца. В общей темноте он заметил, что в одном из окон дома слабо мерцает огонек; он подошел к окну; дом был в одно жилье, и Пугачеву нетрудно было разглядеть, что делается в горнице, но окно чем-то было занавешено.
«Кажись, это окно выходит из спального покоя Устиньи. Неужели она не спит, огонь виден?» – подумал самозванец и хотел было уже отойти от окна, как до его слуха долетели голоса; в одном нетрудно было ему узнать голос жены, а другого он не знал.
– С кем это, глядя на ночь, Устинья вздумала разговаривать? А может, со своей фрейлиной или с какой-нибудь придворной дамой. Только, кажись, голос-то не бабий, – тихо проговорил Пугачев; он подошел еще ближе к окну и стал прислушиваться.
И вот что услыхал он у окна.
– Эх, Устя, сердце мое. Чего ждать, бежим скорей отсюда, благо самозванца проклятого, твоего постылого мужа, нет, – убедительно, любовно и ласково говорит ей чей-то голос.
– Куда же, милый, мы бежим? – спрашивает Устинья.
– Божий свет велик, найдем, голубонька, себе счастливое местечко где-нибудь.
– Боюсь я, Васильюшка…
– Чего, серденько мое?
– Ну, Пугач нас догонит!
– Где ему догнать; я припасу лихих коней и умчу тебя, голубонька, за тридевять земель.
– Что же, Васильюшка, я не прочь бежать от постылого мужа, только дай мне подумать.
– Что думать, серденько, завтра соберись.
– Уж больно скоро, Васильюшка.
– Откладывать, Устя, не надо, пока время есть, собирайся; прихвати с собой что поценнее – и гайда со мной.
Пугачев далее не стал слушать, он все понял и освирепел; он пошел в избу, где мирно спала «почетная стража», пинками и кулаками разбудил их.
Впросонках казаки-сторожевые никак не могли понять, как в их избе очутился «батюшка царь» и за что он их бьет.
– Дай срок, дьяволы, завтра вы завертитесь у меня под плетьми. На виселицу вас, проклятых, как паршивых собак передавить! – грозно кричал на оторопелых казаков Пугачев.
– За что, государь? – спросил один из казаков посмелее других.
Здоровенная пощечина, от которой едва устоял бедный казак, была ему ответом.
– Где Кузнецов? – спросил Пугачев.
Он был страшен, лицо у него то бледнело, то краснело, глаза налились кровью, и сам он весь дрожал, как в лихорадке.
– Спит давно, – ответили ему.
– Разбудить его, пса! Идите за мной да прихватите веревок.
Повелительно проговорив эти слова, Пугачев вышел из избы и тихо направился к дому жены; он хотел застать врасплох Устинью и ее полюбовника, лихого казака Васильку.
Казаки в безмолвии последовали за Пугачевым, не зная, зачем он их ведет «к царице».
Пройдя сени и остановившись у двери, которая вела в горницу жены, Пугачев остановился и, обращаясь к казакам, тихо проговорил:
– Стойте здесь и ждите моего зова.
А сам он пошел к двери и рванул ее; дверь оказалась запертой изнутри.
– Царица Устинья Петровна, Устя, отвори! – громко проговорил самозванец, постучав в дверь.
Послышался шорох, испуганные сдержанные голоса, потом все стихло.
– Отвори, не то велю дверь ломать! – уж грозно крикнул Пугачев.
– Кто стучит, кто смеет нарушать мой царский покой? – послышался недовольный голос Устиньи.
– Я, скорей отпирай!..
– Да кто ты?
– Иль по голосу меня, мужа-царя, не признала?
– Да неужели это ты? – притворно-удивленным голосом воскликнула молодая женщина, отпирая дверь.
Пугачев не вошел в комнату своей жены, а как зверь вбежал туда и стал с налитыми кровью глазами осматривать горницу.
– Что с тобой, царь, что это ты на ночь глядя пожаловал? – проговорила с трудом красавица Устя; голос у нее дрожал, как ни старалась она казаться спокойной.
– Где он, где? – заглядывая во все углы, даже под кровать, грозно спросил, у молодой жены Пугачев, задыхаясь от злобы и ревности.
– Кто, кто?..
Красавица была бледна как смерть.
– Твой полюбовник!..
– Что ты, царь, говоришь?..
– Не притворяйся, змея, убью!
– Что же, убей, тебе не привыкать проливать кровь невинную.
Молодая женщина несколько оправилась от испуга и неожиданности, она умела владеть собой и теперь, в самую критическую минуту, хотела побороть весь свой ужас и быть спокойной.
– Сказывай, проклятая, куда, где укрыла своего полюбовника! А, в окно улизнул, дьявол, не убежать ему от моей мести, поймаю! – дико крикнул Пугачев и выскочил в сени.
Спальная горница Усти была угловая, и два окна выходили на двор, а третье – в переулок, глухой и узкий. Это окно Пугачев увидел открытым и понял, что Васюк, спасаясь, выпрыгнул из него.
– К моей жене-царице забрался вор… изловите его; живым или мертвым притащите ко мне! – повелительно приказал самозванец сторожевым казакам, ожидавшим его приказаний.
Казаки ринулись со всех ног в конюшни и скоро верхами бешено поскакали по следам Васюка.
Ретив был конь у Васюка, не поймать бы его ни за что, если бы конь не оступился и не полетел в овраг, находившийся около дороги, увлекая за собой и лихого наездника.
Погоня подоспела; Васюка вытащили из-под коня, который сломал себе одну ногу; молодой казак принужден был покориться силе и был связан; казаки неохотно это сделали, – они любили Васюка и не верили, чтобы он был вором.
– Васюк не вор, им никогда он не был; не падок он до чужого добра, потому у Васюка своего немало… Может, он и вор – только женской чести… Царь, видно, застал его у своей жены-красотки и, чтобы скрыть от нас, казаков, свой стыд, вором его назвал, – так рассудил один старый казак, находившийся в числе других в погоне за Васюком.
Скрутили и повели беднягу Васюка на суд к Пугачеву.
А у того короток был суд: «до утра держать под замком в сарае, а утром повесить».
Емелька Пугачев не хотел постыдной огласки, что у его молодой жены есть полюбовник, спешил отделаться от Васюка… и едва только стало рассветать, как лихой казак-бо-гатырь был повешен на перекладине ворот того дома, в котором жила «царица» Устинья Петровна.
Из окон Устиньиной горницы видно было, как с петлей на шее болтался ее «милый, сердечный друг Васильюшка» с искаженным от страшной смерти лицом.
По поводу этой казни между казаками, как уже сказали, был сильный ропот:
– Уж больно крут стал царь.
– И не говори, так рвет и мечет!
– Нашего брата-казака стал вешать без суда и разбора.
– У него короткий суд…
– Разве это суд!
– Надо, братья-казачество, маленько поукротить царя-то…
– Известно надо…
– Из-за бабы казака повесил…
– Василько в воровстве царь обличил.
– Какое в воровстве… Станет Василько воровать… К Устинье Петровне он в горницу залез… Вот царь-то и озлобился на Васильку.
– За это дело всяк муж озлобится.
– Не женись на молодой девке…
– Устинья – огонь девка!..
– Сказывали царю, не женись, не послушал.
– И пусть теперь на себя пеняет.
– А что он с своей «царицей-то» сделал?
– Известно, по головке не погладил…
– Сказывают, бил ее долго и больно…
– Хорошо, что не убил совсем.
– И убьет, если попадет ему под сердитую руку. И тестя своего, «министра двора», говорят, царь так лупцевал плетью, что, слышь, слег старик.
– Какой он царь! – вступил в разговор с своими товарищами один старый казак.
– А кто же он?
– Иль не знаете? Если не знаете, то скоро узнаете! – проговорив как-то таинственно эти слова, старый казак умолк и замешался в толпу казаков, изъявлявших свое неудовольствие на Пугачева за казнь Васильки.
Появился Пугачев мрачный и злобный; переговаривавшиеся казаки смолкли и разошлись, унося в своих сердцах недружелюбие и недоверие к «императору» Петру Федоровичу.
Пугачев в порыве злобы хотел было убить Устинью, уличив ее в неверности, но раздумал и, не делая огласки, «маленько поучил ее», хоть это ученье «маленькое» уложило Устинью Петровну в постель на целых три месяца.
Теперь она еще более возненавидела своего постылого мужа-самозванца. Досталось от Пугачева и тестю, Петру Кузнецову: необузданный и злобный Емелька до тех пор бил его плетью, пока старик не упал без чувств.
Разделался Пугачев и с другими «чиновными особами», приставленными им для охраны «благоверной царицы» Устиньи Петровны, за то, что они не блюли ее и допустили «вора» влезть в окно ее горницы.
Самозванец поставил к жилищу своей жены новую стражу с приказом, под смертной казнью, за ворота не выпускать «царицу», и ускакал из городка под Оренбург с твердой надеждой взять приступом этот город.
LXXIV
В взволнованном Пугачевым крае дела принимали все более и более худой оборот: ожидали возмущения всего Яицкого края; башкирцы тоже волновались. Пугачев подкупил их старшин, и они стали нападать на русские селения и присоединяться к мятежникам. Служивые калмыки бежали. Другие инородцы, как то: мордва, чуваши и черемисы тоже возмутились и перестали повиноваться правительству.
Нечего говорить про крестьян: они целыми ватагами перебегали к самозванцу Пугачеву.
Губернаторы: оренбургский – Рейнсдорп, казанский – фон Брандт, симбирский – Чичерин и астраханский – Кречетников не знали, что делать, что предпринимать, потому что мятеж становился почти общим во вверенных их управлению губерниях. Они известили государственную военную коллегию о мятеже и просили вспомогательного войска.
Тяжелые обстоятельства того времени благоприятствовали беспорядкам.
Наши войска находились в Турции и в возмутившейся Польше.
Приказано было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга и Новгорода спешить в Казань. Начальство над этими отрядами поручено было генерал-майору Кару. Но он, видя, что ему не подавить и не одолеть мятежа, оставил армию и уехал в Москву, чем навлек на себя большую немилость государыни. Его заменил Бибиков.
На другой день праздника Рождества Христова, в морозную ночь, Александр Ильич, как уже мы сказали ранее, с большими уполномочиями, данными ему императрицей, прибыл в Казань.
Губернатор фон Брандт и прочие городские власти, а также и местные дворяне встретили Бибикова.
Александр Ильич был мрачен.
– Для чего вы дали Пугачеву так усилиться? Неужели вы не могли совладеть со злодеем вовремя? – как-то невольно вырвалось у него при взгляде на губернатора.
Брандт молчал понуря голову.
Бибиков с губернатором отправились в особую комнату для совещания. Совещались долго, и, когда Брандт уехал, Бибиков вышел к собравшимся властям, к командирам и офицерам, громко проговорил:
– Государи мои, я, право, не знаю, в своем ли уме губернатор или он его потерял. Что у него за план для истребления Пугачева?.. Он советует мне просить защитить границу Казанской губернии и не пропускать самозванца в оную. Да разве Оренбургская и прочие губернии не принадлежат России и государыне? Злодея должно истреблять во всех местах одинаково, и я, при помощи Божией, при вашем содействии, надеюсь подавить смуту и воздать должное злодею-самозванцу.
Эти слова ободрили не одних только присутствующих, но все население города Казани.
Бибиков принялся энергически за свои дела, от этих дел он почти не знал отдыха.
Вот как описывал положение дел Бибиков:
«Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что и описать буде б хотел, не могу; вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботах, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская, делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он один исправить может своею милостию. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера: батальон гренадер и два эскадрона гусар, что я велел везти по почте, прибыли. Но к утушению заразы сего очень мало, а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело и как было поспевать всюду трудно. Со всем тем с надеждою на Бога буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик губернатор Брандт так замучен, что насилу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови и погибели множества людей невинных, кто скоростию перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем, я здоров; только ни пить, ни есть не хочется и сахарные яства на ум не идут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию нередко поминаю. Ух! дурно!» [7]7
Из писем А. И. Бибикова к жене.
[Закрыть]
Администрация края была в плохом состоянии, и в местах, где еще не было бунта, господствовал полнейший беспорядок. Генерал фон Брандт, человек честный, но старый, не мог уследить за злоупотреблениями и удержать своих подчиненных от произвола, нарушения закона и лихоимства.
– Что за причина, – спрашивал его однажды Бибиков, – что вы так нерешительны стали в делах своих и все идет у вас навыворот, нет строгости и никакого взыскания с подчиненных? Я знал вас прежде за человека энергичного и справедливого.
Из сего разговора и немцу трудно было вывернуться, однако же Брандт пытался оправдаться.
– Что же мне делать и кого на места определять? – говорил он. – Все меня обманывают.
– Да вы бы приказали, – заметил Бибиков, – присматривать за порядком хотя бы к своим товарищам.
– Как это можно? – отвечал добродушно Брандт. – Если я сам не поеду по губернии, то и ни один из них не поедет.
Такие порядки были не в одной Казанской губернии, но и в большинстве правительственных учреждений тогдашнего времени. «Воеводы и начальники гражданские, – писал Бибиков князю Вяземскому, – из многих мест от страху удалились, оставя города и свои правления на расхищение злодеям». Коменданты, секретари и прочие деятели покидали свои места и бежали задолго до угрожающей им опасности. Край оставался без правителей, без защиты, и Бибикову приходилось прежде всего вступать в борьбу с чиновниками, борьбу едва ли не более трудную, чем с мятежниками. Не полагаясь на местную администрацию, необходимо было призвать деятелей извне и поручить им создание заново совершенно разрушенного порядка. Бибиков предвидел это еще в Петербурге и потому отправился в Казань с большою свитой, в которой были люди лично ему известные своею энергией и храбростью. Впоследствии в его распоряжение посланы были князья Щербатов и Голицын, полковник Михельсон и командированы полковники, бывшие с ним в Польше и отличившиеся под его начальством. В ожидании их прибытия Бибиков принужден был прибегать к полумерам и за недостатном, главнейшим образом, кавалерии, не мог воспрепятствовать дальнейшему развитию бунта. Последний охватил всю Оренбургскую губернию, и главнейшие города: Оренбург, Яик, Уфа, Кунгур и Челябинск были обложены мятежниками; что происходило в этих пунктах, в Казани ничего не знали. Все инородцы (киргиз-кайсаки, калмыки и башкиры) и большинство рабочих с пермских заводов перешли на сторону самозванца [8]8
Н. Дубровин.
[Закрыть].
IXXV
– Ну, барин, теперича скоро конец нашему мытарству, – счастливым голосом проговорил мужик Демьян, обращаясь к Сергею Серебрякову, который все еще находился в должности секретаря у Чики и жил в его «кибитке».
– Уж я совсем, Демьян, отчаялся, – с глубоким вздохом ответил ему молодой офицер.
Серебряков, находясь в ужасном положении, чуть не пришел в отчаяние; он ниоткуда не ждал себе помощи, надежда на побег тоже мало его радовала, потому что он считал его почти невозможным.
«Первейший министр, граф Чернышев», так называл самозванец Чику Зарубина, как уже сказали, зорко стерег Серебрякова.
– Зачем отчаиваться, барин, грех! Надо на Бога уповать, – наставительным тоном проговорил Демьян.
– Тяжело мне, Демьян, больно тяжело.
– Знаю, барин, не легко, да что поделаешь, такова, видно, есть твоя судьбина, терпеть приходится… А ты полно, барин, горевать, спасение наше близко.
– Откуда, Демьян, видишь ты спасение?
– Как откуда? Да разве ты не видишь, что происходит в стане у самозванца?
– А что такое?
– А то, что недалеко то время, когда злодея-самозванца и всю его ватагу царицыно войско перебьет, всех в плен заберут… Пугачев и вся его сволочь головы повесили, ходят, ровно курицы мокрые… «Енерал» Бибиков память у них отбил… В стане у самозванца раздоры пошли… драки, пьянство…
– Когда ты бежать-то задумал? – спросил задумчиво у Демьяна Серебряков.
– А вот выберем ночку потемнее да и бежим. Слышал я, барин, Пугачев не нынче-завтра на приступ пойдет к Оренбургу со всем своим проклятым воинством… Вот мы в ту суматоху-то и убежим.
– Нелегко это сделать…
– Знаю, барин, нелегко. А Бог-то батюшка на что? Он нам поможет. А ты, барин, готовься, мол… И Мишухе я сказал… и его оповестил о побеге.
– А что его не видно?
– Слышь, при самом Пугачеве наш Труба находится… в свою свиту взял его самозванец.
– Вот как.
– Орел, а не парень Мишуха Труба! Провалиться – как он ловко провел Пугачева! Слышь, в доверие к нему вошел, в милость… Он тоже говорит, что самое подходящее время нам для побега, когда самозванец к Оренбургу на приступ пойдет… Он на приступ, а мы бежать… Так, что ли, барин, а? – спросил у Серебрякова мужик Демьян.
– Мне что же? Как вы, так и я, – как-то безучастно ответил офицер; он мало надеялся на успех задуманного побега.
– Известно, барин, чтобы, значит, сообща, все вместе.
– Я хоть сейчас готов.
– Сейчас невозможно. Тепереча разбойники на тебя во все глаза смотрят, а вот ночью иное дело. А ты, мол, барин, будь готов. Этой ночью не удастся, убежим завтра. Пугачев хитер, дьявол; не говорит, когда на приступ пойдет.
Положение Оренбурга было ужасное.
От осады Пугачева город терпел большую недостачу в провизии, у жителей отбирали муку, крупу и другие съестные припасы и стали выдавать всем поровну и умеренно, потому у одного было много заготовлено хлеба, а у другого совсем не было; за неимением коровьего мяса ели лошадиное; куль муки продавали за двадцать пять рублей; стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешали в хлебы; следствием этого начались болезни, жители роптали, боялись мятежа; несмотря на все это, Оренбург Пугачеву взять было трудно и самозванец не решался на приступ.
В то время в оренбургском остроге сидел в оковах известный злодей, под именем Хлопуша, который более двадцати лет разбойничал в тех местах. Хлопушу три раза ловили, судили, наказывали, ссылали в Сибирь, и он три раза находил способ бежать с каторги.
Губернатор Рейнсдорп вздумал было посредством Хлопуши повлиять на Пугачева, т. е. послать с ним увещевательные грамоты, обещая за это Хлопуше помилование.
Хитрый разбойник клялся исполнить губернаторский приказ; его отпустили, вручили ему увещевательные грамоты, с которыми он и отправился в стан Пугачева.
Разумеется, Хлопуша не вернулся к губернатору, остался у Пугачева и был им обласкан и «произведен в полковника».
Хлопуше хорошо был известен край, на который он так долго наводил ужас своими разбоями. Пугачев поручил ему грабеж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал доверие самозванца: он с небольшой ватагой разбойников пошел по реке Сакмаре, стал возмущать окрестные селения, дошел до уральских заводов и переслал оттуда Пугачеву пушки, ядра, порох и умножал свою шайку недовольными мужиками и башкирцами.
Пугачев, наводивший страх и ужас на Оренбург и грозивший взять этот город приступом, принужден был отступить от Оренбурга.
Бибиков направил большую армию к Оренбургу. Генерал князь Голицын со своим корпусом загородил мятежникам московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга; генералу Мансурову дали назначение прикрывать Самару; генерал Ларионов отряжен был к Уфе. Для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова был послан с большим отрядом гвардии поручик Державин, впоследствии известный поэт.
Пугачеву приходилось плохо. Под Оренбургом он потерпел страшное поражение от князя Голицына. Голицын разделил свое войско на две колонны и стал приближаться к крепости Татищево, которая находилась в руках Пугачева. Открыли сильный огонь по мятежникам, из крепости отвечали также выстрелами. Более трех часов не прекращалась канонада с обеих сторон. Князь Голицын, видя, что пушечными выстрелами не возьмешь крепости, отдал приказ генералу Фрейману с левой колонной идти на приступ. Пугачев встретил их пушечными выстрелами. Фрейман отнял все пушки.
– Братцы-солдаты, – кричали мятежники, – что вы делаете? Вы идете драться и убивать свою братию-христиан, защищающих истинного своего Государя Императора Петра III, который здесь в крепости сам находится.
Но эти слова не произвели никакого впечатления на солдат.
Мятежники дрались отчаянно, но принуждены были уступить и бежали во все стороны. Конница бросилась их преследовать, поражая по дорогам.
Кровопролитие было ужасное. В одной крепости было убито более тысячи трехсот мятежников.
Почти на пространстве двадцати верст лежали тела их. Не дешево и Голицыну досталась эта победа: у него выбыло из строя до четырехсот человек убитыми и ранеными, в том числе более двадцати офицеров.
Победа над Пугачевым была решительная: тридцать шесть пушек и более трех тысяч пленных мятежников достались победителям. Пугачеву приходилось куда плохо, ему пришлось спасаться бегством.
– Что же это! Неужели все потеряно? И моим красным дням настал конец? – задумчиво проговорил Пугачев.
– Бежать надо, царь-батюшка: беги, спасайся! – говорили ему мятежники.
– А вы что?
– И мы за тобой, – ответили Пугачеву.
И вот он с шестьюдесятью казаками сумел пробиться сквозь наши войска и только с четырьмя казаками, остальные были убиты, – прибыл в Берды.
Во время осады Татищевой крепости в ней находились также офицер Серебряков, дворовый Михайло Труба и мужик Демьян.
За несколько дней до штурма Голицыным крепости Пугачев и Чика взяли их с собою, и план их побега, к сожалению, этим был расстроен.
В числе мятежников были взяты в плен и они. Напрасно Сергей Серебряков, а также Труба и Демьян уверяли, что они не мятежники, – им не поверили и заперли всех троих в крепости, в небольшом сарае, до произношения над ними суда и расправы.
И по воле судьбы бедняга Серебряков очутился опять в заключении.
Когда крепость была очищена от мятежников, стали сортировать пленных.
Дошла очередь и до Сергея Серебрякова, Демьяна и Мишухи.
На Серебрякове был мундир гвардейского офицера, хоть довольно поношенный, а поверх мундира был надет простой полушубок, потому что стояла зима и начинались сильные морозы.
Серебряков требовал, чтобы его свели к главнокомандующему.
Волей-неволей доложили о нем князю Голицыну.
Суровым взглядом окинул главнокомандующий вошедшего Серебрякова и грозно у него спросил:
– Кто ты? изменник?
– Вы ошибаетесь, князь, я офицер и верный слуга ее величества, – с достоинством ответил Сергей Серебряков.
– Верный слуга ее величества находился между тем в Пугачевской шайке; кажись, непристойно русскому офицеру, притом гвардейцу, быть вместе со злодеем-самозван-цем, – не без иронии заметил Серебрякову князь Голицын.
– Прежде чем судить меня, бросать каменьями, вы бы спросили, ваше сиятельство, как я попал в разбойнический стан.
– К чему допрос? Измена ясна, и вы, господин офицер, будете расстреляны.
– Как, князь, без суда?
Бедняга Серебряков изменился в лице.
– Без суда предавал казни только один злодей Пугачев… Вы завтра будете судимы военным судом, приговор которого мне заранее известен, – сухо промолвил князь Голицын.
– Я прошу вас меня выслушать.
– К чему? Я знаю, вы станете оправдываться, уверять в невиновности, но я не поверю вам.
– Это, князь, жестоко.
– Может быть, но эта жестокость вызвана изменой.
– Я… я не изменник, клянусь вам.
– Повторяю, я вам не верю.
– Господи, что же мне делать, что делать? Как оправдать себя, как смыть с себя ужасное пятно, которое вы, князь, кладете на меня? – со слезами воскликнул Серебряков.
Этот крик горя и отчаяния, вырвавшийся из измученной груди молодого офицера, наконец тронул князя Голицына.
– Хорошо, я готов, господин офицер, выслушать ваше оправдание, извольте говорить.
Серебряков в коротких словах передал, как он очутился в стане мятежников, т. е. как он сидел в заключении в усадьбе князя Полянского, как на эту усадьбу напали пугачевцы и увели его с собою, как предлагали ему служить Пугачеву, – в противном же случае угрожали повесить.
– Пугачев вешал без разбора всех, как же он пощадил вас, за что? – прерывая рассказ Серебрякова спросил у него князь Голицын.
– За меня заступился его приближенный Чика, – не без смущения ответил молодой офицер.
– Чика? Слышал я и про этого злодея; по своим злодеяниям он ничем не уступал Пугачеву. Почему сей злодей был вашим заступником, господин офицер? – подозрительно продолжал свой допрос князь Голицын. Он сомневался в невиновности Серебрякова.
– Вы не верите мне, князь, и признаете все еще за изменника?
Молодой офицер, проговорив эти слова, печально поник головой.
– Ваше оправдание детски наивно; вы рассказываете, что князь Платон Алексеевич Полянский, которого я глубоко уважаю, держал вас в своей усадьбе в заключении, а за что – не говорите?
– Для вас, князь, все равно.
– Для меня – может быть, но не для закона.
– Что же, прикажите меня расстрелять…
– Этого я не сделаю, а прикажу вас отправить к главнокомандующему в Казань.
– К генералу Бибикову, – обрадовался Серебряков.
– Да, а вы его знаете?
– О, да, я глубоко уважаю военные заслуги его превосходительства Александра Ильича.
– Тем лучше, вы завтра же будете отправлены, извините, под конвоем, в квартиру главнокомандующего, – сухо проговорил князь Голицын и приказал увести Серебрякова.








