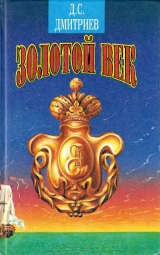
Текст книги "Золотой век"
Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 49 страниц)
XLIII
Как-то мрачно выглядывает большой каменный дом князя Платона Алексеевича Полянского в его лесной вотчине, которая находится на крутом, обрывистом берегу Волги, в нескольких верстах от Казани.
Дом этот, хоть и большой, но какой-то странной архитектуры, похожий или на средневековой замок, или на острог.
К дому примыкал огромный сад, спускавшийся прямо к Волге.
Как сад, так и двор окружены были каменным забором, или, скорее, оградой, высокой и толстой. Ворота и калитка были из толстого железа.
С трех сторон княжеский дом окружен был вековым лесом. Дом этот построен уже не одно столетие назад и отличался своею неприступностью.
Предок князя Платона Алексеевича Полянского во время Иоанна Васильевича Грозного участвовал с царем во время похода на Казань.
Своею храбростью и мужеством, а также своею распорядительностью над дружиной он приобрел особую милость и расположение царя Иоанна Васильевича.
И когда Казань пала от русского оружия, царь в благодарность сделал Полянского первым воеводой.
Князь Аника Полянский с царского разрешения выбрал на крутом, красивом берегу место и приказал построить из камня себе дом для летнего жилища.
Дом этот в течение двухвекового своего существования несколько раз переделывался и принимал совершенно другой вид.
Князь Платон Алексеевич унаследовал казанскую лесную вотчину от своего деда, князя Семена Григорьевича Полянского.
Князь Семен Полянский почти всю жизнь прожил безвыездно в этой усадьбе и отличался своею жестокостью с крестьянами и холопами, особенно же страдали от него дворовые.
Грубое обращение с дворовыми унаследовал от деда и князь Платон Алексеевич, но только не в таком размере.
Князь Семен Полянский за всякую провинность наказывал жестоко, а за более важные провинности сажал в каменные со сводами подвалы, сделанные вроде тюрьмы, с маленькими отдушинами, или оконцами, в которые едва мог проникнуть дневной свет.
Оконца эти находились почти на земле; пролезть в оконце заключенному и думать было нечего: в него едва могла пройти только рука, так оно было мало.
В таком-то подвале решил было морить офицера Сергея Серебрякова, «своего ворога лютого», князь Платон Алексеевич, но после некоторого размышления в нем заговорило человеческое чувство, и это чувство отвлекло его от жестокости.
В верхнем жилье каменного дома находилась отдельная небольшая горница с окном, железною решеткою, служившая кладовою, а прежде эта горница служила тюрьмой для молодой жены-красавицы князя Семена Полянского.
Жестокосердый старик муж в течение нескольких лет, до самой смерти, морил там свою молодую жену, княгиню Евпраксию Ильинишну, приревновав ее к своему крепостному садовнику.
По словам старожилов казанской вотчины, садовник этот, по имени Иванушка, а по прозванию Кудряш, был красоты неописанной: статный, рослый, широкоплечий, богатырь богатырем, белолицый, румяный, волосы на голове – чесаный лен, взгляд орлиный, поступь молодецкая, а песню запоет своим звонким чистым голосом, так та песня в душу проникала.
Дивовался народ: в кого княжеский садовник Иванушка Кудряш уродиться мог? Уж вот пословица-то правдива: «Не в мать, не в отца, а в прохожего молодца».
Мудреного не было, что молодая княгиня променяла своего старого, жестокого ворчуна-мужа на красавца садовника.
Сказывали, горькими слезами обливаясь, выходила Евпраксия Ильинишна за старого немилого мужа; вишь, отец и мать, казанские бояре, к тому ее неволили.
И стала боярышня Евпраксия, княгиня молодая, со старым, немилым жить, кляня свою судьбу злосчастную, что погубила ее молодую жизнь девичью.
А тут Иванушка Кудряш подвернулся, полюбила его княгиня молодая и началась у ней жизнь новая.
Перестала княгиня Евпраксия плакаться на свою судьбу: долго ли любили они друг друга, но только про их любовь проведал как-то грозный князь Семен.
И что тут было! Что произошло… от одного воспоминания волос дыбом становится у старожилов княжеской усадьбы.
Что вынесла бедная княгиня Евпраксия! Какая мука, какое страдание обрушились на нее от жестокосердого мужа! И очутилась она в верхней горнице под замком.
Князь Семен Полянский убил бы жену, да боялся огласки и ответственности; осудил он ее на вечное заточение.
После суда над женою стал он судить и женина полюбовника, Иванушку Кудряша.
Несчастный садовник умер под плетьми… Его молодое, упругое тело буквально было рассечено на куски…
А какую пытку страшную перенес Иван Кудряш!..
Грозный князь Семен Полянский в изобретении сей пытки превзошел даже Малюту Скуратова.
Добивался князь узнать от своего крепостного соперника, давно ли он слюбился с княгинею молодой и кто в том помогал им?
Как ни люта была мука, все же Иванушка выдержал и ни единого слова не ответил, никого не оговорил; хоть хотелось грозному князю узнать, не было ли у него сводчиков, которые свели его с княгиней молодой и помогали их любовным свиданиям.
Некому было заступиться за несчастную княгиню Евпраксию, хоть ее отец с матерью и другие родичи знали, что князь Семен держит ее в заключении, также знали и за что он держит ее: вступиться за несчастную боялись, потому что князь Семен Полянский был знатен и богат, от всякой ответственности было ему чем откупиться.
Не один год прожила в заключении злополучная княгиня Евпраксия. Как скелет высохла она, выхода за дверь ей никогда не было.
Грозный муж приставил к ней глухонемую старуху, которая и прислуживала княгине.
Зачахла княгиня Евпраксия в злой неволе; перед смертью потребовала было к себе мужа, по-христиански хотела она с ним проститься, прощение себе испросить, но у князя Семена Полянского было ледяное сердце, и в предсмертный час некогда им любимой жены он не пришел к ней, не простил ее.
Отлетела страдающая душа княгини Евпраксии на суд Божий; в простой дощатый гроб, как холопку какую-нибудь, приказал князь Семен положить тело жены своей.
Приказал попу отпеть ее в той же горнице, где и умерла княгиня.
В самой отдаленной части сада, на берегу реки Волги, нашла себе вечное успокоение страдалица княгиня Евпраксия.
Простой деревянный крест поставлен был на ее могиле.
У князя Семена был единственный сын Алексей, отец князя Платона Алексеевича.
С своим сыном, который безвыездно жил в Москве, состоял на службе государевой, князь Семен не ладил.
Раздор между отцом и сыном произошел оттого, что как-то молодой князь Алексей, приехав к отцу в усадьбу, потребовал, чтобы он выпустил из заточения и отпустил княгиню с ним жить в Москву.
Князь Семен чуть не с проклятием обрушился на сына и выгнал его от себя, отрекшись от него.
Перед своею смертью князь Семен, минуя сына, отказал свою казанскую усадьбу своему внуку, князю Платону Алексеевичу.
Князь Платон Полянский, вступив в управление усадьбой, приказал заменить на могиле своей бабки простой деревянный крест мраморным мавзолеем с надписью: «Здесь погребена княгиня Евпраксия Полянская».
Разумеется, князю Платону Алексеевичу хорошо известна была несчастная судьба его бабки, но он старался скрывать это от других и, обрекая на заточение офицера Серебрякова в ту горницу, где некогда томилась его бабка, он ни единым словом не обмолвился о том перед своим приказчиком Ястребом, которого он послал управлять казанской вотчиной и быть тюремщиком бедняги Серебрякова.
А старику Ястребу была хорошо известна история с молодым садовником княгини Евпраксии.
XLIV
– Егорушка, что я хочу у тебя спросить? – робким голосом обратилась Пелагея Степановна к своему старому мужу.
Старушка Пелагея Степановна, жена княжеского приказчика Егора Ястреба, недавно только с своей питомицей Танюшей прибыла к мужу в казанскую вотчину князя Полянского.
Пелагея Степановна и Танюша гостили в Москве в доме князя Платона Алексеевича.
Княжна Наташа никак не хотела расставаться с веселой и словоохотливой Танюшей, которую она, как уже сказали, почитала чуть не за свою подругу и поверяла ей все свои девичьи тайны.
– Ну, спрашивай.
– Да уж и право не знаю, как и спросить-то: боюсь, ты осердишься.
– А ты, старуха, не виляй, говори, что такое! – сурово промолвил жене Егор Ястреб.
– Видишь ли, Егорушка, в верхнем жилье княжеского дома есть горница отдельная, с окном за железною решеткою…
– Ну, ну?!
– Да ты не кричи, не пугай меня!.. Я, пожалуй, и замолчу.
– Нет, уж ежели начала говорить, то досказывай!
– Хочется мне, Егорушка, узнать, что в той горнице находится?.. И всегда она на замке.
– Узнать тебе хочется! – грозно крикнул на старуху Егор Ястреб.
– Очень любопытно.
– А знаешь ли ты, старая дура, что за это самое любопытство ты можешь на конюшню угодить, к конюхам в переделку?
– Ах, батюшки мои!.. Да что ты, Егорушка! Уж и на конюшню!.. Чай, я не холопка!..
– Ну и не барыня!..
– Да за что же, за что?.. Я только спросила.
– Не суй свой нос куда не надо!
– Уж и спросить нельзя, больно грозен!
– А знать-то тебе, старая, на что, на что?
– Так, из любопытства.
– Не в меру любопытна! Да ты слышала что али сама от себя мне такой вопрос задаешь?
– Люди говорят.
– Что? Что такое?
– Люди, мол, говорят.
– Да что говорят-то, глупая баба?
– А то, что в горнице той человек какой-то в неволе томится. По приказу князя привезли его сюда и посадили.
– Вот что! Так ты это слышала? – больно схватив за руку старушку Пелагею Степановну, не сказал, а как-то злобно прохрипел старый, верный слуга князя Платона Полянского.
– Знамо слышала, не от себя же я! Ох, да что ты? Пусти!
– От кого слышала?
– Да все говорят… Да пусти же, ведь руку сломаешь.
– А кто все-то? Людишки дворовые, так что ли?
– Не от них я слышала.
– От кого же? Не виляй, Пелагея! Ты мне скажешь, пыткою дознаюсь!
– Да ты рехнулся! Как есть рехнулся! Меня пытать задумал!
– Так и будет, если не скажешь!
– Ох, Егор, Егор! От злости ведь облик человеческий потерял… Бес в тебе! Уйти от греха.
Старушка Пелагея Степановна приготовилась было выйти из горницы.
– Стой, ни с места! – загораживая дорогу, крикнул ей Егор Ястреб.
– Да не кричи ты так, ради Христа! И смотреть-то на тебя страсть берет.
– Слушай, глупая баба! Ты мне должна все сказать, от кого ты слышала, что в нашем доме невольник появился? Кто этот слух распускает? Слышишь, все мне скажи! Знать то мне необходимо!
– Мало ль что болтают… Всего не перескажешь и не переслушаешь.
– Не виляй, говорю, Пелагея! Не мути меня, худо будет!
– И не знаю я, Егорушка, с чего ты вскипятился? Тебе ведомо, что в княжеском дому никакого невольника нет, а на болтовню людскую не обращай внимания.
– Ну, нет! Я хочу узнать, откуда появилась та болтовня?
– Да сторож Ипат болтал.
– Ипат, говоришь?
– Ну, да. Как-то в праздник старичишка был на селе в гостях, вернулся под хмельком…
– Ну, ну?
– Мы в ту пору в саду были…
– Кто это вы-то?
– О, Господи!.. И крикун же ты! Известно кто: я с Танюшей.
– Как, и Татьяна знает? И она слышала? – задыхающимся от волнения голосом спросил Егор Ястреб у жены.
– Известно, слышала, ведь и она со мной была.
– Так, так; ну, что же вам пьяный старичишка говорил?
– Говорил, что как-то, будто, поздним вечером, в закрытой повозке ты с другими княжескими холопами привез в усадьбу какого-то человека, глаза и лицо у него были завязаны платком. Двое холопов схватили его под руки и потащили прямо в княжеский дом… Следом за ним и ты пошел…
– Что же, старичишка пьяница видел это?
– Видел, говорит, он и ворота отпирал.
– Гм, а ты, глупая баба, поди, и поверила рассказу хмельного старика.
– Как же не поверить-то?.. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
– А Татьяна что… она тоже поверила?
– Да она в ту пору больше гуляла по саду, не все слышала, а что и слышала, то не поняла…
– Ты это правду говоришь, Пелагея?
– Неужели ж врать стану?
– Так Татьяна половину того не слыхала, что болтал сторож?
– Ох, и надоел же ты мне… отвяжись, ради Христа!.. Вот пристал… как крючок судейский!..
– А ты слушай, Пелагея, и на ус себе мотай, что я тебе скажу.
– Сказывай, только поскорей… говорить с тобой, Егор, истома.
– Если наша Татьяна спрашивать тебя будет, кого наш князь в сем дому в заключении держит, то ты ответишь, что это все враки, что старичишка Ипат наврал все это спьяну и что в горнице с окном за железной решеткой никого, никакой живой души нет и не было. Слышишь, так ты ей и скажешь.
– Да ну тебя, вот привязался!..
– И сама также ты знай и ведай, что в той горнице, кроме княжеского добра, никого нет и быть не может. Поняла ли?
– Да поняла… отпусти ты меня.
XLV
Что было со старым сторожем Ипатом, какой разговор произошел между ним и грозным приказчиком Егором Ястребом, – осталось никому не известным, потому что Егор Ястреб, позвав в свою горницу сторожа Ипата, запер за ним дверь.
И когда дверь была отперта, то Ипат, бледный, как смерть, с взъерошенной бородой и волосами, кубарем выкатился из горницы приказчика.
А на другой день после описанного он был отправлен на подводе под охраною двух здоровых княжеских дворовых неизвестно куда.
Как ни таился старик приказчик Егор Ястреб, как ни скрывал он, а все же молва стала распространяться, что в княжеском лесном доме находится не ведомый никому человек, которого князь Полянский строго приказал держать взаперти.
Верстах в двух от усадьбы находилось большое село Егорьевское, принадлежавшее также князю.
Егорьевские мужики находились под непосредственным управлением старика Ястреба. С прежним приказчиком они ладили и жили мирно, а Егора Ястреба невзлюбили с первого раза за его крутой, неподатливый нрав. И вот между егорьевскими мужиками стала расти молва о том, что там содержится привезенный из Москвы под конвоем какой-то важный недруг князя. Слух этот перетолковывали на разные лады: одни говорили, что в княжеских подвалах прикованный к стене цепью томился какой-то родич князя Платона Алексеевича. Другие говорили, князь держит на цепи колдуна или чернокнижника, третьи тайком передавали, что князь, уличив в неверности свою полюбовницу из цыганского рода, прислал ее на исправление в руки Егора Ястреба.
Молва эта дошла до нелепости. Разумеется, это знали и слышали как сам приказчик Егор Ястреб, так и жена его Пелагея Степановна и приемыш Танюша.
Старик Егор Ястреб выходил из себя, ругался на чем свет стоит, грозил всех вралей перепороть на конюшне, а самих зачинщиков сослать на поселение с княжеского согласия.
Но эти угрозы не имели почти никакого влияния на избалованных и распущенных егорьевских мужиков. Небольно они боялись и самого приказчика Ястреба. Втихомолку ругали его и поносили всячески.
Егор Ястреб не знал, что делать, как подавить молву, какие принять к тому меры. Он помнил строгий приказ князя Платона Алексеевича, чтобы отнюдь никто не знал о том, что в его казанской вотчине находится в неволе гвардейский офицер Серебряков.
«Что же мне делать, как быть? Почитай, все село и усадьба как в трубу трубят о том, что я, исполняя княжеский приказ, держу в неволе княжеского недруга. Всех не заставишь молчать, «на чужой роток не накинешь платок», а князь требует, чтобы и думать о том никто не смел. Как же тут быть? Писать мне о том князю в Москву или нет? Да и в Москве ли еще князь, и то неведомо. С Москвы приезжий мужичонка сказывал, что князь в Петербург собирается: его дочку-то императрица к себе в фрейлины взяла. Вот тут как хочешь, так и делай. Ну, как эти слухи дойдут до губернатора? В ту пору всем ведь достанется, а мне больше всех. Как, мол, смел держать под замком важного офицера? А я что? Мое дело исполнять княжеский приказ, а не рассуждать. Будь что будет, а князю я о том сообщать ничего не стану. Что его тревожить? Сам постараюсь как-нибудь прервать ту молву».
Так решил Егор Ястреб и, призвав на княжеский двор выборных от мужиков, обратился к ним с таким решительным словом:
– Сами знайте и другим скажите, что от меня услышите. Пьянчуга сторож Ипат с пьяных глаз стал сказывать разные небылицы о том, что по княжескому приказу я томлю в неволе какого-то важного офицера. Эти слова – сущая ложь; хоть осмотрите сами весь княжий двор и дом – нигде заключенника не найдете. Старичишка сторож Ипат поплатился за свой язык; по княжескому приказу он сослан туда, «куда Макар телят не гонял». И всякого из вас постигнет то же, если вы не станете держать свой язык на привязи и не скажете своим бабам, чтобы и оне пустого не мололи, не то отведают плетей. Все, что говорил я вам, припомните.
Но эти слова старика приказчика не имели никакого желанного успеха, а, напротив, еще более дали пищу различным пересудам.
– Ишь, каков гусь, ровно за делом собрал нас!
– Запугать задумал.
– На воре шапка горит!
– Знает кошка, чье мясо съела!
– Вот, дайка-с, проведает губернатор, да с обыском нагрянет: в ту пору как ни вертись, а к ответу готовься.
– Нам что? Мы знать ничего не знаем, ведать не ведаем, – так самому и губернатору скажем.
– А он тебе сейчас и поверил.
– А мне что ж? Пусть не верит, плевать!
– Как спину-то взбарабанят, в ту пору не заплюешь!
– Да за что мне спину-то взбарабанят, дубина!
– А за то, не донес, что важного ахвицера ровно колодника в княжей усадьбе держать.
– А мне что: не я держу, старый пес приказчик, он и в ответе!
– Говорю: всем нам достанется!
– Было бы за что!
– Скажут за что, уж будь покоен. Станут бить, и станут говорить, за что бьют.
– Хошь говорить-то станут и это ладно. А то бить-то бьют, да не говорят за что.
– Эх, жизнь! Одно слово, братцы, каторга.
– Скоро ли мы от такой жизни избавимся?
– Кто знает, может и скоро, – вступил в разговор дотоле молчавший рыжебородый здоровенный мужик Демьян.
Между всеми мужиками в большом селе Егорьевском мужик Демьян пользовался худою славой: пропойца, бездомовный, к тому же он и на руку не чист был; знакомился Демьян и дружбу вел с такими же темными людьми, как и сам.
Хоть и все мужики егорьевские не отличались своими нравственными качествами, а Демьян много превзошел их.
– Демьян, а разве ты что слышал? – спросил у него старик-староста Пантелей.
Пантелей хоть и старый был мужик и богатеем считался, но тоже был под стать остальным егорьевским мужикам.
Про него шла молва, что он знаком с людьми, которые промышляют грабежом и убийством на больших дорогах; от того и деньгу большую старик Пантелей нажил. В своей просторной избе пристанище ворам делал, хлеб-соль с ними не гнушался водить.
– Ты слышал, мол, парнюга, что? – тихо повторил вопрос старик-староста мужику Демьяну.
– Слышал, – также тихо ответил Демьян.
– Что?
– Государь проявился.
– Какой?
– Знамо, наш, российский.
– Как звать-то?
– Аль запамятовал, как звали мужа нашей царицы?
– Кажись, Петром Федоровичем?
– Ну, вот он-то и появился.
– Да ведь тот помер? – недоумевал Пантелей.
– А ты на похоронах был?
– Так говорят.
– Мало ли что говорят! Говорят, что и кур доят, а петухи яйца несут. А ты, дед Пантелей, покуда помалкивай, язык на привязи держи! Главное, чтобы бабы ничего не знали; а то пойдет молва, и нас с тобой в ту пору по головке не погладят.
Так переговаривались егорьевские выборные из мужиков, возвращаясь с княжеского двора по своим домам.
А между старушкой Пелагеей Степановной и красавицей Танюшей происходила такая тайная беседа.
– Матушка! Скажи ты мне, ради Христа: стало быть, дед Ипат правду сказывал про полоняника-то, про невольника?
– Про какого еще там невольника?
– А про того, что в княжеском дому под замком сидит.
– Что ты мелешь? Опомнись! Смолкни! – зажимая рукой рот у девушки, с ужасом проговорила Пелагея Степановна.
– Стало быть, правда, матушка, правда? – спрашивает у ней молодая девушка.
– Опомнись, говорю, не пикни! Егорушка услышит – беда: поедом заест и нас, как заел он беднягу-старика Ипата. Сказывают, князь-то на поселение сердечного услал. Туда ему и дорога: не болтай лишнего!
– Полно, матушка, притворяться-то! Ведь ты не такова, как мой отец названый. Твое сердце податливо на людское горе. Старика Ипата жалеешь ведь, хорошо я знаю.
– Ох, девонька, и то жалею, крепко жалею: за язык пострадал.
– Голубушка ты моя! До всех ты жалостливая, вот сердце-то золотое у кого! – с чувством проговорила Таня и принялась душить в своих объятиях Пелагею Степановну.
– Ох, задушила!., пусти!., пусти родная!.. Подчас я сама не рада, что сердце у меня такое жалостливое: всех-то мне жалко!
– И того офицера, что в неволе здесь, жалко? Так ведь, матушка?
– Его-то жалостливее всех. Натко-ся бедняга! Ни за что, ни про что под замок угодил! Ахти, я дура старая! Да что я это тебе говорю-то такое! Про какого-такого офицера! – спохватившись, проговорила быстро добрая старушка.
– Вот, матушка, и выдала ты себя мне! Теперь я знаю все.
– Ничего ты и не знаешь!.. А ты, егоза, на словах меня не лови.
– Знаешь, матушка, знаешь, только от меня хочешь скрыть.
– Наладила, как ворона, знаю, да знаю! Столько же и я знаю, сколько ты, по слухам.
– А слухи-то, матушка, идут!.. Как ни грозит отец, а ничего не сделает. По всему селу, ровно в трубу трубят, на что Фенька, дворовая девка, и то мне вчера такой вопрос задала, барышней еще меня назвала: скажи, барышня, полонянина-то княжеского ты видела али нет?
– А ты бы ее, Танюша, за косу!
– За что? Правдой не задразнишь. «Шила в мешке, матушка, не утаишь», всех за волосы не перетаскаешь.
– Дай срок, узнает Егорушка, тогда достанется Феньке на орехи.
– Узнать-то не от кого, матушка, я отцу не скажу, ты тоже.
– Зачем говорить! Затиранит девку.
– Вот то-то же и есть; ведь говорю, ты старушка добрая, податливая, только вот одно горе, правды ты мне сказать не хочешь.
– Да что сказать-то, глупая!.. Сама ничего не знаю… Намедни вздумала спросить у Егора, так он так зыкнул, плетьми грозился!.. Меня-то, на старости лет!.. Ядовитый он человек!.. Да муж ведь, а муж-то глава!.. Бессердечный он!.. Нет в нем к людям жалости!.. Я так ему и в глаза сказала, так и отрезала.
– Неужели, старушка Божия, сказала?
– Сказала, вправду сказала, не побоялась!..
– Так ты, матушка, не знаешь, кто в угловой комнате «под замком сидит?
– Говорю – не знаю, вот пристала. Знала бы, не утерпела, тебе, егозе, первой бы сказала.
– Ну, так я узнаю.
– Что? Да ты ополоумела никак?
– Узнаю, матушка, все узнаю. Уж я догадываюсь, кого наш грозный князь в неволе держит.
– Ну, девка!.. Ох, беда с тобой, Татьяна! Егор узнает, в ту пору живой ложись в могилу.
– Полно, родимая, волков бояться – и в лес не ходить! А правду-матку я все же выведу наружу, – решительным голосом проговорила молодая девушка.








