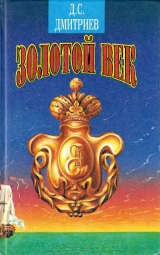
Текст книги "Золотой век"
Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 49 страниц)
LXXVI
На другой день после взятия крепости Татищевой Сергей Серебряков, Мишуха Труба и мужик Демьян были отправлены князем Голицыным с рапортом к главнокомандующему Бибикову в Казань.
Серебряков был лично знаком с Александром Ильичом и в одно время служил у него под командою.
Бибикову доложили, что князь Голицын прислал к нему с рапортом «важных изменников», взятых в плен в числе других мятежников, и что между ними был один офицер.
Главнокомандующий приказал привести пленного офицера-«изменника».
Каково же было его удивление, когда в этом «изменнике» он узнал своего сослуживца, хорошего и дельного офицера.
– Неужели ты… вы, Серебряков?! – не веря своим глазам, воскликнул Александр Ильич.
– Так точно, ваше превосходительство!.. – печально ответил молодой офицер.
– Какими судьбами… Как это могло случиться, что вы очутились в шайке Пугачева?.. Вас обвиняют в измене… Неужели вы…
– Я не изменник, ваше превосходительство!..
– Но в рапорте ясно говорится…
– Князь Голицын признает меня за изменника, он не верит ни моим словам, ни моим клятвам…
– Чтобы вас признали невиновным в измене, надо к тому представить доказательства.
– Какие же доказательства, ваше превосходительство, у меня их нет!..
– Странно… Довольно странно, господин офицер!..
– И вы, ваше превосходительство, не верите мне?.. А я было надеялся… – с горечью проговорил бедняга Серебряков.
– Что вы – изменник, я этому не верю, но вы все же должны мне объяснить, как попали к Пугачеву…
– Я… я все расскажу вам, ваше превосходительство!
– Пожалуйста… У меня есть время выслушать вас… Предупреждаю: вы должны все сказать без утайки, этим, может быть, вы себя оправдаете и смоете черное пятно, которое на вас видят некоторые, только не я… – ласково и участливо проговорил Александр Ильич, не спуская своих добрых глаз с офицера.
Бибиков усадил Серебрякова с собою рядом на диван и стал со вниманием слушать грустную страницу из его жизни.
Серебряков начал с того, как он служил адъютантом у фельдмаршала Румянцева-Задунайского, как был им послан в Петербург с важным донесением к императрице и как императрица изволила вручить ему письмо к фельдмаршалу. Не утаил он и того, как из милости попал в немилость к князю Полянскому и как однажды князь приказал его взять и несколько дней держал под замком в саду, в беседке, и потом отправил в свою казанскую усадьбу и держал его там тоже взаперти, как «холопа или колодника», и как отряд пугачевцев освободил его из неволи.
– Признаюсь, своим рассказом вы заставили меня печально удивляться, даже более, я просто поражен, как князь Платон Алексеевич Полянский мог так поступить с вами? За что обрушилась на вас его немилость? Положим, князь подчас бывает и крут, но все же умен и благороден, не станет нападать безвинно. Скажите, за что прогневался на вас князь? – выслушав рассказ Серебрякова, спросил у него Бибиков.
– Ваше превосходительство, дозвольте мне о том умолчать.
– Если вы начали со мною говорить откровенно, то и кончайте. Может, от этого многое зависит!
– Я повинуюсь вам, ваше превосходительство, и первому вам открою мою сердечную тайну… Я люблю дочь князя Полянского, – тихо и смущенным голосом проговорил Серебряков.
– Княжну Наталью Платоновну?
– Да, ваше превосходительство!
– Ну, а что княжна? – быстро спросил у молодого офицера Бибиков.
– Княжна тоже меня любит.
– Взаимная любовь, хорошо. Ну теперь мне известно, за что князь Платон Алексеевич обрушился на вас своим гневом. Он узнал про вашу любовь?
– Он застал меня с княжной в саду.
– Понимаю, понимаю! Густой, тенистый сад, лунная чарующая ночь, песня соловья, два юных влюбленных сердца и т. д. Вдруг дух злобы и мести, в образе старика князя, он махнул жезлом, и молодого голубка отрывают от голубки и сажают в клетку под замок. Так ведь, знаю. Сам был молод, сам любил лунную ночь и песни соловья. Только со мной такой беды не случилось, в клетку меня не саживали! – весело проговорил Александр Ильич.
Но эта веселость была мимолетна, скоро облако печали опять появилось на его открытом, добром лице.
– Боюсь я, Серебряков, чтобы здесь, в Казани, не угодить мне под старость в клетку, уж очень много здесь всякого накопилось сора, злобы и зависти, а матушка-царица прислала меня сюда затем, чтобы я весь сор и злобу помелом вымел отсюда. Не ведаю, удастся ли мне то совершить, а хотелось бы сослужить последнюю службу земле родной, вымести помелом крамолу и смуту… О том у Господа помощи прошу… Бремя куда тяжело – не по моим слабым силам!
Проговорив эти слова, главнокомандующий печально поник своею головой, которая серебрилась от седых волос; хотя Бибиков был и не стар, но от забот и непосильного труда он рано поседел. Да и нельзя было не поседеть ему: великую, ответственную службу нес он на плечах своих, не зная ни отдыха ни покоя.
– В рапорте князь Голицын мне пишет, что ты и двое мужиков, что с тобой приведены сюда, находились будто, по его догадкам, на службе у Пугачева и тем свою жизнь спасли от виселицы, – после некоторого молчания спросил Бибиков у Серебрякова, переходя с вежливого «вы» на дружеское «ты».
– А как думаете вы, ваше превосходительство?
– Я уверен, голубчик, что беглому каторжнику-само-званцу ты служить не будешь…
– Ваше превосходительство, я не знаю, как мне и благодарить вас за ваше правдивое мнение о мне, я скорее бы себя убил, чем стал слугою Пугачева! – с чувством проговорил молодой офицер.
– Верю, голубчик, а все-таки ты мне скажи откровенно, как это ты петли избежал?.. За что, про что помиловал тебя проклятый Пугачев?..
– Чика, его приближенный, взял меня к себе, чтобы я у него, безграмотного, писарскую должность исправлял, – откровенно ответил Серебряков.
– Так, так… тем ты и спасся от виселицы?
– Точно так, ваше превосходительство!..
– Ну, это нельзя почесть за службу самозванцу, ты учинил то нехотя, не желая напрасно потерять свою жизнь… В этом никакого преступления я не вижу…
– Как мне благодарить ваше превосходительство?.. – радостным голосом воскликнул Серебряков.
– Не за что, голубчик, я только не нашел тебя виновным, поэтому и от ответственности освобождаю… А если бы я узнал, что ты, русский дворянин, служишь самозванцу Пугачеву, в ту пору не помиловал бы я тебя, будь ты мне хоть брат родной. Служба требует справедливости… ни брату, ни свату, ни милому другу мирволить не буду… Ты у меня побудешь или в Москву поедешь?
– Как вы прикажете?
– Приказывать тебе я не могу, а советовать могу. Не спеши в Москву, поживи здесь… Хочешь на службу, и службу тебе дам, мне крепко нужны честные и правдивые служаки, а такими я здесь не богат.
– Я с радостью готов служить под начальством вашего превосходительства!
– Только, голубчик, ты ведь без вины виноватым оказываешься. Тебе государыня изволила вручить письмо для передачи фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому, и ты…
– Я не мог исполнить волю ее величества, потому что все время находился в заключении.
– Понимаю, потому и называю тебя без вины виноватым. Но все же императрица станет, пожалуй, на тебя гневаться. А письмо-то у тебя находится?
– Как же, у меня… Я берегу его как святыню.
– Береги, береги. А вот тебе, Серебряков, мой совет: останься у меня. Я здесь найду тебе дело, у меня дела по горло, а рук нет. Об тебе я отпишу в Питер, все подробности выставлю, постараюсь обелить тебя, героем тебя назову. На самом деле ты такой и есть.
– Помилуйте, ваше превосходительство, какой я герой!
– А разве не геройство самозванцу в глаза сказать, что он есть за человек?.. Над тобой, голубчик, ведь петля висела, нет, что ни говори, а ты герой.
– Я постараюсь, ваше превосходительство, это почетное название заслужить, вполне доказать его на деле.
– Докажи, докажи, Серебряков, я в ту пору о тебе вторую грамотку составлю, награды тебе буду просить.
– Премного благодарен, ваше превосходительство! – Серебряков низко поклонился главнокомандующему.
– Успеешь благодарить после, а теперь научи, как о тебе в Питер писать… Тут выходит дело щекотливое, нешуточное: правду писать, надо князя Полянского припутать и его дочь, а впутывать их мне не хочется, я уважаю и что Платона Алексеевича, а также и его дочь – примерную девицу. Никакого пятна класть нам на них не приходится, так я говорю или нет?
– Совершенно так, ваше превосходительство, я только что хотел вас о том просить.
– Вот и давай думать, как князю Полянскому сухим из воды выйти. Только ты уже, голубчик, думай, а у меня, чай, сам знаешь, много других дум в голове, те думы, пожалуй, поважнее будут. Ну, прости покуда… Тех мужиков, что с тобою ко мне привели, отдаю в твое полное распоряжение, запиши их хоть в ополчение: люди, говорю, нам нужны. Жить ты будешь при мне. Я к себе тебя адъютантом назначаю. Горницу, где будешь жить, покажет тебе мой денщик. Ступай!..
Бибиков протянул Серебрякову руку, которую тот с чувством пожал.
Теперь бедняга Серебряков вздохнул свободнее: за него есть кому заступиться, на генерала Бибикова, честнейшего и правдивого, он надеялся.
LXXVII
Разбитый наголову Пугачев поздним вечером прискакал в Берду только с четырьмя своими приближенными; между ними был Бородин.
Пугачев был бледен и сильно встревожен.
– Бородин, неужели всему конец… А? – подавив в себе вздох, спросил самозванец у своего приближенного.
– А я почем знаю!.. – мрачно ответил тот.
– Да нет, мы еще погуляем по матери сырой земле!.. Попьем винца и поиграем с боярами. Ведь так?..
– Может и так, а может, скоро и с нами расправа начнется и угодим мы в петлю.
– Типун тебе на язык, собака! – прикрикнул Пугачев на своего приближенного.
– Ругайся не ругайся, а петли нам не миновать, – ворчал Бородин.
– Ты получишь ее раньше, чем думаешь, если не дашь каши своему проклятому языку! – грозно крикнул Пугачев.
Бородин замолк, но затаил в сердце злобу к Пугачеву.
Опасаясь наступления князя Голицына и вылазки из Оренбурга, Пугачев приказал тотчас же сменить с караула всех крестьян и солдат, а на их места поставить яицких казаков как людей, более ему преданных и более опытных в сторожевой службе.
В Берде еще не знали о поражении Пугачева, и потому распоряжение это удивило многих казаков.
– Что за чудо, что нас сменяют не вовремя и гонят целыми толпами в Берду? – спрашивали караульные друг друга, а кто полюбопытнее обращались за разъяснениями к своим «командирам», а те, сами не зная ничего, шли в «военную коллегию».
В числе явившихся в главное управление самозванца был Хлопуша. Он застал в комнате одного писаря, от которого не получил удовлетворительного ответа.
– Тебе что за нужда, – сказал писарь, – знал бы ты свое дело да лежал бы на своем месте. Вот и все!
Хлопуша отправился к Творогову и проходя по улице, увидал, что яицкие и илецкие казаки укладывают на воза свои вещи.
– Что это значит? – спросил Хлопуша.
– А это те казаки, – уклончиво отвечал Творогов, – что приехали из своих мест за хлебом и теперь собираются домой. Я с ними жену свою отпускаю, а ты поди распусти свою команду.
Хлопуша исполнил приказание и пошел было к Шигаеву, но тот ушел из дома с Чумаковым и Бородиным.
Бородин, как очевидец всего происшедшего под Татищевой, был уверен, что дело, затеянное яицкими казаками, окончательно проиграно, и потому в тот же вечер отправился к Шигаеву и рассказал ему происшедшее.
– Знаешь ли ты, нашей волюшке конец настал! И надо бежать, пока можно…
– Как, разве ты хочешь бросить царя? – спросил Шигаев у Бородина.
– Вора-самозванца ты царем называешь… Больше я ему не слуга…
– Ох, Бородин, поберегись…
– Ты как хочешь, Шигаев, а я убегу… в Оренбург поеду с повинной.
– А как тебя там повесят!
– Повинную голову и меч не сечет… Куда бы хорошо было связать нашего самозванца да к Бибикову!
– Поди-ка скрути, скорее он тебя скрутит да в петлю!..
– Руки коротки… Было время да прошло!..
Казак Григорий Бородин выполнил задуманное и бежал с повинной в Оренбург.
Эта измена произвела сильное впечатление на Пугачева. Он упал духом и догадывался, что расплата за все его злодеяния близка.
Пугачев не стал более скрывать, что под Татищевой его разбили наголову, и ранним утром призвал к себе своих приближенных Максима Шигаева, Андрея Ветошнова, Федора Чумакова, Ивана Творогова, Тимофея Падурова и Коновалова.
Он рассказал им о своем поражении и обратился к ним за советом, как быть, что делать.
– Как скажете, детушки, как посудите, как быть, куда идти?
– Мы сами не знаем…
– Одно знаем: пришла беда – растворяй ворота!..
– Надо спасать свои животы…
Отвечали ему приближенные. Они были хмуры и мрачны.
– Я так думаю, братья-казачество, что нам способно теперь пробраться степью… через Переволоцкую крепость в Яицкий городок. Крепость мы возьмем непременно, укрепимся как следует и станем защищаться.
– Твоя власть, государь, куда ты, туда и мы.
– Поедем лучше, царь, под Уфу, – говорил Творогов, – а если там не удастся, то будем близко Башкирии и там найдем спасение.
– Не лучше ли, – заметил Пугачев, – нам убираться на Яик, там близко Гурьев городок, в коем еще много хлеба оставлено, и город весьма крепок и силен.
Эти последние слова были поддержаны и Шигаевым.
– Пойдем в обход на Яик, через Сорочинскую крепость, – сказал он.
Решаясь двигаться по этому направлению, Пугачев послал казака за Хлопушей.
Тот пришел тоже мрачный и угрюмый.
– Ты много шатался по степям, – сказал Пугачев, – так не знаешь ли дороги общим Сыртом, чтобы пройти на Яик?
– Этой дороги я не знаю, – отвечал Хлопуша.
– Тут есть хутора Тимофея Падурова, – заметил Творогов, – и он должен знать дорогу.
Однако Падуров не брался быть провожатым по степи в зимнее время.
– Ты здешний житель, – говорил Пугачев, – сыщи ты мне такого вожака, который бы знал здешние места – большую награду дам.
– Вчера приехал оттуда казак Репин, – отвечал Падуров, – и сказывал, что там дорога есть.
Репин был призван в совет, и ему приказано быть колоновожатым. «Командирам полков» велено готовиться к походу, но собирать к себе только доброконных, а остальным и всем пешим разрешено идти кто куда хочет.
Шигаеву было поручено раздать вино и деньги, которых было четыре тысячи рублей – все медной монетой. Лишь только выкатили несколько бочек из сорока, бывших в складе, как народ с криком бросился к ним, и каждый старался в широких размерах воспользоваться разрешением самозванца. Произошла свалка, шум и драка.
Пугачев узнал, что один из ближайших его сообщников, казак Бородин, ему изменил и бежал в Оренбург. «Если бы генерал Рейнсдорп, по получении известий от Бородина, сделал вылазку в ту же ночь, то очень возможно, что сообщники Бородина выдали бы самозванца; но утром они были бессильны, так как хорунжий Горлов успел донести о замыслах Бородина и о его бегстве». Пугачев досадовал, что ему не пришлось повесить Бородина.
Пугачев принял меры против заговора и, опасаясь, чтобы другие до времени не последовали примеру Бородина, приказал расставить к стороне Оренбурга караулы и не пропускать никого.
На улицах Берды с самого утра видно было йебывалое движение: спешно укладывались пожитки и награбленное имущество. Шигаев раздавал медные деньги, а у бочек с вином бушевала и шумела пьяная толпа.
«Опасаясь, что шум и крики привлекут внимание оренбургского гарнизона и пьяное сборище может быть застигнуто врасплох, Пугачев приказал казакам готовиться скорее к походу и выбить у бочек дно. Вино широкой рекой полилось по улицам Бердинской слободы».
Не ожидая, пока соберется все ополчение, Пугачев с десятью пушками, с яицкими казаками и толпой не более двух тысяч выступил из Берды по дороге на Переволоцкую крепость. В слободе остались пьяные да те, что, потеряв веру в самозванца и не зная, куда преклонить голову, решились явиться с повинною.
Длинною вереницей тянулись они к Оренбургу, кто верхом, кто на санях; многие везли с собою хлеб и сено, но большая часть шла пешком с женщинами и детьми. В этот день пришло в город 800 человек, а в последующие дни число их достигло 4000 человек. Всех прибывших сажали под арест и допрашивали.
Вскоре после этого Пугачев потерпел поражение у Сакмарского городка.
Участь самозванца была решена, и голова его была оценена в несколько сот червонцев.
LXXVIII
Главнокомандующий Бибиков откладывал день за днем послать рапорт о Сергее Серебрякове в Петербург, в военную коллегию.
Серебряков, сгорая желанием узнать решение своей участи, обратился к Бибикову с таким вопросом:
– Смею спросить, ваше превосходительство, изволили вы послать обо мне рапорт?
– Не посылал да и не пошлю, – ответил ему Александр Ильич.
– Как? Почему?
– Пошли я о тебе рапорт в военную коллегию, замучают и тебя и меня; ответы я писать не горазд, да и некогда. А вот что, голубчик, я придумал: не нынче-завтра изловим мы злодея Пугачева и усмирим мятеж. В ту пору вместе с тобой в Питер поедем; на словах про тебя я все изложу царице-матушке, стану за тебя просить. Сам ведаешь, наша государыня справедлива и тебя, без вины виноватого, простит… На бумаге того не передашь, что на словах. А ты, Серебряков, служи и будь уверен, что служба твоя не пропадет.
– А и то несказанно доволен вашим превосходительством, и ради службы готов жизнь свою положить.
– Твой патриотический порыв похвален, но все же свою ты жизнь побереги для княжны Натальи Платоновны, – с улыбкой промолвил Бибиков. – Ну, что покраснел, ровно маков цвет… Дай срок, господин офицер, дело мы сделаем, дурную, сорную траву выполем, тогда и твою судьбу с княжною отпируем.
– Никогда не дождаться мне этого счастья, ваше превосходительство, не судьба мне быть мужем княжны Натальи Платоновны, – печально промолвил Серебряков.
– А я говорю – будешь. Только дай со злодеем расправиться.
Бибиков был всегда хорош и ласков со своим молодым адъютантом. Немного времени прошло, как Серебряков служил, но уже успел приобрести его доверие и расположение. В последнее время Александр Ильич стал неузнаваем: куда девались его хмурость и недовольство. Успехи нашего войска против мятежников несказанно радовали его, и здоровье главнокомандующего стало поправляться; явилась у него прежняя бодрость, энергия, и известие, что злодей Пугачев потерпел второе, окончательное поражение у Сакмарского городка, привело в неописанную радость Бибикова и все наше войско. Бибиков принялся с большим рвением заниматься усмирением мятежа и проводил дни и ночи за работой. Это опять надломило его расшатанное здоровье, а сильная простуда уложила Александра Ильича в постель; но и в постели он не переставал заниматься: лежа подписывал приказы и делал распоряжения командирам полков. Бибиков не думал об опасности, но опасность была близка: начался бред от сильного жара, пропал аппетит, и дня в два-три Александр Ильич так осунулся и побледнел, что его едва можно было узнать.
Доктора принимали все меры, но их усилия вырвать у смерти нужного для России человека остались тщетными. Александр Ильич понял свое положение и стал приготовляться к смерти.
Серебряков неотлучно находился при больном; только на несколько часов ночью его сменял любимый денщик генерала.
Болезнь застала Александра Ильича в татарском селении Бугульме, – это селение раскинуто среди огромной степи.
Как-то утром Серебряков, войдя в горницу, обвешанную по стенам коврами, где лежал больной главнокомандующий, застал его в худшем положении.
Александр Ильич лежал, вытянувшись во весь рост, лицо его было бледно, нос обострился; он тяжело дышал и был в забытьи; временами хриплые стоны вырывались из груди больного.
У Серебрякова, при взгляде на Бибикова, больно сжалось сердце и как-то невольно появились слезы.
Больной открыл глаза и увидел Серебрякова.
– А, это ты… почти несменно при мне, спасибо, спасибо… – слабым голосом проговорил главнокомандующий.
– Как здоровье вашего превосходительства?
– Умирать собираюсь.
– Что вы говорите! Ваша жизнь дорога… Мы все молим Бога о вашем выздоровлении, ваше превосходительство, – с чувством промолвил Серебряков.
– Хоть и не боюсь я смерти, а все же умирать теперь не хочется… То дело, которое вручила мне государыня, я совсем еще не устроил… Я умер бы спокойно, когда Пугачев был бы в моих руках и его шайка стерта с лица земли…
– Так и будет, ваше превосходительство.
– Будет, только я не доживу, не доживу… не дождусь…
– Бог даст дождетесь.
– Нет, голубчик, чувствую, что не дождусь. Смерть ведь не ждет. Она ко мне близка.
– Доктора говорят, что ваша болезнь не внушает никакой опасности, – успокаивая больного, проговорил Серебряков.
– Что доктора, не верю я им… их медицинская кухня – чепуха! Что Богу угодно, то и будет… Что было в моей силе, я сделал… теперь доделывать немного осталось… пусть другой кончает… а мне не суждено…
Александр Ильич смолк и закрыл глаза.
– А тяжело умирать, вдали от семьи одинокому и не довершив начатого, – опять тихо заговорил он.
– Скоро, ваше превосходительство, Пугачев и его шайка будут совсем истреблены.
– А все же я не дождусь, не дождусь.
– Разве вы так плохо себя чувствуете? – грустно спросил Серебряков.
– Плохо, голубчик, совсем плохо… умирать надо… Всему конец. Ах, что же я совсем было забыл написать про тебя в Питер, оправить тебя, хоть и ты и невиновен. Сегодня же напишу… Ох, горе, писать не могу, и голова и руки слабы… заставить писать кого-нибудь под диктовку, я подпишу. Вот немного отдохну, а там продиктую…
Проговорив эти слова, Александр Ильич впал в забытье.
Дни его были сочтены.
Серебряков с грустью посмотрел на умирающего главнокомандующего и вышел из горницы.
Теперь Серебряков о себе не думал, а думал он о Бибикове.
«Господи, неужели умрет Александр Ильич? С его смертию Россия лишится славного полководца… Пугачев будет торжествовать, услыша о его смерти, да и все мятежники порадуются. А может главнокомандующий и поправится… Едва ли: уж больно он слаб», – таким размышлениям предавался Серебряков, идя в свою избу, где остановился.
И по прошествии нескольких часов после разговора, происходившего между Бибиковым и Серебряковым, распространился слух, что главнокомандующего не стало.
Это печальное извести поразило многих и в особенности бедного Серебрякова.
Бибиков не успел послать нужную бумагу в защиту Серебрякова, и он опять остался в сильном подозрении у начальства, на него смотрели почти как на изменника, находившегося у Пугачева «в писарях».
У Серебрякова явилось немало недоброжелателей, когда Бибиков приблизил его к себе и назначил своим адъютантом. Со смертию Бибикова опять начались несчастия Серебрякова: злая судьба не переставала его преследовать повсюду.
Ему посоветовали немедленно оставить нашу армию.
– Я по закону должен бы с вами поступить, как с изменником, со слугою Пугачева, но я этого не сделаю потому, что покойный Александр Ильич был к вам расположен, – строго проговорил Сергею Серебрякову генерал Ларионов, который на время вступил в исправление обязанностей главнокомандующего.
– Покойный Александр Ильич верил мне и не признавал меня за изменника, он даже хотел писать обо мне в Питер, выставляя меня невиновным, – печально проговорил молодой офицер.
– Может быть, хотел, но не послал.
– Смерть помешала ему сделать это… ваше превосходительство.
– Так или иначе, но бумага об вас не послана… И мы на вас смотрим, как, как…
– Пощадите, ваше превосходительство, – чуть не плача, проговорил Серебряков.
– Какой вам еще надо пощады, я и то, нарушая закон, даю вам свободу, – холодно промолвил генерал Ларионов.
– Куда же мне идти, ваше превосходительство?
– Куда угодно, только скорее; вам оставаться при армии неудобно, вы это сами должны донимать.
– За что судьба так безжалостно меня преследует! – как-то невольно вырвалось у бедняги.
– Уже этого я, правовые знаю, – холодно и насмешливо сказал Ларионов; он недолюбливал за что-то Серебрякова. – Можете также взять с собою и тех двух мужиков, помилованных покойным главнокомандующим, в нашей армии им тоже нет места, – добавил он.
Ларионов говорил про дворового Михалку Трубу и про мужика Демьяна.
Волей-неволей пришлось Серебрякову оставить нашу армию, и он, в сопровождении Демьяна и Михалки, направился к Москве.
Дорога из Оренбурга к Москве была еще не совсем очищена от мятежников, и нашим спутникам пришлось идти с большою опаскою.








