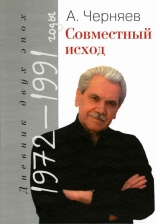
Текст книги "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991"
Автор книги: Анатолий Черняев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 128 страниц)
Было, – говорит Б. Н., – у них и резонное соображение. Нельзя, мол, допускать, чтобы эта конференция компартий нанесла вред нашей государственной внешней политике. Я (Пономарев) поддержал эту идею. И в самом деле: Женевская конференция вновь смещается. Раньше осени ее не провести. И мы свою теперь должны проводить осенью, так как там съезд поджимает. Значит. Сразу же после государственной конференции собираются коммунисты и, либо по существу противопоставляют себя Женеве-Хельсинки, как того хотят французы, либо тащатся в хвосте у государственной конференции, как того хотят югославы.
И вновь Б. Н. понес на чем свет стоит тот день, когда согласились на конференцию компартий, и тех людей, которые эту идею подхватили. (Итальянцы-де сами теперь локти кусают – зачем они вылезли с этой инициативой).
Ничего, кроме демонстрации расширяющейся дистанции и углубляющихся различий между компартиями конференция (уже ее подготовка) не приносит. ФКП с каждым днем заводится все больше. Марше в недавнем интервью заявил: «Мы не менее независимы, чем ИКП. И если документ нам не подойдет, мы его не подпишем».
А «Юманите» пояснила: разногласия и споры в Рабочей группе идут между теми, кто хочет «обелить империализм» и теми, кто считает, что мир может быть завоеван через борьбу против империализма и победу над ним в каждой капиталистической стране. По тону и фразеологии статья явно принадлежит Канапе («некоторые уже имеют социализм и хотят мира, мы тоже хотим мира, но мы хотим и социализма».)
А мы. Мы чего хотим и что можем?
Ведь ситуация вверху такая, что дилемму, которая ясна всем компартиям, ясна нам – специалистам международникам, ясна Пономареву, Катушеву., не могут даже обсудить на ПБ. Потому, что сама постановка такого вопроса большинству его состава не понятна и покажется «неправильной». Ведь будут искать не «что делать?», а «кто виноват?» и «как допустили?», если, например, Б. Н. осмелится поднять этот вопрос. А поднять он его не может, потому что «нельзя обременять подобными глупостями» Генерального, которому определен «щадящий режим» (как, впрочем, и Суслову) и который после торжеств 8–9 мая опять удалился от дел. И по этому случаю отменен (или отложен), намеченный на 14 мая визит Брандта (а пресса-то на Западе шумит – гадает, что бы это значило, не меняет ли Москва своего внешнеполитического курса, не переборщили ли ФРГ в своих играх с Западным Берлином, не срываются ли советско-германские экономические отношения и т. д.).
Ох, Россия матушка! Ох, mass media! – куда вам со своими утонченными инструментами разобраться в наших мотивах и причинах!
24 мая 1975 г.
В четверг в 6 часов, к концу рабочего дня Вершинин принес мне «Особую папку» и еще одну, толстую, явно какую-то рукопись. Сказал: Б. Н. просит тебя ознакомиться, но только сегодня, на ночь ее надо обязательно вернуть. У меня сидел Дилигенский – дела по многотомнику «Рабочее движение», а также о книжке Перегудова по лейбористам, которую издательство боится издавать и проч.
Он ушел, я раскрыл «Особую папку».
Записка двух отделов (Пропаганды и Оргпартотдела) по поводу записки в ЦК Андропова «Об антипартийной деятельности Л. Карпинского, Глотова и Клямкина». Л. Карпинский – сын знаменитого старого большевика, который после XX съезда и до своей смерти года два-три назад, когда ему было уже лет под 100, непременно занимал места в президиуме Дворца Съездов по большим праздникам, по случаю съездов партии и т. п. Лен Карпинский (имя от «Ленин») был до 1962 года секретарем ЦК ВЛКСМ, потом зав. отделом «Правды», потом его вытурили за совместную с Бурлацким статью в «Комсомолке» о том, как московские культорганы задушили одну из очередных пьес на Таганке (тогда и Бурлацкий полетел из «Правды»), потом вроде долго болел печенью или кровью, потом устроился на какую-то мелкую должность в издательстве «Прогресс».
Я его знал немного, как-то виделись раза два в театре на Таганке, потом однажды оказались рядом в троллейбусе. Раза два он внезапно заходил ко мне на работу, приносил списки иностранных книг, из которых мы, Международный отдел, должны были выбрать нужное, а они, «Прогресс», тогда уже будут переводить на русский для «особого списка». Из разговоров с ним я вывел только одно: это мягкий, очень интеллигентный и вместе с тем простой, контактный человек, симпатичный и отзывчивый в общении. С ним очень легко сходиться. Он держался со мной на «ты» и так, будто мы чуть ли не друзья детства. Никаких «таких» своих взглядов и идей он при мне и мне никогда не высказывал. Но вид у него был всегда печальный и угнетенный, на всем его старо-русско-московском интеллигентном облике лежала печать «мировой скорби». Большие глаза, тонкий с горбинкой нос, узкий овал, красивый правильный рот, черные волосы, костлявый, плечистый, сутуловатый и узкогрудый. Лет под 30 с небольшим.
Что он недоволен «режимом» было видно по всей его манере, хотя он не мог бы по самой своей натуре быть злобным оппозиционером.
Фамилии Глотова и Клямкина я увидел впервые. Это, оказывается, заведующие отделами редакции «Молодой коммунист».
Суть дела. Андропов докладывает в ЦК о том, что обнаружено намерение этих трех (во главе с Карпинским) издавать подпольный (самиздатовский) журнал «Солярис». В первом выпуске предполагалось поместить статью самого Карпинского «Слово тоже дело», статью Гефтера о ленинской методологии исследования общества и работу Лациса «Год великого перелома».
Карпинский, Клямкин и Глотов вызывались в КГБ, с них взята подписка об отказе от затеи, они предупреждены, а остальное – дело партийных органов (т. е. вопрос об их партийности и увольнении, или сохранении на прежнем месте работы).
Приложена магнитофонная запись беседы с Карпинским начальника управления КГБ Бобкова и фотокопия рукописи Лациса (та самая толстая папка). Запись поразила меня. Оказывается Бобков и Карпинский до 1962 года вместе работали в ЦК ВЛКСМ. С тех пор не виделись. И вот теперь встретились.
Поговорили об этом. Бобков напомнил, как бы спохватившись, что все-таки должностное лицо. Спросил, догадывается Лен, зачем его «сюда» пригласили. Тот сделал вид, что «нет». Далее – обычные, видимо, заходы: будем ли откровенны, иначе нечего и время терять.
Бобков вел разговор очень умно, достойно, без малейшего намека на запугивание, без всякого шантажа. Он откровенно сказал, что речь идет о «Солярисе». И когда, после некоторого перетягивания (не каната) слабой резиночки, Карпинский понял, что все и обо всем известно, он назвал и все фамилии и все, что делалось. И разговор пошел, можно сказать, теоретический, хотя оба не раз оговаривались, что не для того они здесь, чтобы вести теоретические дискуссии.
Карпинский отрицал намерение издавать журнал «по линии самиздата». Бобков резонно парировал: зачем тогда излагать мысли в связном статейном виде, редактировать тексты (Карпинский это сделал в отношении Лациса) и даже писать послесловие (к Лацису). Карпинский доказывал, что речь все же шла об обмене мыслями в очень узком кругу, а записывать – чтобы четко откладывалась мысль, чтобы можно было последовательно и организованно спорить, чтобы был какой-то порядок в рассуждениях, чтобы можно было фиксировать результаты дискуссий и т. д. Бобков отвечал (и вполне компетентно), что все самиздатовские дела начинались так же. Но коль скоро что-то напечатано, вещь неизбежно выходит из-под контроля инициатора, какие бы добрые намерения у него ни были. Вот, говорит, о вашем журнале (пусть, вы говорите, «библиотеке», которую вы хотели лишь складывать у себя на полке) знает Янов (это, оказывается тот самый литератор, который года два-три назад напечатал в «Новом мире» интересную статью об НТР и современном герое производственного романа. Я, помню, обратил на нее внимание). А теперь этот Янов – в Израиле, работает в «Голосе Израиля».
Или: написанное надо печатать. Для этого нужна машинистка. И вы нашли машинистку Алексееву. Но о том, что она печатает, узнали не только мы, но кое-кто другой. Мы сделали обыск и вот «Солярий» у нас, но он мог быть и уже, может быть, имеется и кое– где еще.
Карпинский при этом воскликнул: «Значит, мы ошиблись в человеке!». Оба засмеялись.
Между такими «отступлениями» Карпинский излагал свое кредо. Уже более 10 лет он мучается проблемой, откуда взялся Сталин, изучал, думал, живет от этого раздвоенной жизнью и несчастен от этого. (Да, и во внешней жизни он несчастлив. Мне говорили, что от него ушла жена, или сам он развелся, полюбил другую, женщину с четырьмя (!) маленькими детьми. И будто они живут душа в душу, он возится с ребятами, как со своими, но бедствует, бывает просто нищенствует. Вид у него всегда был затрапезный, неопрятный – вид, едущего с работы шофера тяжелого грузовика или водопроводчика.)
Так вот мучает его эта проблема потому, что, наблюдая, что происходит в стране, он пришел к убеждению, что причина в непоследовательности XX съезда. На съезде был поверхностный, теоретически несостоятельный, кухонный анализ феномена «Сталин», а после съезда были сделаны лишь кое-какие политические выводы (главным образом, ликвидация лагерей), а социально и экономически, а значит, идеологически все было оставлено по– старому. Демократия не развивается и в этом – источник наших неурядиц и бед.
Бобков согласился. Дважды или трижды они возвращались к теме демократии и реакция Бобкова была однозначна, что демократию, действительно, надо развивать, «но не с помощью же нелегальных изданий».
Карпинский горячо говорил, что не только вредно замалчивать и искажать нашу историю, что без этого мы не найдем средств к эффективному решению экономических и духовных проблем, но что это и невозможно. Длительный опят России показывает, что это невозможно. И нельзя еще и потому, что анализом того, о чем мы молчим, занимаются враги – иностранные враги. И всё все-равно становится известным.
Бобков возражал: кто же вам запрещает заниматься таким исследованием? Да и десятки институтов, ученых и проч. занимаются этим.
Карпинский тоже резонно парировал, что то, что он хотел бы сказать и до чего он додумался, никто печатать не будет. А в институтах даже устно можно говорить только в таких рамках, за которыми, собственно, и начинается настоящее исследование и понимание предмета.
Так они мило разговаривали.
Карпинский упрашивал не трогать Клямкина и Глотова. Бобков ему отвечал, что их «трогать» никто не собирается в определенном смысле. Но с ними уже беседовали, но они ведут себя по-дурацки. Все отрицают.
Карпинский: «Я им скажу, чтоб они не валяли дурака».
(Впрочем из «беседы», да и из записки неясно, какова роль этих двух из «Молодого коммуниста» в деле с «Солярисом»).
Бобков: «Ну, а что Гефтер?»
Карпинский: Гефтер вообще не при чем. Я с ним разговаривал, вообще мы много беседовали на вот эти темы. Он умный, глубокий человек. Он мне (Карпинскому) сказал: делай, как знаешь, я в этом участвовать не буду.
Гефтера я знаю с 1938 года, с первого курса университета. Он шел на два курса старше. Сначала я его помню как комсомольского вождя – он был секретарем вузкома. А перед войной (он заканчивал в 1941 году 5-ый курс) он был секретарем партбюро истфака. Гефтер был кумиром далеко за пределами истфака. Превосходный оратор, с ясной и четкой мыслью, большой культурой слова, он умел склонять в свою пользу любой спор, покорял аудиторию убежденностью. Я сам, помню, поражался, что после его речи я уже думал совсем наоборот по сравнению с тем, в чем был убежден до начала и в ходе собрания. (Меня он, конечно, не знал и не замечал. Я был тогда весьма рядовой и очень пассивный элемент). В нем было что-то от деятелей революционного времени, от эпохи гражданской войны. Он, видимо, представлял тот тип деятеля, который начинался от Троцкого, Зиновьева. Трибун огромной силы воздействия, с хорошей дозой демагогии, которая, однако, различима лишь для опытного слушателя (или для не очень правоверного интеллигента). В противоположность деятелям типа Кирова, тоже оратором и трибуном, тоже обладавшим кипучей, неуемной энергией. Но те были снисходительны к слабостям, к житейским обстоятельствам, способны понять простого человека – словом, представляли собой тип русского революционера и борца. А это был (как, видимо, Троцкий и Зиновьев) деятель с еврейским характером, неумолимый ригорист, не терпящий ни возражений, ни слабостей, признающий либо «белое», либо «черное», несколько любующийся своим превосходством и своей «железной принципиальностью».
Сейчас я, может быть, модернизирую свои тогдашние ощущения (и свой «восторг») от Гефтера довоенного. Но где-то, видимо, близко они лежат от того, чем он был на самом деле. Не надо также забывать, что это «1937–1939 годы»!!
22 июня 1941 года, когда нас собрали в Комаудитории на митинг, говорили многие. И говорил Гефтер. Это был огонь и пламя. Мы уходили вечером без тени растерянности и недоумения, которые охватили, в частности, меня после речи Молотова по радио. А 26-го или 28-го июня (точно не помню) мы уже ехали в эшелоне в сторону Рославля копать противотанковые рвы. Гефтер ехал во главе всего нашего много сотенного отряда в качестве комиссара.
Там он был тоже строг, вездесущ и неумолим. Его называли «Миша», однако, дистанция у него от массы всегда чувствовалась. Его авторитет был беспрекословен и вполне натурален. Все восхищались им и по-настоящему уважали. Да и впрямь! На него выпала нелегкая доля. Нас надо было кормить (и доставать еду где попало, в том числе от бегущих на Восток эвакуированных), надо было поддерживать наш дух и дисциплину, более того – энтузиазм. А потом, когда немец стал нас обходить и не успевали мы дорыть одну линию рвов, как надо было выбираться из пол-окружения и начинать копать на другой позиции – опять же Гефтер был организатором всего этого. Он связывался с воинскими частями, он распределял задания и руководил работой.
Помню, завелись вши. Миша отдал приказ: немедленно всех постричь. И начали стричь. Он, кстати, сам стоял с машинкой и помогал добровольным парикмахерам. Я восстал: у меня была роскошная шевелюра. Миша публично сделал мне длинное внушение, но все же снизошел и разрешил лишь обкорнать меня покороче.
К концу августа начался ропот. Мы то и дело вынуждены были отходить (нас ночью вывозили на машинах). Потому, что мы работали под постоянным наблюдением «рамы» или «костыля», немцы то и дело глубоко обходили нас слева и справа. Ребята призвали Мишу и потребовали, чтобы нам выдали винтовки, иначе нас в один прекрасный день возьмут как гусят в плен. Миша сказал речь (винтовок, конечно, не дали), но, помнится, прежней уверенности в том, что дело не может кончится плохо для всех нас, в его словах и манере уже не было. В конце августа 2-ые, 3-и, 4-ые курсы «по приказу Сталина», конечно, вывезли в Москву. Помню, с какой бешеной скоростью гнал эшелон машинист ночью и днем, а на Киевском вокзале студенты вытащили его из паровоза и минут 20 качали. 1-ый и 5-ый курсы остались. Остался и Гефтер.
Остальное – уже с чужих слов. Они там докопались до того, что попали, наконец, в полное окружение. Выбирались кто как мог. Миша вышел к своим без партбилета: закопал, когда случилась ситуация, из которой он уже не мыслил выбраться.
8 июня 1975 г.
Был у меня разговор с Пономаревым. Он сам заболел.
– Слыхали? Про Карпинского и других. И Лацис затесался. Из журнала («Проблемы мира и социализма» в Праге). А это ведь мы его туда посылали. Какой это Лацис?
– Не знаю. Впервые о нем услыхал.
– Это не муж поэтессы, которая ходит часто к нам. Все говорит: «У меня муж, Лацис, такой талантливый, такой талантливый» Вот тебе и талантливый. И Красина[35]35
Красин – консультант Международного отдела. Пономарев сам, по чьей-то рекомендации, «выписал» его лет 10 назад из Ленинграда. Общался с Роем Медведевым и был «засвечен».
[Закрыть]надо поскорей убирать. Как бы он не оказался здесь замешанным. Ведь Рой Медведев тут как тут!
Я попытался втянуть его в серьезный разговор. Наивность Карпинского никого не убеждает. Но за этим и проблема, и трагедия. И я начал было излагать то, что успел прочесть из папки Лациса (там три главы: Сталин против Сталина», «Бухарин против Бухарина» и, кажется, «Ленин против Ленина»). Успел я прочесть только первую, блестяще написанную повесть о том, как Сталин вместе с Бухариным стойко обороняли и проводили ленинскую генеральную линию (после смерти Ленина) и как Троцкий, Зиновьев и Ко и проч. потерпели поражение (и потому, что у Сталина в руках был аппарат), и потому что они выступили против утвержденной съездом генеральной линии партии – и оттого с самого начала были обречены. Он приводит уйму цитат из Сталина, которые (я поразился себе) мы все в свое время знали наизусть, в особенности из 1927 года, XV съезда., из которых Сталин, действительно, выглядит последовательным и умелым проводником ленинского (НЭП) подхода к строительству социализма.
Но вот январь 1928 года. Сталин едет в Сибирь и в его речах, опубликованных, оказывается, только в 1949 году, «когда Сталину некого было бояться и не перед чем стесняться», Сталина будто подменили. Он целиком перешел на позиции Троцкого, в чем его эзоповски через полгода уличил Бухарин в своих «заметках экономиста».
И т. д. Сумбурно, торопясь я изложил это Б. Н.'у. Он отреагировал – «Это сейчас не актуально». Я ответил: «Что же тогда актуально в нашей истории, если не это?» Ведь туда уходят корни и современной идеологической борьбы. Я, говорю, прочтя Лациса впервые понял, что Трапезников, удерживая монополию на этот период нашей истории, определяет исподволь, кто ревизионист, а кто ортодокс. Я понял, почему он так яростно, когтями держится за эту монополию. Ведь в нашей идеологической суматохе сейчас водораздел в конечном счете все-таки по линии: сталинист-антисталинист (или, хотя бы что тоже «подозрительно» несталинист). И именно Трапезников, занимал такую позицию в «Истории КПСС» у пульта в решении этого вопроса. Пока так будет, он будет определять идеологическую атмосферу, и будут вновь и вновь появляться «Карпинские» и проч.
Всю эту тираду Б. Н. выслушал с досадой. Повторил, что «это не актуально». И еще «Они (?) должны видеть, что во время празднования 30-летия Победы ни разу нигде не был упомянут». и он провел по усам. Вот это важно.
Разговор на этом кончился: к Б. Н.'у кто-то рвался.
Конечно, «важно!». Но на это тот же Трапезников и другие привыкли не обращать внимания. И это им вполне сходит. А главное. Тот самый итог, которым я хотел сегодня ограничиться: никто не составил себе труда вникнуть в суть дела (кроме кгэбиста Бобкова, но его функции ограничены и не он обязан делать идеологические выводы). Даже Б. Н. не захотел даже прочитать ни беседы Карпинского с Бобковым, ни брошюры Лациса. Но все секретари ЦК расписались, поддержав записку двух отделов, где тоже, видно, полностью материал прочитал какой-нибудь инструктор. Все это было передано в КПК для определения партийной ответственности Карпинского, Глотова, Клямкина.
За прошедшие две недели были всякие текущие события. 25-го приехал Уоддис. Я его встречал и ужинал с ним.
26-го Пономарев его принимал. Довольно все банально, хотя и значительно доброжелательнее, чем в прежние времена. Потом мы с ним отдельно имели две большие «дискуссии» по разным вопросам: «зачем вы так хотите встречи на высшем уровне между КПСС и КПВ?», «будет ли не формальный разговор?» – не понравилось ему, что Б. Н. назвал таиландских, малайских и т. п. коммунистических повстанцев «прокитайцами, сидящими на деревьях и стреляющими оттуда». Уоддис прочел мне целую лекцию о законности их вооруженной борьбы и закономерности влияния китайцев в их среде, как и в Африке.
В ответ я ему: если мы с вами будем так готовить встречу Брежнев-Макленнан, мы только поссорим наши партии. Это же ведь не теоретический симпозиум. Вы имеете что– нибудь предложить политическое по результатам обсуждения подобных вопросов? Нет! Тогда не надо их и поднимать на такой уровень. Мы, например, не имеем ничего для решения вопросов комдвижения в упомянутых странах и, следовательно, пусть поработает время, а не Брежнев с Макленнаном.
Еще говорили с Уоддисом о наших и китайских специалистах в Африке о том, «голодает ли английский рабочий класс» (этот вопрос задал Уоддису Пономарев), а также – «кому нужна европейская конференция компартий, – кому больше – нам или им?»
Луньков (посол в Лондоне) на аэродроме в Шереметьево. Предсказал 60:40 по референдуму об «Общем рынке». Теперь известно – 67:32. Причем 20 млн. англичан вообще не пошли к урнам – так он их заботит, этот «Общий рынок»!
Напряжение с Пономаревым перед отъездом его к избирателям: речь и доклад (для актива). Я в сердцах ему сказал: «Зачем столько хлопот? Все равно никто этих речей не читает!» Обиделся и больше меня «не тревожил», доматывал Вершинина, доказывая ему, что на Западе рабочий класс таки голодает, а наши ученые и статистики все врут.
В пятницу 30-го мая Б. Н. встречался с Арисменди перед его отъездом на Гаванскую конференцию компартий. Заготовил ему основу для разговора. Но без меня.
А мне пришлось провожать туда чилийцев. Для Пономарева они теперь потерпевшие поражение, и он не очень-то ими интересуется. Большой разговор – о смысле конференции, о том, что мы хотели бы упоминания о международном Совещании, упоминания маоистов и проч.
Они мне в свою очередь рассказали о поездке Альтамерано в Румынию. Тот вернулся в бешенстве. Между прочим, на требование объяснить, для чего Румыния сохраняет дипотношения к Чили, Чаушеску ответил: почему бы и нет, Советский Союз в 1939 году даже договор о дружбе заключил с Гитлером!»
Подонок! Но что делать?!
Пономарева сейчас очень заботит солидарность Брандта, Пальме, Крайского с португальским Соарешом (и деньги дают), их стремление развернуть антикоммунистическое наступление (после Вьетнама). На каждой шифровке он пишет мне всякие резолюции: мол, надо что-то делать. Я ему однажды предложил план конкретных действий (перед визитом сюда Миттерана). Был уверен, что никуда он этот план не употребит. Так и получилось. На этот раз я сочинил красивую реплику «Мера ответственности» (на 7-ми страницах). Вроде как бы для «Правды». Но такое надо пускать по Секретариату, и опять Б. Н. не пойдет, отговорившись, что, мол, «не то» и «не так». А на самом деле, просто 20 июня к Брежневу приезжает Брандт, и Б. Н., конечно, ничего не знает, как там будет, и тем более повлиять ни на что там не сможет. И уж, конечно, вылезать с критической, увещевательной статьей в адрес социал-демократии не согласится. К тому же, избирательная речь Генерального вот-вот!
В понедельник 2 июня были здесь Аксен и Марковский (СЕПГ). Обсуждали с Б. Н., что делать с европейской конференцией компартий. Обсуждали и французский казус. Между тем, французы заводятся все больше. Панков пишет из Парижа: встречался с Плиссонье. Тот был необычно жесток: мол, мы в корне расходимся с КПСС по анализу и оценке сути мирного сосуществования. КПСС отошла от принципов и от договоренности. Она пошла за итальянцами, югославами и румынами. Ради их присутствия и участия в конференции КПСС готова уступить в принципах. Документ, который представлен на подгруппу в Берлине в середине мая, для нас неприемлем. Он не может служить никакой основой. И если не будет возврата к апрельскому ауап1-рга|ес1:'у, мы документа не подпишем.
Марше публично тоже грозился документ не подписать. А «Юманите» опубликовала статью, в которой узнается все то, что говорил мне Канапа на Плотниковом, возвращаясь из Кореи.
Канапа на последнем Пленуме стал членом Политбюро! (Во время развелся с советской Вальей!).
3 июня состоялось первое заседание редколлегии «Вопросов истории» в новом составе. Появился там Хромов (от Трапезникова, из отдела науки) и еще человек пять в этом духе из ИМЭЛ'а, Института всеобщей истории и т. д. Домашняя атмосфера товарищества, иронии, доверительности и откровенности (с принципом – не обижаться), сложившаяся за 10 лет, исчезла начисто. Хромов трижды возражал мне (косвенно), «решительно» поддержав тех, кто не соглашался с моими оценками (по трем материалам). Трухановский ловко лавировал. Гапоненко наклонился ко мне: «Трудно теперь ему будет!» Но интервенции Хромова имели вполне четкую цель: показать, кто теперь здесь хозяин. Сел он рядом с главным редактором и все время чего-то ему бурчал – по каждой статье.
До первой большой стычки. Обидно. Все-таки журнал был для меня какой-то отдушиной в другую сферу. А теперь? Принципиальность свою демонстрировать? Зачем? При той-то ситуации, когда никто ничем по существу не интересуется.
Новенькие старались себя показать. И все – чтоб услышал Хромов. Громко, настырно, всюду требуя идеологического подхода и т. д. Я смотрел на них и думал: что движет этими 50-60-летними людьми? Зачем им это? Движет идея, какой-то свой принцип? Или они верят, что если в статье будет по ихнему сделанный абзац, что-то изменится? Или просто инерция держаться кресла? Не только инерция, а целая философия.
5 июня был у Дезьки (Давид Самойлов), 1-го у него день рожденья. Дезька читал свою прозу. Две больших главы (часа на полтора). Проза мемуарная, но глубоко объективизированная. Временами было ощущение, что присутствуешь при чтении чего-то подобного «Войне и миру» по густоте и структуре мыслей и чувств.
Одна глава – об Эренбурге как явлении советской истории и советского образа жизни. Другая – «Горянка» о горно-стрелковой дивизии, в которой он служил в конце 1942 – начале 1943 года на Волховском фронте.
Бессмысленно пересказывать. Отрывки очень разные и по теме, и по манере. Но объединяет их одно – Дезькино мировоззрение. Оно далеко от Солженицына. Он бесконечно далек от дешевой антисоветчины, от мелкотравчатого смакования наших провалов, несообразностей и недостатков. Но он позитивно не приемлет официальные и официозные, полузакрытые и закрытые (хотя и допустимые в узком кругу) объяснения нашей истории. Он не декларирует своего объяснения и даже в этих, по крайней мере, главах не формулирует его прямо. Но оно проступает из самой этой настоящей прозы: есть народ, он живет по своим законам, он меняется под влиянием неумолимых обстоятельств, но совсем не так, как это представляют записные политики, философы и литераторы. Он меняется по своему и он, в конце концов, определяет движение страны. Так было до войны (в меньшей степени, чем во время войны), так есть и так будет. Из ярких образов солдат, с которыми он вместе воевал (отнюдь не обязательно «хороших»), и, с другой стороны, из спокойного, бесстрастного и неодолимого разоблачения Эренбурга, как носителя лжи и полуправды, как спекулянта на народных понятиях и чувствах, складывается стихия движения народа. И несколько даже жутковато – от ощущения невозможности уйти от судьбы, которая заложена в этой саму себя не сознающей силе. Это проступает и из языка, который он впервые услышал на войне и понял, что для народа язык нечто совсем другое, чем для интеллигента и политика.
Внешне он страшен. Стар и облезлый. Хотя видит лучше. Читает. И бодр – не наигранной бодростью отчаянья, а от полноты и уверенности своего интеллекта. И от того, что у него столько друзей. Сама бытовая атмосфера, где пренебрегают «мелочами жизни», тоже, видно, жизненный фактор не последней важности.
14 июня 1975 г.
Вчера выступал Брежнев перед избирателями. Хотелось пойти, но как только сообразил, что каждая фраза будет сопровождаться аплодисментами (так оно и было), стало неприятно, и не пошел. Мне очень стыдно (и перед собой, и вообще) за эти «ладушки– ладушки» в серьезном деле. Говорит (т. е. произносит) он все хуже и хуже. Текст по внутренним делам очень банален – банальнее прежних (хотя писали по-прежнему Бовин, Блатов…). По внешней – новое. Врезал он и Форду и НАТО'вцам за ужесточение позиции (после Вьетнама), за всякие угрозы и нажим, за раздувание военных бюджетов. Это правильно. Язык построже ничего не попортит, но во время показать кулак в современной борьбе полезно.
Все обратили внимание, что появление Кириленко перед своими избирателями (причем, в Ленинграде) произошло позже Суслова (в Ульяновске), непосредственно перед Косыгиным. Все задают вопрос – что бы это значило?
Б. Н. вынудил-таки меня сочинить реплику для «Правды» на ужесточение позиции Запада после Вьетнама с акцентом на социал-демократию. Я сделал еще в прошлое воскресенье. Но он, как и следовало ожидать, положил под сукно. Пора бы уже привыкнуть, что его сверхактивность сразу затухает, когда от шума в наш адрес, приходится переходить к делу на уровне политики. И тут он сразу чувствует «пределы своей компетенции».
11-го июня состоялась «шестерка» соцстран в Волынском-1. О конференции компартий Европы и о положении в Португалии. Обсуждался и «французский казус», большинство было склонно приписывать причину «престижности», гонору французов. Однако, это на поверхности. На самом деле – за этим политика, которая в более резких и уверенных формах (чем у итальянцев, испанцев и многих других, имеющих реальные позиции в стране) все больше опирается на «не московскую» ориентацию, как главный фактор выживания и движения вперед. Вот буквально позавчера «Юманите» самым грубым образом отчитала поляков «за дифирамбы» в адрес Жискара д'Эстэна, который вот-вот должен приехать в Польшу: мол, мирное сосуществование не предусматривает в качестве обязательной нормы восхваление лидеров империализма, которые на самом деле ведут лживую политику и каждый день занимаются антикоммунизмом, называя социалистические государства «фашистскими», «тоталитарными» и проч.
Обсудить Португалию предложил Аксен, еще когда приезжал отдельно. Б. Н. охотно согласился и произнес длинную поучающую речь. Однако, из выступлений Аксена, Телалова, Фрелека, Денеша выяснилось, что их страны и партии имеют более активные и действенные связи с Португалией и помогают ей не только относительно (своих размеров по сравнению с нашими), но и абсолютно гораздо больше нашего. Я написал записку Вадиму об этом, а он ее взял и передал Б. Н.'у. Тот грустно согласился.
Неделю или больше до этого он мне вдруг заявил (в связи с почестями, которыми удостаивались у нас во время официальных визитов в СССР Великий герцог Люксембургский Жан и элегантная Маргарита II Датская). «Черт-то кого принимаем и обхаживаем, а на Португалию, которая имеет колоссальное значение для всего нашего дела, никто как следует не хочет обращать внимания!»
Между прочим, Костиков, зав. сектором Польши в катушевском отделе, рассказал мне о встречах Герека с Пальме. Герек был в Швеции с официальным визитом. С Пальме они встретились один на один (оба превосходно знают французский язык). А потом Герек подробно рассказал Костикову о разговоре.








