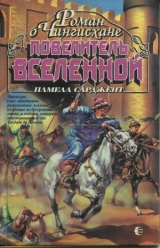
Текст книги "Повелитель Вселенной"
Автор книги: Памела Сарджент
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 51 страниц)
Тэмуджин смотрел на тело, губы его дрожали.
– Поднимите, – сказал он таким тихим голосом, что Бортэ едва расслышала его. – Поднимите.
Она потянула его за руку, но он смотрел на нее невидящими глазами, словно его собственная душа покинула его.
К ним подвели Мунлика с сыновьями. Тэмуджин отошел от Бортэ и поднял руку.
– Сила твоего сына покинула его, – сказал хан Мунлику, которого подтолкнули к нему. – Духи отступились от него. Из-за того, что ты не смог совладать со своими сыновьями, Мунлик-эчигэ, один из них лишился жизни. Ты заслуживаешь наказания за то, что не приструнил его, за то, что позволил ему нарушать спокойствие в моей орде и тревожить моих близких, за то, что он обманывал меня своим колдовством.
– Я наказан, – прошептал Мунлик. – У меня отняли сына.
– Ты в затруднительном положении, – сказал Тэмуджин, – но я тоже, потому что я не боролся с колдовством, которым он меня опутал, потому что мне хотелось верить… – Он вздрогнул. – Я обещал тебе, что тебя будут почитать, и теперь не могу взять свое слово назад, иначе никто не будет верить моим клятвам. Я могу убить тебя и сделать мою собственную мать вдовой. Твоя смерть ничему не послужит, а твоим честолюбивым помыслам положен конец. Ты и твои сыновья вольны уйти, куда вам заблагорассудится, но остерегайтесь причинять мне неприятности. Чего бы вы добились, если бы были действительно преданы мне!
Хан повернулся к стражам.
– Поставьте юрту над телом шамана. Занавесьте вход и закройте дымовое отверстие, а также поставьте охрану на три дня. Шаман был могучим человеком – я хочу быть уверенным в том, что его душа покинет его еще до похорон.
Шаман по-прежнему связывает его по рукам и ногам, подумала Бортэ. Тэмуджину скорее хотелось бы увидеть, как шаман восстанет из мертвых, даже если бы это грозило ему смертью, чем осознавать, что голоса, говорившие устами Тэб-Тэнгри, умолкнут навеки.
Мунлик склонил голову, и сыновья увели его прочь.
– Моим главным шаманом будет Усун, – сказал Тэмуджин бесцветным голосом. – Он и мудр, и слишком стар, чтобы быть честолюбивым. – Он поплотнее запахнулся в шубу. – Приведите мне коня – я не хочу оставаться рядом со злыми духами.
Он пошел прочь, не оглянувшись на Бортэ.
Оэлун не хотела, чтобы дочь приезжала, но Тэмулун настаивала на этом да еще привезла с собой трех шаманов. Шаманы камлали и принесли в жертву барана. Тэмулун, казалось, определенно решила, что злых духов, прилипших к ее матери, можно изгнать.
Теперь она сидела у постели Оэлун, болтая о белых соколах, которые достались ее мужу из военной добычи, захваченной у ойратов. Ее светлые глаза, так похожие на глаза Есугэя, сияли, когда она говорила о своих любимых птицах. Можно было подумать, что соколы – ее дети. О своих сыновьях Тэмулун говорила мало.
Очищая покрытый коврами пол от грязи и насекомых, служанки двигались по шатру почти бесшумно. «Уходи», – думала Оэлун, не желавшая, чтобы Тэмулун присутствовала при ее неожиданной смерти.
Оэлун закрыла глаза. Когда она открыла их, одна из служанок что-то шептала Тэмулун.
– До меня дошел этот слух, – сказала Тэмулун. На ее красивом лице была презрительная гримаса. – Все это глупости. – Она посмотрела на Оэлун. – Если Мунлик-эчигэ имеет какое-либо отношение к распространению этих слухов, надо бы предупредить его, чтобы прекратил заниматься этим.
– Но говорят, вход так и остался закрытым, а дымовое отверстие открыли изнутри.
– Наверно, хан велел похоронить тело тайно, – сказала другая служанка. – Люди видели, как…
– Не надо видеть этого, – возразила Тэмулун, – чтобы понять, что это вранье. Те, что боялись шамана, заинтересованы в его распространении, но другие восхищаются Тэмуджином еще больше за то, что он оказался сильнее шамана с его могуществом. Во всяком случае, Тэмуджин объявил: это, мол, Тэнгри забрал тело, и тем самым Небо дало знать, что оно больше не любит шамана и не разрешает его хоронить, так что мой брат извлек пользу даже из слухов.
Служанки стали делать знаки, отвращая беду. Разговоры о смерти и похоронах были неуместны у постели больной женщины. Тэмулун махнула рукой, чтобы женщины вышли, и склонилась над Оэлун.
– Когда тебе станет лучше, мама, ты приедешь посмотреть моих птиц.
– Тэмулун, твои птицы будут охотиться без меня, а тебе следует быть со своими сыновьями, а не со мной. Уж не хочешь ли ты привезти им злых духов? Ты сделала для меня все, что могла – пора возвращаться.
Тэмулун поднесла руку матери к щеке. Оэлун почувствовала, что она мокрая от слез.
– Мама.
– Я люблю тебя, дочка. А теперь дай мне отдохнуть.
Тэмулун рыдала. Оэлун закрыла глаза и задремала.
Когда она открыла глаза, дочери уже не было, но у постели стоял кто-то еще. Она пригляделась и увидела в полумраке лицо Мунлика.
– Я потерял сына, – сказал он. – Мне нельзя терять жены. – Придавленный горем, он согнулся совсем по-стариковски. – Мне надо было послушаться тебя. Другие мои сыновья совсем струсили. Что я буду делать без тебя?
Она была не в силах ответить ему.
– Я полюбил тебя с первого взгляда давным-давно, – сказал он. – Я знаю, что меня не сравнить с багатуром, но ты меня приободрила. Чем я буду без тебя?
Она с трудом подняла руку. Мунлик взял ее, опустил и поправил одеяло.
Наконец он ушел. Оэлун не слышала ничего, кроме воя ветра снаружи. Служанки ушли. Она поняла, что перед шатром стоит копье, предупреждающее всех, что внутри смерть.
Оэлун уснула. Когда она проснулась, боль немного отпустила, но, наверно, она просто привыкла к тому, что когти злого духа постоянно сжимают ее. Какой-то человек смотрел на нее глазами Есугэя – это ее муж пришел за ней.
– Твое имя будет жить, Есугэй, – тихо сказала она. – Тэмуджин превзошел все, о чем ты и мечтать не мог. Тысячи тысяч знают, что великий хан рожден от твоего семени.
– Мама, – сказал человек.
– Тэмуджин, – выдохнула она. – Ты рискуешь быть проклятым, находясь здесь.
– Рискую так рискую. Я не могу позволить тебе уйти, не повидавшись последний раз. Я попросил у Хасара прощенья и вернул ему его стада и людей. Я проклинал себя за огорчения, которые я принес тебе.
– Теперь у меня нет огорчений, – сказала она. – Я жила для того, чтобы увидеть, как ты объединишь народ и создашь государство. Пора отдохнуть, Тэмуджин. Жизнь моя закончена, и ты стал ханом.
– И несмотря на все, что-то из моей жизни ушло. Я е могу…
– Всем нам приходится умирать в одиночку. Твой отец ждет меня… Прощай.
Он прошептал молитву и ушел. На западной стенке шатра затрепетала тень, имевшая человеческие очертания. Оэлун медленно приподняла голову, теряя сознание от боли, раздиравшей ее.
– Есугэй, – прошептала она, уронив голову на подушку. Ее душа покинула тело и вознеслась к Есугэю.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Тэмуджин сказал: «Высшая радость человека заключается в том, чтобы победить своих врагов, гнать их пред собою, слышать рыдания тех, кто любил их, ездить на их конях, сжимать в своих объятиях их жен и дочерей».
96
Ее служанки плакали. Шикуо оглядела почти пустую комнату. Ее любимая курильница из слоновой кости, ее масляные лампы, шелковые и бумажные свитки уже вынесли и погрузили на мулов, которым предстояло вывезти ее пожитки из города. Ее драгоценности, шелковые халаты, белье, камчатые скатерти, парча, меха – все было упаковано и приготовлено к отъезду.
Шикуо громко хлопнула в ладоши.
– Идите, – прошептала она. – Мне хочется побыть одной перед отъездом.
Служанки поклонились и вышли из комнаты. Желтая пыль, всегда появлявшаяся весной, тонким слоем покрывала пол. Шикуо стала коленями на подставку из слоновой кости и посмотрела на раскрашенную ширму у окна. Даже среди толпы она жила во дворце так, будто между ней и окружающими стояла ширма.
Она изгнала из головы все мысли, чтобы она была пустой и чистой, как свиток, которого еще не коснулась кисть, и появились в ней образы, которые она хотела припомнить.
Какой-то человек, державший кисть, сидел за низким лакированным столиком. На нем был халат из тонкого белого полотна, скрепленный на левом боку усыпанной драгоценностями пряжкой. Он был императором Цзинь всю жизнь, известный собственному народу под именем Ма-та-ко, но сейчас ей в голову пришло другое имя – Чжанцзун, и под этим именем он останется известным навсегда.
Таким она увидела своего отца, одетого по-чжурчженьски и упражняющегося в каллиграфическом искусстве Хань, хотя она совершенно не помнила, видела ли она императора Чжанцзуна одного. Как и император Шицзун, занимавший трон перед ним, он поощрял ношение одежды собственного народа, который покинул лесистую местность на севере, чтобы править государством Хань. Говорить полагалось на собственном языке, запрещалось носить одежду ханьцев, а те, что не кланялись низко согласно дворцовому этикету, рисковали быть выпоротыми розгами. И все же Чжанцзун говорил и по-китайски, изучал письменность китайцев и окружал себя их учеными. Чжурчженьские дворяне часто нарушали его повеления.
И еще одна картина предстала перед ней – Чжанцзун на белом кцне преследует оленя. Человек, не умеющий охотиться, не способен и воевать. Император требовал, чтобы его мэньани и моукэ, правившие государством, сдавали экзамены по стрельбе из лука. И все же сам он охотился только на землях вокруг Чжунду, никогда не посещая пустошей родины чжурчженей.
Чжанцзун наследовал трон после смерти своего деда Шицзуна. Он воцарился как чжурчженьский властитель, но он также считал себя преемником ханьцев. Лишь протесты его министров удержали Чжанцзуна от того, чтобы возвести любимую рабыню-китаянку в сан императрицы, это место всегда принадлежало жене-чжурчженьке.
В год тигра, когда Шикуо было шесть лет, одна из наложниц отца, которая в то время была фавориткой, научила ее рисовать. Дама полагала, что Шикуо было, бы полезно позаниматься с мастером, но это вряд ли осуществилось бы. Шикуо была ребенком незначительной наложницы-китаянки, которая скончалась, не родив императору сына, и она по всем признакам была так же болезненна, как и ее мать.
Но в том же году император южного государства Сунь внезапно напал на государство Цзинь и был побежден. Отец Шикуо получил голову Хань То-Чжоу, главного министра Сунь, затеявшего войну, гарантии мира и дань. Вскоре после победы в апартаментах Шикуо появился один из малоизвестных мастеров рисования и каллиграфии. Наверно, император был в хорошем расположении духа, когда наложница обратилась к нему.
Она вспомнила тот день, когда издалека увидела своего отца в окружении евнухов и советников в парке его летнего дворца. Больше она никогда не видела его. Через два года после победы цзиньский император, наследник «Золотых» императоров, уничтоживших киданьскую династию Ляо, присоединился к своим предкам.
Ей представился бамбуковый стебель. Любимым местом Шикуо в парке летнего дворца была бамбуковая рощица на берегу озера. Летний дворец в Чжунду был почти таким же большим, как императорский дворец в центре столицы, величиной едва ли не с город, с его тысячами министров, придворных, евнухов, приезжих дворян, императорской гвардией и легионами слуг и рабов. Ежедневно прибывали обозы с провизией и всем необходимым для двора. Купцы в тюрбанах, белых шляпах и маленьких шапочках ханьцев часто ночевали в дворцовых стенах.
Придворные дамы проходили мимо Шикуо, не обращая внимания на церемонную девочку, сидевшую с рабынями у озера. Чжурчженьские дамы шествовали в своих шелковых халатах, и при каждой была рабыня с зонтиком или балдахинчиком, защищавшим от солнца. У многих ханьских женщин были крошечные забинтованные ступни, отчего бедра их вихлялись, когда они семенили своей птичьей походкой. Дамы с такими ступнями редко ходили пешком, их обычно несли на носилках по изогнутым мостикам и по дорожкам парка, обсаженным подстриженными деревьями.
У чжурчженьских дам была золотистая кожа и румяные щеки, ханьские женщины были хрупкими созданиями с кожей бледной, как тонкий пергамент. Шикуо была скорее похожа на китаянку, на свою мать, но, к счастью, ноги ей с детства не бинтовали. Она окрепла после смерти отца и часто прогуливалась по парку с сестрами и рабынями.
Ее сестры и другие придворные дамы разговаривали о любовных делах и дворцовых интригах. Изредка они касались событий, происходивших вне дворцовых стен. Онгуты, жившие за Великой стеной, все еще отказывались платить дань. Тангуты Си Ся наконец покорились царю северных варваров и теперь совершали набеги на цзиньские провинции, граничащие с Си Ся. Но это, кажется, не заботило императора. Тангуты были слишком слабы, чтобы одерживать победы над цзиньскими войсками, а варвары, жившие севернее пустыни, снова занялись междоусобными распрями.
Рисуя, Шикуо научилась выделять главные линии и штрихи, чтобы они не терялись среди второстепенных. В разговорах, которые она слушала, тоже надо было ухватить главное, как бы оно ни тонуло в болтовне. Она поняла, что многие считают Янь-ши, ставшего императором Вэй, слабым и нерешительным и что его окружение это устраивает. Он позволил своим мэньаням и моукэ заниматься поборами и не требовал совершенствоваться в охоте и военном деле. Его, казалось, нисколько не волновало то, что военная мощь государства теперь зависела от киданьских генералов и солдат.
В год овцы в разговорах придворных дам появилась тревожная нотка. Северные варвары захватили несколько аванпостов. Войска, посланные против них, потерпели поражение. Ходили слухи, что император был готов бежать из Чжунду, пока советники не уговорили его остаться.
Шикуо была бессильна повлиять на такие события, и у нее были другие заботы. В тринадцать лет она боялась, что император может выдать ее замуж за человека, далекого от дворца, за живущего далеко чиновника, в поддержке которого он нуждался. Она хотела избежать подобной участи.
Она начала показывать некоторые свои рисунки императору. Рабыня передавала свитки императорским рабам и возвращалась с лестными отзывами о ее работах. Когда один из младших министров пришел в ее апартаменты в первый раз за новыми рисунками, Шикуо обрадовалась. Если императору понравятся рисунки, он, возможно, приблизит ее. Она сама питала дамские слухи, которые рисовали ее в его глазах как девушку слишком слабую, чтобы переносить существование вне дворца.
Мазки ее кисти становились более уверенными. Она изображала веселящихся дам, группу придворных на широком дворе, музыкантов, играющих на инструментах, шелковицу за своим окном. Она хотела сохранить образы императорского дворца и еще более любимого летнего дворца на севере города на случай, если двор вынудят оставить их.
Шикуо помнила высокого молодого человека, придворного, который разговорился с ней в императорском саду. Немногие задерживались здесь на исходе зимы, но Шикуо любила холодный чистый воздух и вид голых ветвей с проклюнувшимися почками. Рабыни были с ней, хотя и протестовали, боясь, что их госпожа простудится.
Она остановилась на дорожке, думая, что молодой человек после церемонного приветствия проследует своей дорогой, но он задержался. Звали его Елу Цуцай, и был он сыном Елу Лу, киданьца родом из бывшего киданьского императорского дома, но его семья служила цзиньской династии со времен правления Шицзуна. Елу Цуцай уже добился таких почестей, которые были необычны для киданьцев, по большей части своей предпочитавших служить в армии. Чжурчженьские ученые, слабо разбиравшиеся в классиках, часто получали более высокие мандаринские степени, нежели образованные киданьцы и китайцы.
– Мне хочется сказать вам, ваше высочество, как я восхищаюсь вашими рисунками, – пробормотал молодой человек. – Ствол бамбука вы рисуете изящными и уверенными мазками.
– Ваша похвала возвышает меня, – ответила она. – Я знаю сочинения вашего отца и ваши собственные недавние достижения. То, что такой ученый может получить удовольствие от моих жалких усилий, радует меня.
– Есть и еще один рисунок, который меня тоже восхищает, – сказал он. – Он висит в апартаментах Главного астронома. Дерево, затененное крышей дворцовой ограды. – Шикуо кивнула, император иногда дарил ее свитки любимым приближенным. – У меня было такое чувство, будто стена может вдруг исчезнуть, а дерево останется в одиночестве. Но душа художника раскрывает себя полнее в искусстве изображения бамбука, и тут я нахожу и изящество, и мощь.
– Благодарю вас за лестные слова, – сказала она.
Елу Цуцай поклонился, поплотнее закутал шею меховым воротником и удалился.
Она бы забыла этого молодого человека, но тот день в саду теперь казался последним мирным днем на ее памяти. Позже, весной, другой киданец, князь Елу Люко, восстал против императора и объявил себя Ляо-ваном, государем киданьцев, а потом присоединился к захватчикам-варварам. Противник начал движение по дорогам и перевалам в направлении Чжунду.
Перед ней встало лицо молодой китаянки. Женщина была рабыней, отданной Шикуо за несколько месяцев до того, как изменник Елу Люко перешел на сторону врага. Голова рабыни склонилась, полузакрытые глаза – как полумесяцы, на щеках слоновой кости – персиковый румянец.
Женщину звали Ма-тан. Она не родилась рабыней. Чжурчженьскому мэньаню приглянулась земля дворянской семьи, и он придумал обвинение, которого оказалось достаточно, чтобы казнить ее отца, а ее семью продать в рабство. Как и большинство рабынь дворца, Ма-тан обзавелась верными подружками, на сведения которых можно было положиться. Через них она узнавала о событиях при дворе и за дворцовыми стенами еще до того, как они становились предметом дамских разговоров.
Шикуо обнаружила, что становится более зависимой от сообщений рабынь, поскольку придворные дамы стали более сдержанны на язык. Ма-тан приносила ей вести о голоде, о крестьянах, которые из-за потери урожая и разорения их земель варварами хлынули к двенадцати воротам Чжунду просить еды. Обозы с провизией теперь приходили в город из Кайфына и других городов на юге, у Желтой реки. Ма-тан говорила ей о городах, которые горели по несколько дней, и дорогах, заваленных человеческими костями. Шикуо вспоминала эти рассказы всякий раз, когда ее приглашали в один из императорских залов для пиршеств, где двор все еще обжирался пищей, доставленной с юга.
Император послал армию под командой своих генералов Ваньен Каня и Шуху Каоши, чтобы встретить противника тем же летом. От Ма-тан услышала Шикуо, что всем узникам в Джунду, Сычуане и Ляодзыне была дана общая амнистия с тем, чтобы пополнить ряды армии. Отчаяние императора стало еще более очевидным, когда он послал за Ке-ши-ле Шичунем, генералом, уже обесчещенным из-за поражения, нанесенного ему войском варваров. Вопреки советам большинства министров, император простил Шичуня и сделал его заместителем командующего цзиньской армией.
Шикуо предавалась воспоминаниям, глядя на черное осеннее небо, придавившее императорский дворец. Звезды спрятались за тучи, а потом ночь вдруг ожила, посыпались искры, выросли сверкающие огненные деревья, заполыхали цветы, и грянул гром. Зрелище было устроено по приказу Шичуня, некогда заместителя командующего, а ныне регента империи.
Той осенью император узнал, что армия под командованием Каоши и Каня была разгромлена. Ему сообщили, что сам государь варваров повел войска на центр, а два вражеских крыла охватили бегущую армию с флангов и тыла. Император разгневался еще больше, когда узнал, что Шичунь, которому приказано было защищать стены города, оставил Чжунду и отправился со своими людьми на охоту. Подозрительный император Вэй, боясь, что его заместитель командующего может перейти на сторону врага, послал гонца с приказом о смещении его с поста.
Новость об императорском гневе быстро распространилась по дворцу. По словам Ма-тан, некоторые придворные готовились покинуть город. Шикуо так и не узнала, бежали ли эти придворные. Через несколько дней после того, как император послал гонца к Шичуню, заместитель командующего вошел в Чжувду, и его люди окружили дворец.
Со двора доносились вопли, а из-за двери – звон мечей и крики торжествующих и умирающих солдат. Шикуо выжидала в своих покоях, окруженная своими рабынями, пока не стих шум. Она было поднялась из кресла, как в дверь ворвались трое солдат с мечами в руках.
Она тотчас поняла, что это не дворцовая стража.
– Как вы осмелились войти в мои покои? – Голос ее дрожал, ее охватил страх перед этими раскрасневшимися буйными людьми. – Вы стоите перед дочерью императора Чжанцзуна.
Солдаты попятились. Один из них сказал:
– Мы не тронем вас.
– И вы не тронете тех, кто со мной. Если вы это сделаете, то император отрубит вам головы.
– Сын Неба не сделает ничего без согласия нашего командующего. Город теперь принадлежит ему.
Мужество едва не изменило ей, но она заставила себя смотреть солдату прямо в глаза. Тот постоял немного и, поклонившись, вышел из комнаты.
Она осталась со своими женщинами, боясь покинуть покои. Вечером пришел солдат и сказал Шикуо, что ее приглашают на ужин. Женщины обрядили ее в зеленый халат, отделанный золотой парчой, и повели в зал.
В коридоре, инкрустированном золотом, было полно солдат, стороживших каждую дверь. Еще больше было их в открытых переходах, которые вели в крылья дворца, и перед входом в большой зал для пиршеств. На возвышении, где обычно сидел император, восседал Шичунь, окруженный дамами с раскрашенными бледными лицами. Императора не было нигде.
Тысячи придворных сидели за длинными столами и ужинали, когда министр объявил, что Шичунь провозгласил себя регентом. Дамы, сидевшие с ним, были самыми знатными в городе, им приказали присутствовать. Придворные глотали суп и пожирали еду без обычной сдержанности. Когда подали вино и шелковые цветы, как обычно, были вручены гостям, многие стали громко смеяться, втыкая цветы в прически. Церемонии были забыты, многоголосый шум заглушил невеселую музыку.
Шикуо ела мало. Один за другим министры провозглашали тосты в честь регента. Их поклоны и речи казались насмешкой над церемонией. Двор вел себя бесстыдно, никто ни на минуту не забывал о присутствии солдат в стенах дворца. Наверно, они думают, что Шичунь может спасти их от монгольских захватчиков. А может быть, они просто пируют, пока есть такая возможность.
Шичунь не отпускал никого до глубокой ночи. Он крепко выпил, и голова его покоилась на плече набеленной придворной дамы. Когда Шикуо возвращалась в свои покои, солдат в залах и переходах было уже меньше. Ее рабыни стояли в прихожей и смотрели в окно, как во дворе пускают фейерверк.
– Принесите мне тушь и бумажный свиток, – сказала Шикуо, сев за низкий столик, за которым она обычно рисовала.
Две женщины принесли ей то, что она просила, еще одна поставила на столик масляные лампы. Она махнула рукой, отпуская женщин, и начала растирать тушь на влажных плоских камнях.
Замысел картины пришел к ней через мгновение. Кисти ее клали на бумагу твердые, уверенные мазки. В императорском кресле сидел человек, сжимавший одной рукой кубок, а другую запустивший во взлохмаченные волосы белолицей женщины. Сбоку стоял солдат с поднятым щитом и мечом в руке, слегка повернув голову к сидящему.
Шикуо положила кисть и вытянула руки, почувствовав боль в плечах. За окном были сумерки, большая часть женщин спала на кушетках и подушках, но Ма-тан бодрствовала, и Шикуо подозвала ее.
Молодая женщина встала, подошла к ней и опустилась на колени у столика.
– Это не император, – сказала Ма-тан, взглянув на рисунок, – и женщина похожа на обыкновенную шлюху. Что же касается солдата, то я не могу определить, то ли он защищает их, то ли хочет отвернуться.
– Человек в кресле – это регент Шичунь. Женщина относится к тому сорту гостей, которых бы ему надо пригласить на пир вместо тех, что там были, а солдат…
Ма-тан открыла от волнения рот.
– А если он увидит это? Если это найдут…
– Выходит, нам надо позаботиться, чтобы не нашли, – сказала Шикуо, – но если и найдут, что с того? Мы пропали, но я благодарна моему искусству – я буду наслаждаться им, пока не придет конец.
Избавившись от иллюзий, которые все еще питали многие при дворе, она как бы сняла пелену со своих глаз. Рисуя без страха выдать себя, свои сокровенные мысли, как подобает любому настоящему мастеру, она стала более сильным художником. Она теперь поняла, что ее ранние рисунки, хоть и сделанные мастерски, были в основном работами девушки, которая хотела понравиться. Лучшая из них – рисунок бамбука, восхитивший Елу Цуцая, – сделана, когда настроение было безмятежным. И неважно было больше, спасется ли она от бури, грозившей городу, с рисунками, которые будут напоминать ей об утраченном, или погибнет.
Услышав, что Шичунь казнил Ваньен Каня, она не удивилась. Кань был одним из командиров, побежденных монгольским войском, и возможным соперником Шичуня. Она спокойно восприняла весть о том, что он приказал убить императора Вэя. Она знала, что лишь по совету министров он удержался от того, чтобы не занять трон самому. Через несколько дней после захвата дворца Шичунь призвал Сюань Цзуна, единокровного брата отца Шикуо, в столицу, чтобы тот занял императорский трон.
Пренебрежение регента новым императором было очевидным. Шикуо нарисовала дворцовую сценку – император Цзун мешком покоился на своем троне, а Шичунь, всегда сидевший в присутствии императора, обращался к придворным сам. Рисунок обидел бы обоих, поскольку показывал, что император слишком не уверен в себе, чтобы потребовать должного уважения, а генерал опьянен своей властью.
Через два месяца после того, как Шичунь объявил себя регентом, он выступил, чтобы дать бой монгольскому отряду севернее города. Он вернулся в Чжунду и объявил, что одержал победу, а потом послал против врага Шуху Каоши, пригрозив ему смертью, если тот не даст отпора противнику. К тому времени стало ясно, что победа Шичуня обошлась дорого, и только отчаяние заставило задействовать Каоши, который был в опале из-за своего прошлого поражения.
Каоши монголы побили, но смертный приговор, который Шичунь обещал ему в случае поражения, был приведен в исполнение над самим регентом. Еще не дошла в столицу весть о разгроме, как Каоши вернулся в город, внезапно напал на резиденцию Шичуня и отрубил ему голову при попытке к бегству. Император Цзун забыл заслуги человека, вознесшего его на трон, простил Каоши и назначил его заместителем командующего.
Шикуо вспомнила, как впервые нарисовала одного из ястребов императора. Это была детская проба, почти не передававшая стремительности птицы, налетевшей на свою добычу.
Потом Шикуо подумала о последних нескольких месяцах, проведенных в императорском дворце, когда она часто бывала в покоях министров и их жен и в канцеляриях, где писцы и ученые работали над свитками документов. Иногда она приносила с собой свои тушечницы и кисти. Порой она просто изучала то, что хотела нарисовать. Она дарила рисунки некоторым министрам, и они вскоре привыкли к ее присутствию и не обращали внимания на младшую принцессу, которой не было дела ни до чего, кроме рисования.
Она была в канцелярии чиновника военного ведомства, когда к нему пришли для доклада два офицера. Оба сражались с монголами, и им было что доложить.
– Отступающий противник опасней всего, – сказал один из офицеров. Чиновник кивнул, показывая, что знает это. – Он отступает и вовлекает солдат в преследование, потом поворачивает и наносит удар. Говорят, что так ему удалось прорваться за Великую стену, и я могу в это поверить, хотя некоторые утверждают, что без взяток здесь тоже не обошлось.
– Они совершенствуются в искусстве осады, – сказал другой офицер, – благодаря изменникам, которые перешли на их сторону. Противник заставляет пленных стрелять из катапульт и сооружать осадные башни, а также толкать их вперед при штурме города.
– Они передвигаются быстрее, чем я мог себе представить, – добавил первый офицер. – Армии, отстоящие друг от друга на тысячи ли, продвигаются одновременно – так быстры их верховые, передающие распоряжения генералов. Я разговаривал с людьми, которым удалось бежать из одного города, и когда они добрались до другого на востоке, то обнаружили, что монголы, от которых они удрали, атакуют и его.
Ястребы ее отца не упускали добычи. Шикуо в тот день рисовала не ястреба и не чиновника с офицерами, а зайца, прижавшего уши и напружинившего ноги, чтобы бежать.
Шикуо представилась столица с высоты птичьего полета. Ее отец приказал ремесленникам изготовить масштабную модель города в одном из залов, где ее разрешалось осматривать лишь членам императорской фамилии и самым близким придворным. Маленькие кирпичные зубчатые стены с двенадцатью воротами окружали город. Девятьсот башен выстроились у трех рвов, выложенных синими самоцветами.
Она восхищалась изогнутыми, украшенными рубинами карнизами миниатюрного летнего дворца и тонкой резьбой деревьев вдоль дорожек парка, сделанных из слоновой кости. Вне пределов модели города стояли четыре форта, каждый из которых был городом сам по себе, окруженный башнями и рвами. Она узнала, что умельцы даже воспроизвели подземные ходы, которые вели в город из этих фортов, хотя сверху их увидеть было нельзя.
В начале года Собаки император Цзун направил посланника к противнику просить мира. К тому времени город Шо Шоу сдался монголам, и еще три генерала со своими войсками перешли на сторону врага. Императору в просьбе о мире было отказано, столица приготовилась к осаде.
Все шестнадцать лет своей жизни Шикуо передвигалась по улицам вне дворца только в экипаже или носилках. Вскоре после нового года по распоряжению императора она с императорским домом перебралась из дворца в северный форт столицы. Самым богатым гражданам города было велено переселиться в восточный форт, чиновникам и их семьям – в южный, а дальним родственникам императорской семьи – в западный. Император надеялся, что форты с их солдатами, зернохранилищами, арсеналами и оборонительными сооружениями выстоят, даже если в высоких стенах города будут пробиты бреши.
Широкая прямая улица, которая вела от дворца, для проезда была очищена от народа, но Шикуо мельком видела за рядами солдат испуганные лица. По обе стороны дороги стояли телеги, нагруженные провизией и сеном, доставленными из сельской местности, на других громоздились кирпичи и камни, предназначенные для того, чтобы бросать их в противника со стен. С серого неба падал снег. К тому времени, когда Шикуо и другие достигли подземного хода, город покрылся белой пеленой.
В особняке, предназначенном для императорской семьи, Шикуо и ее рабыням отвели три маленьких комнаты. Солдаты на стенах могли отразить натиск противника. Шикуо не знала, на что надеяться.








