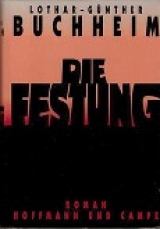
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 92 (всего у книги 111 страниц)
Но куда? В Старый порт, конечно!
Переставляя ноги, размышляю: А если все мои усилия действительно потерпят фиаско и мы не получаем здесь транспорт? Ждать здесь прихода Maquis? Или, все же, попробовать вырваться отсюда с конвоем? Но во мне все противится этому: Ради Бога! Нет! Только не это! Я уже сыт подобным приключением по горло. Мне только такого еще и не хватает: Пережить такую же катавасию повторно…
Только не психуй! говорю себе. Не позволяй себе чувствовать, что оказался в мышеловке. Перед поездкой сюда, в La Rochelle, я еще не хотел принимать эту мысль. Но теперь!
– Я просто вне себя! – часто говаривала моя бабушка, когда была сильно возмущенна.
Моя добрая бабушка Хедвиг со своими слоновьими ногами! Довольно часто мне приходилось их ей плотно заматывать, чтобы она могла передвигать ноги и она – богатая фрау Буххайм – урожденная Югель – медленно и тихо двигалась по улице. И это без машины или трамвая. Старая бабушка Хедвиг просто не признавала никакого другого способа передвижения.
Значит, конвой отправится через три дня! Не прямо вот сейчас, ни через час – нет, именно через три дня! Братишки должно быть точно спятили. Думаю, все их предприятие уже обречено на неудачу: Ведь, когда все автобусы соберутся в одном месте, все группы Maquis по всей Франции сразу же получат о том известие, и уж тогда террористы смогут в полном покое обдумать, как спланировать нападение и где устроить засаду.
На тесных улицах полыхает зной.
Нет ни дуновения ветерка, который смог бы его уменьшить. Во всех домах закрыты ставни, кроме цветочного магазина. Но, как раз для цветов эта зависшая над городом жара должна быть особенно пагубной…
Подойдя ближе, понимаю, что все цветы – пестрые букеты в витрине – изготовлены из раскрашенного фарфора, а на заднем плане обнаруживаю настоящий парад венков из жести и фарфора.
Господи! Это же похоронные венки из искусственных цветов!
Белый цвет и мои черные мысли, как хорошо они гармонируют!
Час Пана! Но мне не смешно: Здесь, под этими сонными аркадами не топает своими неуклюжими, козлиными ногами Бог пастухов Пан.
Здесь все окрашено в ложные цвета. Пепельно-серый цвет домов и серебряный отблеск мостовой тоже не соответствуют окружающей картине. Только тысячи стрелковых прорезей-амбразур в закрытых наглухо ставнях соответствуют ей.
И вдруг замечаю ставни, закрытые лишь наполовину и образующие вертикально вытянутую полоску тени. Но уже в следующий миг изнутри протягивается рука к черной вертикали – и четыре широко расставленных белых пальца хватают ставни за края, и со стуком деревянные, поперечно-прорезанные ставни захлопываются, и этот стук такой громкий, словно строительный кран высоко сверху уронил стопу досок на мостовую. Другие, едва приоткрытые ставни, также захлопываются будто автоматически. И опять с сильным стуком.
– Boy, boy! – говорю себе, чтобы успокоить звенящие от напряжения нервы.
Мои ноги совершенно самостоятельно находят дорогу в Старый порт. И вскоре я успокаиваюсь.
Старый порт мне уже знаком, прежде чем я приходил сюда в первый раз – а именно по маленькой картине Камиля Коро.
Однако надо признать, что такие вот огромные черные винные бочки, сложенные в три плотных ряда на пристани и сразу же привлекающие мой взгляд, у Коро, на его картине, отсутствовали. Меня так и подмывает подбежать к ним и постучать, чтобы услышать, пусты ли они.
Но что с того? Они вполне могут быть пустыми, если судить по тому количеству вина, которое мы выпили, будучи оккупантами этой страны за четыре года.
Когда приближаюсь, над гигантскими бочками поднимается путаница мачт, и передо мной также понижается теперь и сдерживающий взгляд край пристани, и становятся видны рыбачьи лодки, пришвартованные вплотную друг к другу: Они выглядят старыми и требующими ремонта, голубая краска повсюду отвалилась. Их такелаж полностью выцвел. Судя по виду, невольно понимаешь, что эти лодки довольно давно не выходили в море: Хотя, рыбачьи лодки могли бы выполнять дозорные функции.
Солнце слепит меня так сильно, что приходится закрыть глаза. Однако, вскоре я должен снова проморгаться, чтобы наладить резкость в глазах. Едва слышны какие-то далекие, глухие шумы. Приходится встряхнуться и сделать тверже шаг, чтобы не передвигаться, словно в полусне.
Доносится потрескивание, оханье и стенание древесины трущейся о древесину. Но стоит хоть на секунду закрыть глаза, чтобы отчетливее расслышать это трение, и ощущаю легкое качание и шатание.
А вскоре оказываюсь в окружении винных бочек, широких лодок, мачт и двух мощных башен у входа в порт. Через несколько шагов приходится остановиться, и придержать фуражку, чтобы она не свалилась на землю.
И тут меня осеняет: Пара стаканчиков вина! Выпить на жаре вино и затем под этим ярким солнцем топать, едва передвигая ноги… – как это было глупо с моей стороны!
Неудивительно, что я не встретил ни одного человека на своем пути.
Здесь на юге в это время не выходят на улицу: Я же об этом совершено не подумал. Оптический голод был тем кнутом, что погнал меня в дорогу. И вот теперь я должен все выдержать и оставаться на ногах, словно боксер на ринге после удара в челюсть.
В этот момент у меня будто второе дыхание открылось. Я уже чувствую, как из меня пар выходит: Но могу ступать более твердо, и размытие изображения и кручение окружающих меня картин, прекращается.
Лишь вихрь мыслей нельзя остановить. Я должен подумать о слишком многом.
Мой мозг работает как все три арены цирка Барнума и Бейли: Там, на каждой арене, происходит что-то свое: Выступают фокусники и клоуны, а на высоте в полуровня работают эквилибристы на першах и жонглеры на свободной проволоке, а над ними, высоко под куполом, в это же время работают еще и акробаты на трапеции.
Сейчас мой мозг является точно таким трехслойным цирком… и при всем при том, я все еще как бы нахожусь на борту: Движение подлодки по-прежнему проявляется в каждой клеточке моего тела. Мои ноги бредут по железным плиткам центрального коридора, а не по брусчатке мостовой. Даже мои легкие стараются сильнее сжаться, когда кто-то окидывает меня взглядом.
Лучше всего, присяду-ка на один из мощных кнехтов, стоящих, будто бравые солдаты: точно в ряд. Правда, в этом случае меня можно легко и просто подстрелить из любой из ста амбразур в закрытых наглухо ставнях, но кто пойдет на такое, в этом тягостном полуденном свете?
Всего лишь часы прошли с нашего прихода на берег, но что это были за часы: Сначала ошибочное напряжение ожидания встречи с берегом, затем разочарование, и куча всяких мелочей. А теперь еще и это RIEN NE VA PLUS!
Внезапно испытываю к себе такую жалость, что едва не падаю.
Симона, Старик…
С Брестом окончательно покончено, и еще многим придется там пасть в траву – нет, скорее, в грязь: Там все перерыто и перепахано. Я же напротив болтаюсь здесь с неповрежденными своими членами, здоровым телом, с головой на плечах – без каких-либо blessuren. Лишь немного встревожен. Можно было бы даже сказать: немного не в себе, в легком трансе и с глубоким удивлением тому, что все еще жив и дышу и хожу.
Приходится часто и сильно морщиться и моргать из-за яркого, слепящего солнца. Потому нехотя поднимаюсь и влачу свои стопы мимо ряда причальных тумб до вёсельной шлюпки, которая лежит вверх килем в тени гигантских винных бочек. Там присаживаюсь, полусидя, полуприслонясь.
Какие же сильные отличия между Брестом и этим местом! Даже касательно шлюх: В Бресте они размещались в казармах, здесь сидят в тени аркад в своих легких, заношенных платьицах. Отсюда видишь, что Брест словно бы вовсе не относится к Франции, а лежит где-то там, высоко на севере сам по себе. И такого яркого полдня как здесь, я еще никогда не переживал в Бресте.
Но какого черта я, собственно говоря, сижу посреди этого призрачного города? La-Rochelle – слово из трех слогов, так же как и как Pom-pe-ji. Здесь Помпеи. Вся жизнь давно удушена. Я – единственный, у кого все еще пульсирует кровь в артериях.
Меня так и подмывает ощупать себя: Старое сомнение в своем существовании!
Встаю и бреду, словно персонифицированное чудо выживания сквозь горловину пышущей жаром печи ада.
Две невысокие почти черные собаки-полукровки, искавшие тень вблизи от меня, медленно, в темпе замедленной съемки, поднимаются с мостовой и понуро бредут, едва болтая бессильно висящими хвостами. На той стороне тела, на которой лежали на мостовой, они серые от пыли. Обе собаки кажутся единственными живыми существами в этой полуденной, мертвой гавани – не считая меня.
Погруженный в свои мысли не заметил, как снова очутился перед бистро. Все проститутки переместились внутрь, и расселись за маленькими столиками. В полумраке вижу стоящие вдоль стен обитые красным и довольно затертые скамейки. Едва лишь заказал у официанта, одетого, несмотря на жару, в черный саржевый пиджак, вино, тут же началось жеманное поднятие и опускание век, выпячивание грудей и встряхивание конечностей: Любовные потуги с демонстрацией желания в прямом смысле этого слова. Но ни у одной не заметил в это мгновение ни истинного любящего взгляда, ни настоящих чувств. Им все же стоило бы заметить, что я сижу здесь натянутый как обнаженный нерв, не имея ни крошки в животе.
Теперь, смотря на плюш этого заведения, вспоминаю, что когда-то уже бывал здесь. Но было это не в полдень, а ночью: Тогда играл небольшой джаз, и все заведение производило впечатление глубокого мира и покоя.
Решаюсь заказать, как советовал Крамер, морской язык и омара. Подзываю стоящего неподалеку официанта и спрашиваю об этом.
– Sole au beurre! Serre gutt! Homard a l’armoricaine не есть готовый.
– Тогда только морской язык!
Двое армейских коллег проходят через открытую дверь. Отмечаю про себя: сапожки из тонкой кожи, бриджи с кожаной задницей, фуражки с шиком сдвинуты на макушку. Оба без излишних церемоний подсаживаются к дамам: немецкие «богатыри», оставляющие без внимания все предупреждения – или просто у них нет своего Крамера.
В моей хемницкой юности я представлял себе, что уступчивые дамы появляются только ночью: Такой уж у них бизнес.
Затем, в Париже, на площади Мадлен, я видел, как такое «предприятие» работало в полную силу и в полдень: Томные вздохи и шуры-муры перед гастрономом с пустыми витринами, были одним из таких способов.
В первый раз мне удалось наблюдать необычное время работы «ночных мотыльков» на Gare de l’Est.
Я приехал ночным поездом из Мюнхена и почти сразу же очутился в стайке charitable сестричек – следуя терминологии Крамера, называвшего так этих Ladies. Тогда я собрал все свое мужество в кулак и спросил одну из них, кого они в это, почти еще ночное, сонное утро, встречали, стоя на вокзале. И узнал: В первую очередь, рабочих, прибывающих с ночной смены и не желающих сразу, с поезда, идти домой к женам и детям.
Морской язык требует от меня сконцентрированной деловитости в обращении с двумя вилками.
Проходит немного времени, когда замечаю, что сбоку, через два столика от меня, какая-то рыжая дамочка держит свою голову так же наклоненной, как и я, будто она передразнивает меня – а я ее.
Когда я, поднеся вилку ко рту, вскидываю на нее быстрый взгляд, вижу темные глаза, полу-прикрытые верхними веками.
– Не теперь! Мне жаль, mon chou! – говорю ей почти беззвучно.
Но дамочка глядит на меня мягким, просящим взглядом. Грустная «дневная бабочка»? Не думаю! Лучше не рисковать. И, кроме того, я крайне утомлен, да еще и вина напился!
Пока позволяет время, пройдусь-ка немного после еды, вместо того, чтобы сидеть здесь и играть в гляделки.
А потому, снова в путь! При этом усмирить свои мысли, и выверить каждый свой шаг…
Пустой, безлюдный тротуар, и вновь аркады, зияющие как темные глотки. Мои шаги гулко звучат в тишине. Звук такой, словно за мной гонятся.
Я чувствую, внимательно вслушиваюсь и веду себя как загнанный зверь. Я кажусь себе странно отчужденным от всего происходящего. И все же, при всем при том, я внутренне натянут как струна.
Моя правая рука играет несколькими франками в кармане. Что это? Надо освободить руку. А может лучше идти посреди улицы? Убеждаю себя, что мне на этой улице едва ли что может угрожать. И сразу же, невольно убыстряю шаг. Только никакого театра! Так, теперь снова идти медленно!
Пахнет рыбой. Находится ли здесь где-то поблизости рыбный цех?
Выхожу на широкую площадь: Какая-то церковь в стиле барокко и – словно выстроившиеся в каре – запертые дома. Глаза их мертвых окон усугубляют безжизненный вид.
И вскоре оказываюсь, только на этот раз с другой стороны, в порту. Взгляду ничто не мешает, и я останавливаюсь и наблюдаю движение облаков. За вантами двух больших транспортных парусников, которые, конечно, уже давно больше не ходят в море, движется очень медленно плотное, надутое, словно индюк, облако. Без вант, служащих мне ориентирами, я бы и не заметил, что оно движется.
В переулках, ведущих к гавани, наконец, начинает пробуждаться какая-то жизнь. Несколько ставень раскрываются и с резким треском стучат о стены на своих петлях.
Приближается время моей встречи с Крамером. Направляюсь в обратный путь, к бистро.
Рыжая девка, с глазами цвета яшмы, все еще сидит там. Она сидит, подперев руками голову. Перед нею на тарелке лежат панцири омара. Неужели мне следовало быть чуть настойчивее при моем заказе?
Четыре из пяти проституток очевидно заняты. С чувством завсегдатая, опять сажусь под аркадами. Спустя какое-то время меня охватывает страх, что Крамер не придет в условленное время, но как раз в этот момент он и подъезжает: Резко визжат тормоза. Две скорбные черные полосы остаются на проезжей части.
– Ну? – спрашивает Крамер.
– Безуспешно! Ничего не достиг.
– Я так и думал…
– Они готовят выход на автобусах…
– Слышал уже об этом.
– Через три дня должны отправиться – в конвое.
– Хоть что-то, по крайней мере!
– Не смешно! Я уже имел подобный опыт: Попытка к бегству из Бреста. Мы тогда там здорово получили от Maquis по морде и должны были вернуться. Просто послать несколько автобусов без тщательного прикрытия – это же не конвой! А в случае нападения ни один хрен не знает, как он должен себя вести. Этому нас никто не учил…
Крамер молчит какое-то время, но, наконец, произносит:
– Может, я что-нибудь придумаю…
Затем говорит, полуобернувшись ко мне:
– Утро вечера мудренее.
– Но мне-то надо спешить!
– Я знаю, знаю…
На какое-то время воцаряется молчание.
– Кстати, три из самых горячих шлюх были как раз недавно расстреляны, – говорит затем Крамер.
– Расстреляны?!
– Да!
– Как это?
– Из Вальтера, если хотите знать точно. Имелись неопровержимые доказательства того, что они сотрудничали с Maquis.
Крамеру, судя по всему, неприятны мои постоянные расспросы. И все же продолжаю спрашивать:
– Но, я не понимаю одного: Почему здесь находятся все эти trotteusen – в светлый-то день? Может они тоже?
– Только не эти, – отвечает Крамер, поворачиваясь при этом ко мне с косой ухмылкой на лице.
Мне следовало бы взять с собой Бартля в La Rochelle. Он, бесспорно, имеет лучшие способности, чем я общаться с нижними чинами. А теперь ему придется получить такое печальное известие. Но как мне успокоить его?
Если бы кому-нибудь пришла мысль, все эти бараки-казармы по-разному раскрасить! Они выглядели бы веселее, и в этом дурацком Краале время тоже текло бы веселее.
Но прежде чем встретиться с Бартлем, надо зайти в Административный блок, чтобы получше сориентироваться в обстановке.
Прохожу мимо казармы, служащей кают-компанией для обер-фельдфебелей. Шум голосов, доносящийся из открытых окон, такой громкий, что невольно сдерживаю шаг и останавливаюсь.
– А я уже однажды даже за борт выпадал, – доносится чей-то громкий голос.
– Да ладно заливать-то!
– Это было прямо перед входом в порт…
– И чё? Была причина?
– Парень, это случилось в фарватере. Все же, вы должны понять это – там были такие вот буи…
– Так ты пожалуй запросто на буй и взобрался?
– Ну, ты совсем тупой, раз так рассуждаешь! – раздается в ответ.
Жаль, думаю, так интересно было бы дослушать до конца, но судя по всему, рассказчик замолчал надолго. И тут раздается голос Бартля:
– Что-то в этом роде однажды случилось и со мной тоже, – почти так же… Когда они заметили, что я свалился за борт, то дали полный ход назад…
Пауза.
– Они подошли почти вплотную, так что хватайся, сказал я себе, – продолжает Бартль выждав, – и тогда хватаюсь за руль, в последнюю минуту, и замираю. Они еще некоторое время все искали меня и, конечно, спрашивали себя: Куда только запропастился этот парень? А я, наконец, вспомнил: Они не должны оставаться в неведении насчет меня, и стал стучать в борт: три коротких удара, три длинных, и тогда они услышали меня в машинном отсеке и подняли тревогу – а затем меня вытащили… И не глядите на меня как на чокнутого! Так все и было!
– Э, мужик, хорош баланду травить!
– Кончай травить баланду! Сменить пластинку! – слышу театральное стенание.
Не могу понять: старый Бартль снова наступает на те же грабли. Вхожу в дверной проем и говорю во внезапно наступившую тишину:
– Эй, Бартль?
Бартль рывком поднимается и выходит, при этом его трубка выпадает изо рта.
Перед бараком говорю ему:
– Вы разве все еще не заметили, что здесь происходит? Вы хотите остаться здесь? Судя по всему, Вам нравится эта «поляна»…
Бартль стоит как наозорничавший школьник перед строгим учителем.
Сообщаю ему о провале моей миссии в La Rochelle:
– Мы должны по-любому вырваться отсюда, – ворчу глухо, – Но проблема в транспорте. От этих сук никакой помощи не дождаться! А Вы просто сидите и вешаете братишкам лапшу на уши. Короче, Вам пора уже проявить лучшее из Ваших врожденных талантов.
– Слушаюсь, господин лейтенант! – только и мямлит Бартль и уходит, понурившись.
В следующий момент мимо проходит адъютант, и я обращаюсь к нему:
– Скажите, где в данный момент находится шеф Флотилии?
– Он тоже не сможет Вам ничем помочь! – звучит короткий, резкий ответ.
– Я только хотел бы знать, где он пребывает в настоящее время, – настаиваю я с возбуждением в голосе, – если, конечно, слово «пребывает» верное для этого выражение.
– Шеф флотилии все еще на рыбалке, если Вы хотите знать это точно.
Ну, это уж чересчур! Все еще на рыбалке! Командующего, например, всегда можно было найти на теннисном корте. А наш короткоштанный постоянно на рыбе.
– Весьма признателен за информацию! – кричу вслед адъютанту и удивляюсь сзади его кривой походке.
Чтобы немного успокоиться, смачно сплевываю ему вслед, но таким образом я все равно далеко не уеду. На меня наводят ужас и мой Крамер и столовка на ярмарочной площади – и вся эта тупая, сонная банда, населяющая этот проклятый барачный лагерь. И хотя я, в прямом смысле слова, еле-еле тяну ноги, я хочу смыться куда-нибудь – и мне совершенно по барабану куда.
Писарь, с которым я уже общался, приближается, пялится на меня и салютует поднятой в нацистском приветствии рукой.
– Сегодня будут показывать кино, господин лейтенант – сразу после приема пищи.
– Прекрасно! Большое спасибо…, – лепечу, заикаясь, и хочу уже поднести ладонь к козырьку, когда замечаю свою ошибку. И тогда, вместо этого приветствую его так же, как я видел, делал господин доктор Йозеф Геббельс – изломленным предплечьем и брошенной вперед ладонью так, будто желая дать знак остановки.
Значит – кино! Ах ты, Боже мой!
Я уже достаточно насмотрелся «кино» в течение последних месяцев – и весьма реалистичного кино, так скажем.
Я бы лучше попытался вновь, вопреки царящему паникерству, прогуляться по La Rochelle вместо того, чтобы peu а peu сходить здесь с ума. Еще несколько дней тушиться в этой атмосфере – я едва ли смогу это вынести, зная, что в какой-то момент буду находиться на мушке, а затем меня застрелят где-нибудь в автобусе…
Но зато, на специально забронированном для тебя месте! иронизирую над собой.
Ну и попал же я в заваруху!
Я должен рассчитывать только на себя, на свои силы – это самый лучший вариант! Еще не пришло время капитуляции!
Итак, что же делать?
Для начала направлюсь в барак на ярмарочной площади, так как мне просто необходимо пропустить стаканчик коньяка.
А там, будем живы – поглядим.
К счастью, в помещении клуба никого нет, кроме маата, дремлющего за стойкой, опираясь на вытянутые руки, но он сразу вскакивает и спрашивает:
– Бокал «Бекса», господин лейтенант?
– И один Мартель, пожалуйста!
Пиво, говорю себе, может подождать.
Когда обнаруживаю часы над рядами бутылок на задней стене, не хочу поверить положению стрелок: Неужели уже так поздно? Еще несколько часов, и второй день пребывания здесь закончится.
Баланс этого второго дня не радует: Я облажался по полной. Я попал в тенета такого бюрократического театра, перед которым любой христианский мореплаватель испытывает настолько сильный страх, что вовсе не хочет возвращаться на сушу.
Мне следовало бы давно понять слова Старика: «Лучше сражаться с противником, чем с канцелярскими крысами!»
Это был его всегдашний девиз. А потом они его самого сделали начальником толпы канцелярских задниц… безумная свистопляска!
Уже при первом взгляде на эту флотилию я заметил, что у них здесь не стоят никакие машины. В Бресте было по-другому.
А может быть, они здесь просто хорошо спрятали весь свой подвижный состав? К членовозу, на котором должно быть доставили КПФ к самолету, меня определенно не подпустят. Я даже еще не видел его…
Но мы должны раздобыть какой-либо драндулет – даже если это будет всего лишь мотоцикл с коляской.
Парочку таких колымаг я видел в La Rochelle.
Да, мотоцикл с коляской! Но кто знает, смогу ли я им управлять…
У меня на ремне все еще висит кобура с пистолетом. А поскольку я лучше всего размышляю, когда двигаюсь, то отправляюсь побродить еще немного вокруг территории лагеря.
Парни из экипажа U-730 сидят группками на солнышке, перед стеной своей казармы. Никого из офицеров не видно. Инженер, скорее всего, будет на лодке, а оба помощника командира, наверное, пишут письма. А где находится командир? Может в Бункере? Или забился в свой кубрик?
Во мне тут же разгорается возмущение: Почему здесь ничего не делается для лодки и экипажа? Как только командир может мириться с тем, что здесь происходит?
Приближаясь, киваю двум часовым в воротах лагеря, и замечаю, что они не делают никаких попыток хотя бы изобразить отдание чести. Выйдя за ворота, останавливаюсь перед оградой из колючей проволоки, посреди пыльной дороги. После чего ноги, совершенно самостоятельно, находят путь к Бункеру. Но на этот раз оставляю громадное здание слева и устремляюсь на пристань, к которой мы пришвартовались: Хочу пройти до самой оконечности мола с красным фонарем въезда. Это меня успокоит.
Мол – являет собой мощное сооружение из больших, добросовестно соединенных тёсаных камней: Его верх имеет ширину колесной колеи.
С моря дует легкий бриз, который придает шероховатость и легкое волнение воде бутылочного цвета по обеим сторонам. Хорошо конечно то, что я добрался до самой оконечности мола, но моим ногам и нервам требуется отдых. Не хватало еще, чтобы я потерял над собой контроль! В такт своих шагов шепчу: Выиграть! Жить! Выиграть! Победить! Жить! Жить!
Эта банда свиней не должна сломить меня. Будь они трижды прокляты!
Нахожу отдельный тесаный камень, имеющий подходящую высоту, опускаюсь на него и устремляю взгляд на открытую воду: Там, в глубине мы все преодолели! Под водой прошли с честью все расстояние, целую неделю – и это от тех нескольких миль от Бреста до сюда.
Временами я находился в лодке, словно в глубокой прострации: Имеются промежутки времени, о которых я вообще ничего не помню. Было ли это самозабвение? Целыми часами там, под водой, я был как полутруп. И тогда не ощущал себя больше не только на этой земле, но и на других, летящих где-то планетах. Там чужой мир… Там мы ему не принадлежим.
«Потерянные в Атлантике»! Вот был бы заголовок для моей книги!
Глаза буквально впитывают бескрайнюю морскую гладь, отражающую блестящий купол неба, и одновременно, будто наяву, вижу сквозь тонкую, изменчивую зеленую поверхность таинственную черную глубину, в которой навсегда исчезло великое множество кораблей со своими экипажами. То, что я выжил, поистине является чудом. В настоящий момент трудно поверить, что я сижу здесь, на этой грубой бетонной глыбе и рассматриваю солнечный закат: серебряный и оранжево-красный… То, что противник более не искал нас, хотя мы буквально висели у него на крючке, можно воспринимать лишь как чудо.
Чувство грусти, как при прощании, пронзает меня. Если бы я не казался себе слишком нелепым со стороны, то подошел бы сейчас к кромке воды и окунул в нее свою правую руку – Shake hands с Атлантикой. То, что это прощание будет навсегда, знаю наверняка.
С этого момента это будет называться: Покончить с морскими неприятностями бросив кости на землю. Черт его знает, что будет, но чтобы небеса еще не планировали насчет меня, одно знаю точно: Я никогда больше не увижу Атлантику.
Меня охватывает болезненная грусть: Прощальная тоска.
Во мне звучат строки Джозефа Конрада: «И живем, и грезим мы в одиночестве – монотонно и без надежды…»
Пожалуй, я сижу здесь уже целую вечность и буквально пропитан видом неба и моря, и, думаю, наступила пора повернуться к морю спиной!
Так и сижу теперь: Farewell to the ocean.
Дьявол его знает, как мне справиться с этим щемящим чувством. Невольно сглатываю, чтобы сдержать, готовые политься ручьем, слезы.
Моряк на суше не дешевка, а фраер первые три дня.
Под Брестом, в Cap Saint-Mathieu, я в первый раз стоял на побережье Атлантики, а сейчас – когда в этот прощальный миг бросаю последний взгляд на расстилающуюся внизу большую воду – у меня под ногами Мол La Pallice: Два важных момента в моей жизни – прибытие в мой морской мир и прощание с ним.
Ветер, который дул тогда с моря, имел, по меньшей мере, силу в 7 или даже 8 баллов, и пенные брызги от бушующего между утесами прибоя летели мне в лицо. С тех пор я бесчисленными часами сиживал между серыми гранитными скалами и пристально смотрел на воду – всегда со щемящей тоской и грустью в душе. Несчетное количество раз, и никогда Атлантика не повторяла себя вчерашнюю.
Как и всегда, когда я, таким же образом как теперь, смотрю на солнечный закат, странное ощущение некоего посвящения пронзает меня, и я буквально осязаю тысячи картин моря, хранящиеся во мне. Некоторые из них – словно взятые из истории возникновения земли моментальные снимки: Весь глобус – один большой океан. Чудо, что бескрайние воды не вылились во вселенную. Могу представить себе шар из твердой земли – это мне легко. Но шар из воды? И сверх этого еще чудо приливов и отливов!
Сейчас вода передо мной являет собой гигантское зеркало из жидкого серебра с огненно-красным нацелившимся мечом, рассекающим ее поверхность…
Внезапно во мне, вместо удивления от блестящего великолепия, вновь разбухает глубинно-темная грусть: К чему все это? Почему я бьюсь как рыба об лед? Они все равно разделают нас всех под орех – так или иначе. Раньше или позже. Мои школьные приятели, те, с которыми я общался, с которыми дружил – все погибли. А мой наставник Царь Петр? Что с ним? Я, словно наяву, вижу его стоящим вытянувшись во весь рост за письменным столом и слышу его напоминание: «Читайте Конрада!» – А в Бресте?
«Более 40 американских танков!» слышу голос адъютанта. «Северо-восточнее Бреста» были подбиты. Прикрываю глаза: Если такое количество танков было подбито, то, сколько же их может быть задействовано в наступлении? А прямо там, где они атаковали, стоят здания флотилии.
Я могу, уперев взгляд в линию горизонта, отчетливо видеть, как первые, прорвавшиеся у гаража Ситроена танки, будто на американских горках скатываются по дороге усыпанной разбитыми в щебень руинами домов Rue de Siam – медленно вверх и вниз, напоминая грузовое судно на мертвой зыби.
Саван из изумрудно-серебряного изменяющегося сатина, предназначен не каждому мореплавателю. Тем, кто затерялся там, в морской глубине, приходится лишь позавидовать: они стали гораздо ближе к ядру Земли, чем те, кто лежат в могилах глубиной в три метра присыпанные комковатой землей.
Как же я хочу прекратить думать!
Просто не брать ничего в мозг, никаких картин не воспринимать – что за благо должно было бы это быть!
Если я закрываю глаза и плотно сжимаю веки, это мне удается, но затем снова в мозгу возникают картины, которые я вовсе не хочу видеть, – словно из ниоткуда – и вижу себя: Одного, покрытого гусиной кожей, сидящего в кольце передней переборки и сдерживающегося, чтобы не дрожать. Не дрожать – как будто от этого что-то зависит!
Снова сходить к лодке? Нет, этого мои нервы не выдержат. А в La Rochelle? Может быть, Крамер еще не уехал…
Но затем благоразумие побеждает, и я выкидываю из головы и La Rochelle и взбалмошные эскапады. Я могу поступить как командир, говорю себе, и просто исчезнуть из вида. Лечь по-раньше спать, а там – как Бог на душу положит.
Во Флотилии мне снова перебегает дорогу адъютант.
– Нант пал! – говорит он растеряно, – Вчера.
Нант! Я сразу понимаю, что это значит: Этим отрезана вся Бретань.
– Вот тебе и на! Откуда известно?
– По телеграмме! Связь снова восстановлена.
Нант пал – это звучит зловеще: Нант – это чрезвычайно важная гавань. Янки могут радоваться по полной. В Нанте обычно стоит больше кораблей, чем в порте Saint-Nazaire. От Нанта досюда всего около 170 километров. А на дорогах янки едва ли встретят сопротивление. Если им, чтобы добраться от Ренна до Нанта по местности, где должны были бы все еще стоять наши части, потребовалось лишь несколько дней, тогда…
Не хочу вычислять, как скоро они могут здесь появиться и сколько еще остается того небольшого времени, пока Maquis поднимутся здесь тоже.
– Ну, теперь-то, наконец, Вы понимаете, что за игра здесь идет? – ору адъютанту в лицо. Но он уже вновь смотрит также невыразительно тупо, как и всегда. Я мог бы двинуть ему по роже как неработающему автомату, чтобы выпал проглоченный им грош. Но лишь шумно втягиваю носом воздух и говорю себе, чтобы успокоиться: недолго осталось ждать, когда этот идиот будет вынужден сделать Hands up и будет иметь при этом точно такое же тупое выражение на своей роже.
В столовой – куда забрел, чтобы выпить еще бокальчик пива на ночь – появляется инжмех.
– Однако здесь все идет кувырком, – жалуется он. – На тщательный ремонт можем не рассчитывать по любому. Немецкие судостроительные рабочие уже в большинстве своем убыли…
– И что теперь?
Инжмех передергивает плечами. Затем хлопает своими толстыми рабочими рукавицами о стол, тяжело падает на стул рядом со мной и охватывает голову руками.








