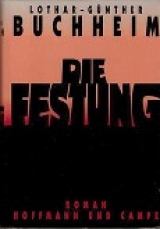
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 111 страниц)
По дороге в гостиницу едва верю в то, как все прошло. Хочется прыгать от радости и коленопреклоненно благодарить судьбу. Одному Богу известно, что может произойти со мной в Париже. Хотел бы без всяких докладов Бисмарку тут же уехать из Парижа в Брест: это всего лишь ночь в поезде с вокзала Монпарнасс.
Если бы я мог дозвониться до Старика! Но я не осмелюсь сделать это ни под каким видом!
Мне надо быть внимательным, чтобы не сломать ноги в развалинах и мусоре. Весь тротуар усыпан кусками кирпичей, деревянных конструкций, щебня….
В номере, в вазе стоит букетик фиолетовой сирени. Он смягчает суровую обстановку. Болезненно-бледная фиолетовость цветков не напоминает фиолетовый цвет фиалок. Наверное, горничная принесла из какого-нибудь пустого номера.
Буквально валюсь на кровать и думаю о старике. Должно быть я вздремнул. Уже стемнело. Что это я с собой делаю? В последний вечер в Берлине заперся в номере и хандрю? Уж лучше прошвырнуться по улицам и запечатлеть их вид.
Но, прежде всего, смыть с себя всю эту грязь! Ванны в номере нет, лишь умывальник и конечно только холодная вода. Но это даже и хорошо: такая вода, надеюсь, придаст мне бодрости. Еще одна довольно непростая задача – привести в относительный порядок обувь: нет никаких щеток или тряпок. Расстелив лист газеты, осторожно снимаю туфли и оставшись в носках ставлю ноги на газету. Сняв брюки, складываю их, но они выглядят как нестиранная ветошь. Из брючин сыпется пыль. Повезло еще что я был в своей не совсем уставной шинели: хоть она не впитала в себя всю эту пыль и чад.
Наконец привожу себя более-менее в порядок и выхожу на улицу. Честно говоря, не имею представления куда идти: просто иду и дышу.
Вот мелькнул свет, словно там пивнушка. Подхожу, спрашивая себя: что меня там ждет?
Свет падает из полуоткрытой двери жилого дома. Значит, двигаемся дальше. Наверное, заблудился. Лучше бы храбро остался в номере, чем неуверенно плестись по темному городу. И в этот миг попадаю на своеобразную танцплощадку: Дворец Танца! Ясно видно мерцание металлических пластин, которыми покрыты стены, также видны люстры, мрамор и образцовые девушки. Вот это да! Но почему это они смотрят на меня как истуканы? Что-то здесь не так. Ах, да! Запрет на танцы. Значит, только «гляделки»! А в Дании, говорят, запрета на танцы нет. В Дании есть сливки, копченое мясо и сало – а здесь то, что есть.
На улице грязь, мусор, чад и вонь, а здесь неземные существа. Сижу и удивляюсь. У меня такое чувство, словно я наблюдаю все это со стороны.
В Париже почему-то совсем не думал о том, какие чувства и настроения ЗДЕСЬ царят. Только теперь понимаю тех офицеров и командиров, которые, возвращаясь из отпуска, старались не ехать через Париж. «В Берлине из-за грязи неба синего не видно!» А позже выходят на курс транспортов – но перед транспортами летят самолеты, по три-четыре штуки, и их бомбы находят своих жертв в глубине: и трупы плавают по воде и небо сливается с горизонтом.
Внезапно вижу лицо: круглое как вся девушка. Даже шляпка у нее на головке круглая. Какой-то парень подходит к ней и Кругляшка звонко хохочет: она уже занята!
Имеются ли здесь тоже похотливые «боевые подруги»? Однажды я пережил нечто подобное. Запомнилось на всю жизнь. Боцман Фишер как-то подхватил двух дам: «боевую подругу» и ее подружку. Кроме того, он до этого уже принял изрядно на грудь. Остановившись по-среди улицы, задрав вверх голову, он орал во всю глотку:
«Мы выпьем-ка рома
В одном ресторане
В другом же закусим мы коньяком…»,
а затем обратившись к дамам: «Если все наше дело стоит не дороже трех рейхсмарок, то не стоит и штаны снимать».
А что за берлога то была, куда мы наконец все добрались: куклы в платьях с рюшами, игрушечные медвежата и миниатюрные садовые гномики по всей комнате. Ярко-красные искусственные цветы, кружевные покрывала и много черного бархата, раскрашенного цветными красками: кузница около водопада. Красные лампочки и море ликера: перекусывали стоя, на кухне.
А позже, то есть много позже – наши дамочки показали свои ядовитые зубки и коготки. Сколько упреков и оскорблений мы тогда от них услышали – это было что-то с чем-то! И вдруг словно опустилась звуконепроницаемая завеса: слышны были лишь сморканье, всхлипывания и завывания – да, концерт в два голоса! «Ах, я свинья!» – кричала одна, «Свинья! Свинья! Свинья!» После чего Фишер сказал: «Нам это больше не нужно…»
Проклятые ликеры сделали свое гнусное дело: утром я никак не мог вспомнить, как это я добрался до гостиницы.
Эх, если бы вырваться из этого времени и пространства! Из всего этого дерьма! внезапно до меня доходит, как нелепо я выгляжу сидя здесь, за круглым мраморным столиком на покрытой красным бархатом скамье, в полном одиночестве. Поднимаюсь и выхожу на улицу.
«Темнота хоть глаз выколи» – приходит на память фраза из какой-то книжки. Небо, на-верное, все закрыто облаками: не видно ни единой звездочки. По дороге в гостиницу мысленно вновь устремляюсь в Брест. Брест, Брест, Брест! – это слово звучит как лай собаки. Уже при одной мысли о Бресте я раньше покрывался гусиной кожей: город казался таким же злым как и звучание его имени. Другие порты имели более звучные мена, хотя и были бретонскими: Concarneau, Douarnenez …. Но Брест! Оно звучит как туман, как дымка над водой. В Бресте началась для меня война: на каком-то эсминце, который выходил из Бреста я прослушал какую-то лекцию о войне на море, и она была ужасна. Бонзы и ОКВ совсем свихнулись, когда меня, без всякого морского образования заслали на «Карл Гальстер» – и сразу в морской бой в Ла-Манше: своеобразная «Школа Выживания» через боевое крещение.
Мне никогда ранее не приходилось переживать такого страха и ужаса как тогда. Теперь мне нужны более спокойные переживания. Хотя, будь я сейчас в Гамбурге, то стоял бы уже пе-ред Святым Павлом. Это уж как пить дать! А здесь?
Вдруг меня осеняет: Фридрихштрассе – рядом. Там всегда было много народа, прежде всего из-за находящегося рядом вокзала и разбегающихся звездой переулков. Пытаюсь сориентироваться и двигаюсь в намеченном направлении, словно в полусне.
Вот впереди уже площадь, которую я ищу. Слева должен быть квартал Нуттенфиртель. Узнаю силуэт церковной башни – да, точно. Церковь была поблизости от площади. Буквально пробегаю улицу, затем на углу через пару ступеней вниз. Бр-р, как холодно!
Черная глотка улицы. В конце ее приглушенный свет. Легковушки. Грузовики. Слышен звук работающего двигателя. Но вокруг ни души. Почему?
Подожди-ка. У стены мелькает тень. Кто там спрятался? Замечаю свет из-за щелок при-крытых ставнями светомаскировки окон. На маленькой двери замечаю оконце из которого всегда смотрят проститутки. Дверь закрыта на запор. Набираюсь смелости и с силой стучу в ставень: «Да провалились вы все там, что-ли?»
Никакого ответа.
Кнопка звонка. Нажимаю и прислушиваюсь. Ничего не слышно. Звонок наверное не работает. Но в этот миг раздается: «Что случилось?» – «Я и хочу это узнать» – «У нас все спят!»
Узкий луч света падает на улицу. Делаю шаг вперед и наудачу задаю вопрос: «Где же ваши дамы?» – «А я кто, по-вашему? Или меня тут нет?» То что это женщина узнаю лишь по голосу. Наверное, сама Мадам. Голос как скисшее молоко. Она быстро произносит: «Было бы лучше, если бы ты зашел к нам!» и при этих словах дверь приоткрывается.
Наверх ведет узкая лестница. В нос бьет спертый воздух. Бедно выглядящая комнатка, вокруг зеркала бумажные цветы. Водопроводных кранов не видно, зато у подобия афишки, на металлической трехногой подставке, стоит эмалированный таз с черными горошинами на боку. Вместо полотенца для рук – рулон туалетной бумаги.
– На часок или на ночку? – раздается голос Мадам. Лицо, изо рта которого доносятся эти слова, дряблое и увядшее, словно бы стертое временем. – Я тебе сейчас покажу, как они стоят!
Так как я в недоумении смотрю на нее вопрошающим взглядом, добавляет: «Титьки!». Словно в полусне поднимаюсь наверх и больше всего мечтаю смыться от всего этого действа вызывающего жуткое отвращение. Оказавшись снова на улице, никак не могу сообразить, как это мне удалось спуститься по лестнице, не сломав шеи.
Еще довольно рано, когда выхожу из гостиницы со своим саквояжем. Прежде чем получу документы в ОКВ, хочу заскочить в издательство. Надо обязательно позвонить Хельге. И тут же меня осеняет: если со связью все в порядке, то Хельга могла бы уже быть в Фельдафинге. Но все равно – надо попытаться позвонить.
Ну и задачку я задал телефонистке: связи нет. Она снова и снова пытается связаться, но линия молчит. «Может быть попозже?» – произносит девушка, – «Или даже глубокой ночью?»
Хорошая мысль! Да только я в это время надеюсь уже буду в Париже. Утешаю себя: в конце-концов все не так уж и плохо. Может быт звонит отсюда – это довольно рискованное дело.
Госпожи Бахман нет и когда я, желая уйти, бросаю пару слов на прощание старому, се-дому снабженцу, до меня доносится крик телефонистки: «Получилось! Удалось! Есть связь с Мюнхеном!»
Спотыкаясь, бегу к телефону, хватаю трубку и сквозь треск и шум слышу голос Хельги. Мои два чемодана уже у нее в квартире. Телеграмму ей вручили еще в обед, и она успела все сразу устроить.
Слава Богу! А затем слышу: «Мне надо сообщить вам нечто ужасное», при этих словах сердце мое сжимается и замирает. «Ваш друг, бывший директор гидроэлектростанции, ну он мне помог».
– И что? – нетерпеливо кричу в трубку, т. к. Хельга слишком медлит. «Ваш друг – мертв!». Не совсем понимая, о чем идет речь просто ору в трубку: «Что за друг? Кто мертв?» Не хватает почему-то воздуха. Перехватываю трубку в левую руку, чтобы скрыть дрожание правой. «Директор гидроэлектростанции!». В следующую минуту узнаю, что Хельга подняла на ноги Старика, и тому пришла мысль повесить оба чемодана на его трость и так – один справа, другая слева они несли чемоданы на станцию. Но тут внезапно ноги Старика подкосились, и он упал, ударившись затылком о камень, и мгновенно умер.
Значит и он еще в списке моих потерь! Боже правый! Хочу сказать что-то, но связь уже прервалась. Ничего не видя, словно нокаутированный боксер ищу стул. Телефонистка быстро убирает со стула стопку каких-то книг, но я бормочу: «Ах, оставьте эту суету!» и опускаюсь прямо на них.
– Плохо? – спрашивает девушка. «Не знаю. Он был стар, но отчаян».
В ОКВ узнаю, что Масленок на службу не явился. Заболел? Ничего удивительного. Он слишком много взял на себя, а в бомбоубежище показал слишком много ухарства.
ПАРИЖ
Едва покинув подвезшую меня машину, забираюсь в Юнкерс, как раздается рев моторов и самолет вздрагивает, спеша в воздух. Не могу дождаться, когда же самолет начнет разбег. Уже скоро увижу удивленное лицо Старика: всего одна ночь в поезде от Парижа и я в Бресте! В мой первый полет в Париж я тоже отправился на Ю52. Пилот был настоящий сорвиголова. Он летел так, словно «тетя Ю» была истребителем, и все время пытался погонять коров на расстилавшихся внизу пастбищах.
Особое удовольствие ему доставляли крутые пике и виражи. Старая тетушка Ю. этот предмет антиквариата имел, конечно же, и свои плюсы: даже самые тупые из наших зенитчиков узнавали эту усталую железную птицу. Да и надежнее самолетов этой конструкции не было ничего.
Наш самолет разгоняется и вот мы уже в воздухе. Пилот, какой-то фельдфебель, летит так низко насколько возможно, хотя на этот раз не так безрассудно как мой тот, прошлый. Тогда я сидел в остекленном фонаре кормовой части фюзеляжа, пост стрелка-радиста как раз надо мной. Ландшафт подо мной покрывала серо-голубая дымка, холмы и кряжи были плоские, будто придавленные своим возрастом. Леса, странная геометрия распаханных полей, дымовой флаг какого-то паровоза: картина настолько яркая, словно только вчера ее видел. Ведь то был мой самый первый полет на самолете. До сих пор ощущаю охватившее меня тогда чувство настороженности. Я с волнением всматривался в проплывавшие подо мной просторы, пытаясь увидеть признаки границы, т. к. хотел знать, когда будем пролетать над Францией. Но нигде не находил ни малейшего ее признака, однако все смотрел и смотрел до боли в глазах вниз, пытаясь найти различия между вражеской страной и Германией и все не мог найти.
Сидя в самолете, пытаюсь внушить себе, что не испытываю ни малейшего страха перед полетом. В курсе ли дела Бисмарк? Бегут ли впереди меня, пока я тут болтаюсь в воздухе, какие-либо новости обо мне? Стоит ли уже на мне какое-нибудь клеймо? Слава Богу, что уже пятница! Полдень пятницы – как раз то время, когда нужно лететь в Париж. Бисмарк, наверное, похудел. Пока он будет со мной, смогу оглядеться в Париже.
Пятница всегда была для нас днем путешествий, особенно если в маршруте была Франция. Обычно в распоряжении начальника отдела точно указывалось, что в этот день мы приезжаем из Берлина, Мюнхена, Сен-Назера или Бреста, но по простому рассуждению, можно и не докладываться начальнику, если он в этот день уезжает на охоту в Фонтенбло или еще куда-нибудь, хотя нужно обязательно дождаться начала недели и тут уж предстать пред ИХ светлые очи: ибо служба есть служба.
В этот раз будет немного легче, т. к. мой пятничный прилет, кажется, тщательно спланирован. Принимаю это за добрый знак свыше.
Наш «Ю» находится в воздухе уже четверть часа. Делаю глубокий вдох. Раз, другой, третий. И тут замечаю: внутри салона не очень-то хороший воздух: он пропитан запахом горячих двигателей. Но, несмотря на это я оживаю. Ровный шум трех звездообразных двигателей звучит в ушах сладчайшей музыкой.
Не многое удается рассмотреть из проплывающего под нами ландшафта. Иллюминаторы покрыты грязью. Если бы кто-то сказал, что самолет прилетел прямо с Восточного фронта, я бы не удивился: все внутри грязно, на металлических основаниях трепещут парусиновые сиденья.
Поскольку ни зги не видно, терзаю свою наболевшую тему, словно собака любимую обглоданную кость: день наступления Томми на Сен-Назер. Старательно вызываю в памяти все виденное в тот день, будто хочу рассмотреть все детали и затем детально же описать. Почему, задаю себе вопрос, я устремляюсь мыслями на тот, довольно мощный налет и в то же время, на подобный налет двумя годами ранее? Но действительно ли я думаю о том налете? А может быть это всего-навсего мои воспоминания, что тянут в Ла Боль? Я что, совершаю обычную поездку за порцией горячего супа? Почему же тогда я не хочу вновь видеть тот букет нарциссов? Ведь я не могу устраниться от возможности мысленного созерцания его вновь.
Симона и Старик. О Старике я хотя бы знаю, где смогу его найти. А Симона? Неужто придется метаться по Парижу вынюхивая, где она спрятана? Не имею ни малейшего представления где, кроме как у консьержа на Рю Торричелли, мне можно остановиться. Стоит ли вообще действовать на свой страх и риск, не узнав от Старика, что же произошло.
Бог даст мой парижский шеф пока еще в неведении и все еще под впечатлением от приказа, которым меня вызвали в Берлин: человек из его отдела должен прибыть на доклад к Рейхсминистру!
Уже это одно должно быть для него, как бальзам на сердце.
Ясно лишь одно: то, что Масленок так спешил засунуть меня в этот самолет, может означать, после недолгого размышления, лишь ближайшую высадку союзников. Сколько же еще времени будут выжидать союзники? И где они попытаются высадиться? Это очевидно вопрос без ответа. Задачка без решения. Но почему же наше командование не знает, наверное, что собираются сотворить союзники? Ведь при такой масштабной операции как высадка на континенте что-то же должно просочиться за пределы штабов союзников? Внезапно представляю себе как на гигантском острове, лицом друг к другу стоят две длинные шеренги солдат противных сторон, и ни один из них не знает, что их ждет в следующий миг….
Предместья Парижа как-то вдруг выныривают снизу и слишком уж стремительно бегут нам навстречу. Едва провожаю их взглядом, как шум колес по бетонке посадочной полосы говорит сам за себя: мягкая посадка в Ля Бурже. Здесь впервые в жизни я вступил на французскую землю, а сейчас… Чего это я запинаюсь? И приземлился здесь, наверное, в последний раз.
Не распускать нюни!
Меня встречают. Масленок распорядился. Чувствую себя птицей под могучей защитой. Посмотрим на это с другой стороны: у нашего Отдела целый парк водителей.
Водитель – наш высоченный Дангль с вечно сидящей набекрень фуражкой и сверхдлинными ручищами. Дангль спешит сообщить мне новости. «Шеф уже на охоте, господин лейтенант. До конца недели вы не увидитесь».
Как я и предполагал: я не увижу Бисмарка до понедельника.
– В понедельник, – продолжает водитель, – кроме того, постановка Большого Героического театра, господин лейтенант.
– Как называется? – Из старых запасов что-то, господин лейтенант. Но что-то передовое, правда, до конца не определенное, т. к. шеф укатил на охоту. А ставит какой-то фронтовой театр или что-то похожее на него.
Пока мы едем, безо всякого на то желания, узнаю что: «У нас теперь разместился еще и зондерфюрер Реберг. Он написал какую-то пьесу о подлодках. Вам будет интересно». – «И все будет проходить в Отделе?» – «Нет, господин лейтенант: со всеми причиндалами для сцены, в каком-то крошечном театрике на Шамп Елисей».
Смотрю в окно и вижу все словно в первый раз – но как-то более доверительно, что-ли. В свой первый приезд я буквально пожирал глазами все вывески – каждую отдельную буковку. Позже я всегда завидовал своим тогдашним чувствам – и даже сегодня мне хочется вернуть то первое мое чувство от встречи с Францией. Так как в первый раз, меня больше не волновал ни один мой последующий приезд. То время, буквально каждый штрих имел свое значение, а каждая улица была словно из произведений Сисли или Писсаро.
А тут этот бестолковый Дангль! Он был самым первым из встреченных мною в Париже военных корреспондентов – и как нарочно какой-то безалаберный человек: настоящее произведение своего поколения 1918 года, полный ненависти к офицерской касте, особенно к флаг-офицерам, но при всем при том остававшимся первоклассным бумагомаракой и совершеннейшим блюдолизом. То, как Дангль выглядит и особенно его манера носить форму и фуражку, наталкивает на мысль, что так могли выглядеть лишь матросы-революционеры Кильского порта. И все время разговоры только о бабах! Судя по сплетням вокруг него, Дангль везде умел их находить. Но как, спрашиваю себя, ему удается цеплять их на крючок, не зная при этом и десятка слов по-французски? В тот мой первый приезд он мне это продемонстрировал: мы приехали тогда с севера, в глотке у меня пересохло, и я желал лишь одного: засесть в какую-нибудь кафешку на бульваре и промочить горло. Оператор, прилетевший со мной, тоже томился от жажды.
Едва мы сели за столик, как появился Дангль с довольно вызывающе одетой дамочкой. Она не слишком скромничала: я отчетливо вижу и сейчас ее слащавую улыбку и сладострастный вид, и то, как она ярко и броско накрасила губы. В следующее мгновенье Дангль исчез. Ну я подумал он отчалил в туалет а тут и дамочка испарилась. Где-то внутри я почуял неясную опасность, а потому невольно взглянул на часы: прошло всего 5 минут. Затем еще 5 и еще 5. Так долго никто бы не высидел в туалете. Я повторил заказ и стал слушать как хозяин кафешки громким, раздраженным голосом говорил с посетителями, а официанты переругивались между собой, т. к. на полу кое-где валялись опилки.
В следующее мгновение Дангль был рядом: голова красная, словно помидор.
Бабочка, или как там их еще называют, с которой он мелькнул перед нами, присоединилась к нам через секунду. Она поправила свою лисью горжетку, а затем стала пудриться: сначала свой утиный клювик, затем лобик и щечки. Закончив, защелкнула пудреницу, водрузила обнаженные локотки на стол и блуждающим взглядом в 180; осмотрела местность: это было что-то!
Для меня, впервые такое пережившего, это было более чем достаточно!
Когда мы возвращались к нашей машине, то оператор, довольно молодой парень, спросил: «Он, в самом деле, ее …» – «Да, и представь себе – на пустой желудок!» Надо было слышать тот свист, с которым мой попутчик выдохнул свое удивление и уважение: Париж! Вероятно, так он себе его и представлял. Довольно веселенькая история: мы оба, одним махом увидели кусочек французской жизни.
В то время Дангль позволял мне тоже участвовать в его прогулках: в конце-концов, я был такой же мушкетер, как и он: с пузырями на коленях, в плохо сидящей форме и матросской шапочке, как в свои пять лет. Только вместо слова «МЕТЕОР» на ленточке золотыми буквами стояло: «ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ»
На этот раз Дангль был довольно молчалив. Я тоже здорово уморился, и глаза закрывались сами собой: после проведенных в Берлине суток, Париж кажется Фатой Морганой – никаких следов бомбежек, никаких развалин и завалов на улицах. Нигде не видно ни следа разрушений. Нет и грязных, покрытых копотью, кашляющих людей – никаких пожарищ, никакого чада и дыма…. Как заслужил Париж такую милость?
В то время как мы проезжаем большой бульвар, буквально впитываю в себя вид сотен домов, площадей, целых прямолинейных улиц, словно хочу запомнить все для исторического архива. Все, что вижу, выглядит совершенно неправдоподобно. Словно из другого теста выполнено.
Где-то в глубине души, словно дурной сон, всплывают воспоминания о Берлине, Мюнхене и Гамбурге. Но вот это – это реальность! И кажется, что эти целые и невредимые стены, балконы, парусиновые зонтики над уличными кафешками, мансардные крыши, рекламные тумбы, аккуратные площади и скверы – все это лишь мираж, оптический обман. Но как-то уж чересчур отчетливый: может быть Париж – это город-призрак?
Во мне будто застыло это чувство нереальности: некая смесь из испуга, что все это лишь сон и счастья: я – в Париже, а не там, где раки зимуют! В этом ощущении счастья присутствует также и доля упрямства: проклятая банда свиней не сможет меня здесь достать! Уж во всяком случае, сделать им это здесь будет довольно непросто!
Теперь мы едем по Quai du Louvre, сквозь густую тень деревьев. Стволы образуют подобие решетки, сквозь которую, будто в старом кино мелькает остров на Сене, проецируясь на почти белом небе.
Меня захлестнули воспоминания: Sacre-Ceur, когда я в самый первый раз его увидел с точенными светлыми циклопическими куполами, царящими над глыбами городских крыш – произвел на меня сильное впечатление. Это была не церковь, а скорее сияющая в блеске солнечного света крепость. Эта, стоящая на хвосте камбала, была вершиной моего паломничества. Сверху я видел не тот Париж Писсаро, а совсем иной город – чистый и просторный.
Только теперь для меня началась настоящая весна: все блестит и сверкает. Фонтаны, словно скульптуры из голубого льда, в окружении красных тюльпанов. Если бы не мчащиеся по улицам покрытые маскировочными пятнами грузовики, то война казалась бы далекой, как Луна. Вблизи церкви Святой Мадлен, в разнообразных витринах двигаются десятки часов. Между зданием Оперы и Св. Мадлен и вокруг Мадлен вид несколько иной чем у вокзала. Днем здесь довольно сильное движение. И обиженным женушкам с трудом удается застать своих возлюбленных за письменными столами в середине рабочего дня.
Совсем неудивительно, что Дангль дорос лишь до обер-ефрейтора. Не удивляет и то, что он более не является водителем Бисмарка. В любом случае он довольно бесцеремонно пользовался этой должностью. Некоторое время Дангль даже считался доверенным лицом Бисмарка – как хозяин доверяет своей собаке – так долго, пока не впал в немилость и не слетел с должности личного шофера. Мне известно почему: ему приходилось прибегать к маскировке, не давая Бисмарку ни малейшего повода к недоверию. Нельзя без слез описывать то, как Дангль все организовал в машине своего хозяина. Всякий раз, когда машина выезжала в Германию, Бисмарк восседал своим огромным седалищем на маркитантских товарах. Ему и в голову не приходило, что например, запасное колесо полно ворованного кофе. Сорвиголова Дангль называл такую поездку «Вперед, за десятью тысячами марок!»
Так, теперь вот слева по борту Grand Palais и Petit Palais. А теперь вверх по Champs Elysees к Триумфальной арке. Есть и более короткий путь, но Дангль, скорее всего, хочет доставить мне удовольствие.
Когда я сам – на голове нарядная бескозырка с развевающимися ленточками, а в руке ящик для рисования – регулярно заезжал в Париж, то добирался коротким путем. Иногда доводилось ехать и в гражданской одежде, но всегда выбирал короткий путь.
Через некоторое время оказываемся за Trocadero. Каждый дом здесь имеет настоящий палисадник. Форзиции уже отцвели. На авеню Jean Chiappe, которое да капитуляции называлось авеню Henri Martin, пенное буйство каштановых свечей и мы едем, словно в ущелье освещенном ими. За высоченными решетчатыми оградами цветут магнолии. На них такое количество тюльпановидных цветов, что едва ли можно рассмотреть темные ветви: кажется, цветы парят в воздухе.
Наконец останавливаемся перед зданием нашего Отдела. Волны запаха из палисадников смешиваются и захлестывают чудным дурманом. Не спешу выходить, и это заставляет Дангля удивляться. А мне просто не по себе от предстоящей встречи с парнями, сидящими в своих расчудесных кабинетах и старательно отлынивающими от любой командировки. Но более всего страшит встреча с Бисмарком. Повезло еще, что он укатил куда-то на выходные. Если бы я мог поехать вечером еще дальше! Но без доклада Бисмарку это невозможно.
– Багаж отправить в нашу гостиницу, господин лейтенант? – интересуется Дангль.
– Оставьте его в караулке! – бросаю кратко. Ну, а теперь повеселимся! – бормочу себе под нос.
Часовой салютует. Ответное приветствие, дружеская улыбка и вверх по лестнице пышно украшенной ковровыми дорожками, лежащими на ступенях. Каждый раз, бывая здесь, восхищаюсь: рассеянный свет падает из очень высоких, богато украшенных цветным причудливым орнаментом окон с изображением мифологических сцен.
Изваянные из песчаника раковины далеко выдаются из стен. Эта роскошь напоказ буквально подавляет любого зашедшего сюда.
Адъютант располагается рядом с кабинетом шефа. Резко стучу в дверь и резко распахиваю ее: здесь царит чисто военный дух. Затем немного неуклюже, даже небрежно, словно все это действо происходит на сцене, докладываю о прибытии. Мне всегда действует на нервы этот адъютант, мой ровесник с молочно-белым лицом. Тем не менее, принуждаю себя дружелюбно улыбнуться ему, как старому знакомому.
Он вежливо объясняет мне, почему Бисмарк «выехал на выходные». Если бы всегда адъютант оставался таким же милым малым! Этот, например, ведет себя так, словно во всяком деле должен имитировать своего господина и хозяина – демонстрируя такую же манеру держать себя кичливо и заносчиво. Сегодня эта манера как никогда лучше подходит его прыщавому лицу. Мне хорошо известно, что он не осмеливается сойти на «грешную землю» из страха, что какие-нибудь «бабочки» смогут его сцапать и слопать, заразив в конце-концов сифилисом. Над ним уже давно подтрунивали, желая выяснить, куда же он девает свое немалое жалование.
Адъютант продолжает что-то долдонить, я же выхожу на узенький балкончик. У меня захватывает дух от открывшегося великолепия: подо мной раскинулось буйное море цветущих каштанов. Еще никогда ранее не имел я такой возможности наблюдать цветение каштанов сверху, а лишь стоящие в зелени свечи их цветов. Здесь же пенистое море цветов, вздымающееся розовым валом в лучах красного солнца, освещающего фронтоны домов. Адъютант интересуется, не голоден ли я. Он попросит стюарда принести обед в кают-компанию.
Кто-бы мог подумать! Перегнувшись через кованые перила балкона, вижу Эйфелеву башню. Раньше, как только заходил разговор о красоте в технике, я всегда вспоминал Эйфелеву башню и «Голубое чудо» – мост через Эльбу у Лошвица, по которому мы катались на велосипедах, когда хотели попасть в замок Пильниц.
Надо признать, господин Бисмарк присмотрел отличное место: дворец у дворца. Великолепная улица, расположившаяся между каштанами так широка, что напоминает скорее ипподром, нежели обычную улицу.
Еще раз узнаю, что в понедельник все пойдет, как запланировано, а также: «С базы прибывает много ваших товарищей…».
Все это адъютант говорит мне в спину, т. к. я все еще зачаровано стою на балконе. Но вот он говорит: «А что касается вас» – и эти слова произносятся таким тоном, что меня будто ударом разворачивает на месте, – «шеф хочет вас обязательно увидеть. Вам придется в любом случае остаться.»
На меня буквально накатывает волна страха, а мысли, словно пулеметные строки, мелькают с быстротой молнии: что кроется за этими его словами? Что им уже известно? Уведомлен ли Отдел, так сказать, по служебной линии? Можно бы, небрежно так, осведомиться у адъютанта, да лучше промолчать, не показывая своего волнения.
Как можно увереннее отвечаю: «Отлично! Тогда мне надо занять себя чем-то до понедельника». – «Кстати, у нас теперь новое расписание в метро», говорит адъютант. Я весь внимание и он продолжает: «Метро не работает с 11 до 15 часов. Также не работает и с 11 вечера».
Значит надо как-то устраиваться. Но меня мучает один вопрос: Надо бы позвонить Старику, но можно ли звонить отсюда, не будучи подслушанным?
Если просто сказать адъютанту, что мне надо позвонить в Брест, т. к. меня туда-то и направил Берлин, то можно гарантировать, что в этом случае будут прослушивать каждое мое слово. Значит надо попытаться сделать это без «высочайшего» позволения, но напрямую через коммутатор. В это время за телефоном там сидит унтер-офицер, который кажется простым парнем, и, кроме того, там же сидит и водитель и оба болтают о чем-то своем. Должно получиться, если только связь будет нормальная и мне не придется орать во всю глотку. Иначе, они прекратят свою болтовню, и будут прислушиваться к моему разговору.
Просто вихрь мыслей пронесся в голове за какой-то миг! Оставлю-ка я все это да завтра, тогда все и проясниться. Адъютант, скорее всего, ответил бы, что его это не касается.
– Прежде всего, надо перекусить, – обращаюсь к нему. Конечно, лучше было бы переговорить с Бисмарком сегодня или завтра, но ничего не поделаешь. Надо использовать свободное время для моей работы.
В кают-компании, как они называют столовую, один за длинным столом, выбираю место между высоченными гобеленами, закрывающими стены. Этот дворец, полный роскошного великолепия, чистое безумие. Сижу и жду, что стюард – здесь фактически нет матросов в качестве разносчиков пищи, а работают гражданские стюарды. Как на некоторых военных кораблях – принесет мой заказ.








