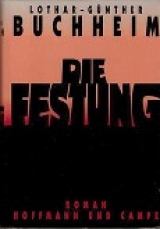
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 111 страниц)
Кто-то вздохнул за моей спиной. Жаль не видно лица государственного драматурга. Хотелось бы узнать, как он воспринимает всю эту показуху.
Место перед строем ограничено, и потому Бисмарк остается стоять в проеме дверей своего кабинета, но все же набирает побольше воздуха, щеки при этом раздуваются как меха и начинает свою речь.
Хочется смыться отсюда и завалиться в какой-нибудь угол, а там смеяться до слез над всем этим фарсом, но стою неподвижно, как истукан и хочу того или нет, внимательно слушаю обожаемого начальника.
Лучше всего, дабы сохранить подобающее моменту выражение лица, сконцентрироваться на какой-нибудь другой теме: пытаюсь найти такие слова, какими можно было бы точнее описать выражение лица нашего начальника Отдела. Наиболее подходит нечто среднее между мордой бульдога и рожей жабы: то ли жаба, то ли бульдог.
– Фюрер и его полководческий гений! – Фюрер наша единственная надежда! – Величайший полководец всех времен! – Тысячекратно подтвержденная гениальность! – Его знамена овеяны славой! – Ни одной проигранной битвы! – Историческая миссия невероятного масштаба! – Спасение мира от жидовских лап…! – настоятельно вколачивается в мозги собравшихся.
Нет сил моих слушать и далее этот старый треп! А Бисмарк основательно закусил удила: «Великое сердце Фюрера!»– дважды повторяет он громким голосом. И опять: «Наш Фюрер!.. Фюрер!..». кажется, что у Бисмарка, в его пузе, спрятан магнитофон с одной записью. Вспоминаю, как однажды ко мне прицепился старина Мёртельбауэр на моей прогулке, хотя мне, из-за его смешных, как у Гитлера усиков, это вовсе не понравилось, но мы, тем не менее, довольно весело фланировали по Pigalle. Как наяву, вижу нас обоих – одетых в матросские форменки – перед Folies-Bergeres, и я, т. к. Мёртельбауэр не может читать по-французски, объясняю ему, что не смогу принять участие в спектакле, поскольку работаю за «железным занавесом».
В этот миг за нами появился какой-то майор и сквозь пенсне стал пристально рассматривать фотографии обнаженных красоток. Ефрейтор-артиллерист флота Мёртельбауэр, выше среднего роста, плотный крепыш, четко поворачивается кругом, при этом кресты его громко бряцают, резко выбрасывает в приветствии руку и высоким голосом кастрата выпаливает: «Господин майор! Разрешите обратить ваше внимание на то, что спектакль не состоится из-за того, что рухнул железный занавес!» И все это на полном серьезе, и вполне в рамках уставного обращения к старшему по званию.
Так, кажется Бисмарк выдохся. Адъютант бесшумно выходит вперед и на небольшом подносе выносит Железный крест для Мёртельбауэра. Бисмарк громко командует: «Ефрейтор-артиллерист флота Мёртельбауэр – выйти из строя!»
Боковым зрением вижу, как Мёртельбауэр, словно пловец, рассекая ряды строя, выходит из последней шеренги, при этом внося сутолоку в передние шеренги: Бог мой! Неужели ему так и не втолковали в учебке, что, находясь в последней шеренге с краю, надо обойти строй, а не переть сквозь него как танк. Этакий молодцеватый танк. Но можно ли танк наградить орденом? Некоторые офицеры смеются и пока шеренги выравниваются за Мёртельбауэром, продолжаю размышлять: это все из-за того, что его всегда ставят в последнюю шеренгу, с тем, дабы неуклюжая фигура не портила общую картину строя. А этому идиоту адъютанту не пришло в голову ничего другого, кроме как главного виновника торжества засунуть в конец строя? Мёртельбауэр и Бисмарк – Пат и Паташон!
– С ума сойти можно! – доносится шепот Йордана. Мёртельбауэр тем временем тщетно пытается прищелкнуть каблуками. Выпятив могучий живот, он стоит навытяжку. Бисмарк с любовью вешает ему на шею висящий на ленте Железный крест. Затем крепко жмет руку. Не убирая руку, словно оцепенев, очевидно переполненный чувствами, Мёртельбауэр всем видом выражает огромную благодарность. А потом, будто выйдя из транса, сбивающимся от волнения фальцетом произносит: «Господин капитан! Я восхищен!»
– Толстяк совсем спятил! – шепчет Йордан. Да, был бы тут Старик! Такие сцены как раз в его вкусе: скомканная военная оргия – нет ничего более прекрасного для Старика!
Бисмарк пытается доброжелательно и явно покровительски спасти ситуацию: он кричит, и мы все хором повторяем здравицу нашему Фюреру и Верховному главнокомандующему: «Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!».
– Может быть, этот чертов оратор произнесет сегодня еще и третью речь! – обращается ко мне Йордан, когда говорю что хочу пойти с ним на сегодняшнюю постановку в театр. – А нам придется за это расплачиваться…
Воздух мягок и нежен. Что за прекрасный вечер можно было бы провести за городом! Меня совершенно не интересует драма Г. Реберга. Я и без того плохой слушатель – что в театре, что в церкви. Еще в методистской церкви Хёмница, во время проповеди, мои мысли постоянно улетали за ее пределы. А когда играл орган, особенно легко было улететь мыслями за пределы окружающих меня стен хоть в джунгли, хоть на Северный полюс.
Интересуюсь у Йордана его мыслями о драме о подводниках Г. Реберга, т. к. может быть он читал сценарий. «Это все же премьера…». – «Ты удивишься! Эта пьеса играется в разных кругах. Ужасное дерьмо! Финала я не видел…» – «И только поэтому Бисмарк собрал чуть не весь Париж?» – «Ему необходимо засиять в свете военных сливок. Вот потому он и организует все это: художественные выставки и театральные постановки! Флотские всегда находились и находятся на пике времени, и именно они являются носителями германской культуры. И, кроме того: кто упустит шанс приехать за казенный счет в Париж? К тому же в такую затрапезную церковь.» – «Затрапезную церковь?»
– Что, незнакомое словосочетание? – Йордан так хорошо едет, что мне не приходится трясти головой, чтобы уловить его пояснение: «В Берлине имеются или имелись, церкви для бродяг. Там всегда можно было поесть. Распределялись суп и булочки. Но, прежде всего, надо было прослушать проповедь.» Так как ничем не показываю своего понимания этого объяснения, Йордан продолжает втолковывать мне: «И здесь, у нас та же песня: сначала драма о подводниках, а затем вечеринка.» Ухмыляясь во весь рот Йордан дополняет: «Первого тебе уж точно не избежать!» – «Невероятно! Немецкий государственный театр – в Париже! И это на пятом году войны!»– произношу вполголоса. – «Кто бы говорил!» – рычит Йордан, – «А твоя выставка, год назад в Petit Palais, имела большой успех! Это был изумительный успех немецкой культуры, лист в венке славы культуры германского Вермахта – или как там еще назвать можно.… В любом случае, это было знаменательное событие!»
Пока Йордан болтает в том же духе, мысленно преклоняю колени: более всего хочу сказать: сегодня мне просто очень стыдно за весь этот театр абсурда. Но вместо этого с вызовом спрашиваю: «Должен ли я покраснеть от содеянного?»
Как наяву вижу всю эту помпезную атмосферу при открытии той роскошной выставки моих рисунков о подводном флоте: как Бисмарк во время своего выступления внезапно проревел: «Посмотрите-ка на этого человека!» и вытянул руку в моем направлении, а затем снова гремит: «В бушующем реве морской битвы он не прячется в укрытии, а находясь на верхней палубе сидит на ящике с зарядом картечи и пишет морскую битву, и когда снаряд выбивает из под его задницы этот ящик, то этот храбрец садится на саму палубу и рисует дальше!» а как он потом изгалялся: «Шляпы долой перед этим человечищем!», и я не знал, то ли мне салютовать в этот момент, то ли провалиться сквозь землю.
И все это перед лицом уверенных в себе собравшихся в Grand Paris генералов и адмиралов! Наш Бисмарк пригласил их великое множество: выставка искусств в Petit Palais была в Париже в новинку, и потому фактически все военное командование собралось на выставку.
– Этот Реберг ни разу не ходил в море! – вновь долетает голос Йордана.
– Так откуда же он знает суть подводного флота?
– Суть? Суть! – передразнивает Йордан, – Он просто читал военные сводки – может быть и твои.
– Да ну! – вырывается у меня, – В чем же тогда моя вина?
Как и все остальные до театра мы добираемся на метро: сказываются трудности с бензином.
Бернингер тоже увязался за нами. Никакой возможности нет избавиться от этого помпезного, довольно подлого человека. В метро он так развязно болтает, словно совершенно невозможно представить себе, что имеются французы, понимающие немецкую речь, о том, что в этот раз у него совсем нет денег на бордель: он должен экономить. Он здорово пошиковал в Ла Боле. Уборщица, некая мадам Andre, получала жалование в комендатуре. Теперь предстоит в третий раз выслушать эту поросшую мхом историю, т. к. Йордан выказывает неподдельный интерес, и нет никакой возможности заткнуть грязную пасть Бернингера.
– Милая мадам Andre, – начинает рассказ Бернингер. – из военнопленных – откуда-то из крестьян Швабии. И когда она убирала мою комнату, я всегда давал ей возможность немного потереть, а потом ха-ха-ха…
Йордан стоит, уперев руки в бока, и таращится на Бернингера, словно это невиданное существо. Я мог бы его предупредить: сейчас мы завязнем в этой истории – но предпочитаю нейтралитет. Придется Йордану, стиснув зубы выслушать всю эту чепуху. Надеюсь лишь на то, что ни один француз не поймет этой свинской истории.
– … потом я спускаю брюки, – продолжает Бернингер, – и усаживаюсь на унитаз, как наездник в седло своего скакуна. В свою очередь, мадам Andre стягивает с себя трусики, заметьте одной рукой! А ….
Ловлю вопросительный взгляд Йордана. Это как раз то, чего и добивался Бернингер, и удовлетворенно хмыкнув, он продолжает: «… а другой рукой крепко держит свою метлу». Йордан одаривает Бернингера испепеляющим взглядом, но тому все равно: – А затем – быстро выговаривает тот, – дама садится на меня. Буквально насаживая себя на мой член, и скачет, словно дикий охотник. Гвоздем же программы является то, что палкой от метлы она бьет в такт движениям по полу – все просто как ясный день!».
– Приехали! – лаконично выдает Йордан, – Пора выходить!
Проходя по скверику с низкими клумбами, Йордан приостанавливается и шепчет: «Вот бы это услышал наш государственный драматург!» – «Знаешь, жену этого господина я вообще-то узнал еще в Берлине – нет, не драматурга, а этого Бернингера». Это заинтересовывает Йордана, и я поясняю: «Божественная блондинка с голосом, как шелест листвы. Я должен был передать ей посылочку от ее мужа, к тому же на вечеринке с распитием кофе, а там сидело еще три похожие как сестры блондинки в плетеных креслах вокруг такого же плетеного стола. Судя по стоявшим на столе среди тарелок и кофейным чашкам пустым бутылкам из-под ликера, дамы уже изрядно потребили алкоголя. Одна из роскошных блондинок потирая ушко, спрашивает меня о том, как ЭТО было у меня с французскими мадемуазелями и мадамами в Ла Боле. Другая призывным тоном добавляет, что слышала чудесные рассказы о настоящих оргиях.
– А вот мой муж этим не занимается! – резко заявляет жена Бернингера, и я запинаясь подтверждаю: «Боже упаси! Конечно, нет!» Мадам Andre и эта блондинка, буквально выпрыгивающая из бюстгальтера: какое противоречие!
Когда входим в фойе театра, Йордан шепчет, обращаясь ко мне: «Садимся так, чтобы можно было незаметно смыться». – А антракта не будет? – Думаю, что нет. Я читал, что все пройдет на одном дыхании.
В зале мелькают разряженные офицеры в синей и полевой серой форме, в голубой форме Люфтваффе. Несколько человек в кладбищенски-черной форме, также возникают в толпе то там то тут.
Свет гаснет, и занавес медленно открывается. Сцена темна. Внезапно справа, сверху, тьму рассекает яркий белый луч света и упирается в стоящую на сцене фигуру. Глазам не верю: наш Бисмарк! Луч освещает задник сцены, так что Бисмарк резко выделяется на его фоне, и тут же начинает вещать более зычным, чем в своем дворце, почти замогильным голосом. Я просто заворожен им. «Драматическое искусство Третьего Рейха… как всякое искусство наполнено почти фантастическими аллегориями… говоря словами Фюрера…». Не могу более слушать эту ахинею. А от декламационного тона артистов меня просто смаривает сон. Ничего не могу с собой поделать: мысли не могут задержаться на постановке больше пяти минут. Мои мысли – мои скакуны!
Йордан начинает показывать свое горячее возмущение постановкой. Прикладываю к его губам указательный палец, чтобы он заткнулся и, уловив момент громкого шума на сцене, шепчу ему: «Мы не в Баль Майоль!» – «Да лучше бы я там и остался!» – шипит Йордан, и добавляет: «Ну и скукотища!».
Актеры, играющие на импровизированной подлодке командиров лодки, играют настолько жеманно и дурашливо, что просто ужас. Все события происходят в кругу благородных дам. При этом абсолютно все гнусавят, что придает всей сцене еще более дурашливый тон.
Когда мы с Йорданом выбираемся из театра на улицу, уже 9 часов. Едва выйдя на улицу, Йордан сердито бубнит: «Знал бы противник, что мы тут в театре смотрим! Вот уж поиздевался бы над нами: ну и нервы у этих немцев! И с этими словами тут же сдался бы на нашу милость…» Не успев отдышаться, Йордан вновь выпаливает: «А эти герои-моряки! Сидят как истуканы и позволяют показывать им собственные карикатурные изображения! Хотел бы я предложить этот балаган главному командованию ВМС…» начиная остывать уже тише добавляет: «Хотел бы я услышать все подобную чепуху от кого-нибудь командира на мостике подлодки!» Пытаясь раззадорить его, добавляю: «Наверное, это и есть нужное ВМФ искусство!» Йордан сразу попадается в мою ловушку и негодующе восклицает: «А как тебе эта сцена в парке?» – «Play in the play – все по Шекспиру. Вся постановка вообще напоминает театр Шекспира. Или нет?» – «Против всего этого поможет только бордель!» – отвечает Йордан. – «А потому вперед, на Pigalle!» По пути к метро, Йордан вдруг говорит: «А почему это этих придурков актеришков не призвали в армию?» – «Именно из этого театра?» – «Ну да. Всех этих педиков…» – «Вероятно потому, что …» – «Потому что они педерасты?» – «Кроме того, они же на фронте выступают». – «Ах, так!», и помолчав, восклицает: «Значит надо быть педиком, чтобы уцелеть! Я так себе это и представлял». Пройдя еще с десяток шагов, добавляет: «Думаю, этот парень мог бы представить нечто лучшее, чем эту зловонную халтуру. Ему даже идут его залысины». Тут только до меня доходит, что Йордан имеет в виду драматурга. «Ты абсолютно прав!», только и говорю в ответ. «В чем, осмелюсь спросить?» – «В том, что сказал. Кстати третья речь была просто полна воды!» – «Это своего рода рекорд!» – «Ну, это же была чистая инсценировка» – «Непостижимо!», отвечает Йордан и это звучит довольно жалобно. Останавливаюсь и удивленно смотрю на него. А тот продолжает: «Хватит на сегодня!».
Направляемся в кафе. Едва уселись, Йордан вновь обращается ко мне: «Жаль твоего друга Купперса …» – «Откуда ты о нем знаешь?» – «Ну, когда я был тут в прошлый раз, здесь была его жена …» – «Соня Купперс? Со своими вышивками?» – «Да, она самая». Кажется, что на душе Йордана тяжело. В полголоса и очень нерешительно, почти как заговорщик на сцене театра, он произносит: «Если бы меня спросить, то у меня сложилось мнение …», так как он смолкает на полуслове, взглядом пытаюсь побудить его продолжать свой рассказ. Немного выждав, Йордан говорит: «Я вот что наблюдал …», он снова смолкает, и мне хочется крикнуть: «Ну, говори же!», но я молчу. Йордан как-то странно откашливается. Все выглядит так, будто он хочет говорить, но не может. Мелькает мысль: ну, не тяни парень!
Помолчав, Йордан продолжает: «Жена Купперса – она ведь была с вами в Ла Боле, а затем некоторое время проживала здесь …» Я молча киваю, т. к. от нахлынувших воспоминаний перехватило дыхание. Ах, эта монголочка! Ну, почему же я не знал, что эта чудесная женщина приютилась в этом городе! «Из того, что я слышал, у нее, кажется, случился большой конфуз в Ла Боле …»
Как наяву вижу образ Сони, ее раскосые глаза и небольшую челку. «Никаких сомнений, что Бисмарк тебя не пощадит! И к бабкам не ходи.» – «Но я ведь не давал ему ни малейшего повода для этого!» – «В этом-то и дело!», отвечает Йордан, и эти простые слова звучат как издевка. «Но может быть, кто-то другой дал ему такой повод», медленно тянет Йордан и добавляет: «Подумай-ка получше!» При этих словах, он, словно врач обреченному больному, смотрит мне в глаза и с наигранным участием интересуется: «Ну, сообразил?»
Мозги буквально кипят от вороха мыслей, а Йордан продолжает: «Эта Купперсова женушка буквально опутала своими щупальцами нашего старого козла …. За обедом она сидела рядом с ним!»
Одно лучше другого! Перед глазами ярко вспыхивают когда-то мимолетные и расплывчатые, сменяющие друг друга сцены: Соня, и то, как она стреляет глазками, как морщила курносый носик, как, словно чертик скакала по сцене.… Почти всегда, когда эта женщина разговаривала со мной, манера ее разговора напоминала скорее выпытывание каких-то сведений. Отправив свою дражайшую половину во Францию, господин военный художник Купперс заварил кашу не только себе, но и нам. Никому нельзя доверять! однажды, за обеденным столом, кинооператор Карпа строго предупредил: «Враг подслушивает!» Это случилось в момент, когда глупец Маркс рассказывал нам о своих приключениях в Париже.
– А что, собственно говоря, она искала в Ла Боле? – интересуется Йордан.
– Спроси лучше у Бисмарка! – парирую я. – Официально, ей поручалось собрать гобелены на флотские темы, а также постараться их вывезти, и для этого ей требовалось ощутить прифронтовую обстановку.
– Не понимаю, – выпаливает Йордан, а затем: «В Ла Боль к вам забросили своего рода шпионку. В любом случае, эта дамочка во всех подробностях доложила здесь, то, что ей удалось вынюхать в Ла Боле. В этом я уверен на сто процентов!»
Едва не хлопаю себя ладонью по лбу: так это Соня! Это она заложила Бисмарку Симону! Как же я мог забыть про эту чертову Соню! Это пошло оттого, что я всегда сторонился ее. Но из-за этого ли она так поступила со мной? А что касается Симоны.… Да! Если бы Симона хоть вполовину была бы похожа на это подобие Маты Хари! Но нет, Симона должно быть так кисло-сладко смеялась, глядя на ее ужимки, что сама чувствовала всю глупость своих издевок над нею.
– Даже для ее супруга мало веселого в том, что его мадам внезапно появилась на базе. ОН определенно не приглашал ее туда, – продолжает Йордан. – Он уже изучил дело. Ему пришлось это сделать! Бог его знает, как там все обстоит. Но появление во флотилии этой семейки, имело довольно неприятный привкус. Просто не представляю, как он управлялся на лодке. К тому же он был заядлым курильщиком, – вновь говорит Йордан.
– Мы звали его «никотиновые пальцы»: у него были абсолютно желтые кончики пальцев. Старику Купперсу здорово не везло. Перед каждым погружением, он просто вырывался на мостик рубки и жадно курил одну сигарету за другой…. Их потопили самолеты на второй или третий день похода.
– Кто-нибудь спасся? – Никак нет, сэр. Никто! – С тех пор у него больше нет проблем с куревом! – холодно заключает Йордан.
Мысленно соглашаюсь: неплохой некролог! А затем: Если бы Вальтер не был бы дураком, мы бы не получили во флотилию его супругу и за нами никто бы не следил, а значит и Симону никто бы не посадил за решетку. На память приходят строки детской считалки: «Если бы да кабы…»
Теперь мне понятно и то, почему Бисмарк, однажды заявился в Ла Боль без предупреждения: он хотел сам увидеть то, что нашептала ему Соня. Она была в отъезде, а ее ужасный настенный ковер висел в столовой флотилии и восхищал находившихся там глупцов. Бисмарку же наверное было приятно. Между тем, он все пытался увидеть то, что ему описывала дамочка. И однажды гнев его вырвался наружу. Более идиотской причины для этого нельзя было придумать: Наш оператор Штиллер должен был точно доложить ему о времени захода солнца. Бисмарк хотел сам сделать несколько снимков захода солнца на фоне заграждения из колючей проволоки. А Штиллер об этом поручении напрочь забыл. И когда он прибыл с докладом, солнце уже скрылось за горизонтом. И тогда Бисмарк взорвался…
Долго еще гремел рев Бисмарка: «Я никогда не прощу этого фотографа! Это был мой приказ, а он абсолютно не справился с ним!..»
После таких размышлений отвечаю Йордану: «Сердечное спасибо за твое сочувствие!» И так как он кривит рот в усмешке, добавляю: «Совершенно искренне! То, что ты мне сейчас рассказал, крайне важно для меня – у меня, так сказать, открылись глаза».
– Да ты совсем сбрендил! – парирует Йордан.
Лежа в огромной постели своего гостиничного номера, вновь чувствую острое одиночество. Эта кровать совершенно не предназначена для одного.
Где-то читал, что люди, чувствующие свое одиночество, часто ударяются в запой. Пока мне удается уберечься от этого: за всю свою жизнь, я еще ни разу не напился допьяна и так, наверное, и останется.
Внезапно горькое чувство сожаления о Ниагарском водопаде борделя, его шуме. И в то же время я доволен, что не нахожусь в своре его посетителей. Железным правилом для меня всегда было: моя хата с краю. И не пытаться никого изменить. Делать только свою работу. Отворить настежь клюзы и навострить ушки. Никогда не упрекать себя. Но всегда вокруг находится уйма проклятых завистников! – и они очень опасны: в случае чего, наваливаются скопом, словно волки.
Совершенно уверен, что милашка Соня ввела в уши Бисмарку то, как обстоят дела в Ла Боле, и то, что при этом она вела себя как истинная немка. Собственными ушами слышал, как она произнесла «француженки». «Француженки шляются туда-сюда!» И каждый понял, что она имела в виду не только уборщиц.
Тут же мои мысли перекинулись на Симону, в Брест: легко могу представить себе, как она вела себя там во флотилии – всегда хорошо щебетала, несла веселую, пустую чепуху. А рядом, представляю себе Старика: покорного, с добродушием сенбернара – готового последовать ее малейшему сумасбродному желанию.
Особенно должны были тронуть Старика исполняемые ею коротенькие песенки. Песенки при свете свечей у стреляющегося искрами камина. Ниспадающее до полу одеяние из красного бархата, с глубоким декольте на спине – кто бы удержался!
«Trois gareons» – это была одна из ее любимейших песенок: «J’ai en trois gareons/Tout trois capitaines/ L’un est; Bordeaux/L’autre; la Rochelle/ L’un est; Bordeaux/L’autre; la Rochelle/L’plus jeune; Paris/Pilier de Bordel./ Trois gareons… так-то. Люди вокруг Старика давно уже перешептывались на их с Симоной счет. И шепот этот представляю себе: полуснисходительно, полуиздевательски… Подстерегающие косые взгляды, шепот в спину. Зависть. Никакой робости: «Злопыхатели», так мы называли этих подонков. Не в наших правилах было увиливать. Лучше защищаться нападая. Действовать четко, ясно и строго против всех этих «ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ».
Смешанное чувство? Словно влепили прямой в лицо? Это пройдет! И как нарочно – в Париж! Но хочу я этого или нет Симона не оставляет меня в покое. Неужели мне придется разгребать всю ту кашу, что она заварила?
Даже засыпая, думаю: Что же делать с Симоной? В конце концов, мы с ней в ссоре.
Прибыв утром в Отдел, узнаю, что рано утром началось Вторжение и как раз между Шербуром и Гавром. Сообщение поступило по телефону от командования флотилией Группы Вест.
Словно под гипнозом двигаюсь к огромной настенной карте в столовой: значит вот здесь. Так далеко к югу от Англии? И об этом никто не знал? Едва ли кто у нас принимал в расчет это место как место возможной высадки.
Лично я каждый день ждал высадки Союзников. Ну, вот и свершилось! Этот день – 6 июня 1944 года войдет в историю.
В канцелярии читаю первое сообщение:
«Вторник, 6 июня 1944 года, 01 час 30 минут.
В 01 час 30 минут поступили доклады о высадке большого числа парашютистов в расположении 711 и 716 пехотных дивизий. Передано офицером служебной телефонной линии LXXXIV. Войскам объявлена тревога II степени. Немедленный запрос к командующему Группой Вест при Армейской группировке W. (01 ч.45 мин). Армейская группировка W подтвердила донесения командира 7 о высадке парашютистов и донесение 711 пехотной дивизии о воздушном налете и высадке парашютно-десантных соединений противника в полночь. В расположении 711 пехотной дивизии кроме парашютно-десантных групп задействованы по сведениям, грузовые планеры».
Вот так всегда: парашютисты и грузовые планеры. Едва ли мы представляем, что это такое – грузовой планер. Я, лично, представляю себе просто смонтированные, огромные, безмоторные самолеты, доставляемые настоящими самолетами до места высадки, и там они отцепляются – гигантские планеры. Однако, никак не могу сообразить, как их поднимают в воздух и ведут на привязи.
Хотел бы знать, где конкретно располагаются 711 и 716 дивизии. С этим донесением и у этой карты никак не складывается вся картинка.
Вновь поступают донесения. После полуночи в районе Каена высадился бесчисленный парашютный десант. Становится не по себе от физически ощутимого страха. Для меня все это значит одно: почти никаких шансов попасть в Брест. Теперь-то я уж не вырвусь из цепких когтей Бисмарка.
Стараюсь хоть что-то прочесть на лицах присутствующих. Но они словно каменные. Люди стоят отдельными группками и шушукаются. От одной группки доносится: «Шеф уже все согласовал!»
Надо заняться чем-либо, чтобы успокоить нервы. А потому испаряюсь с каким-то ординарцем несущим поступившие донесения куда-то на третьем этаже. Но как бы я ни пытался сконцентрироваться, мысли бегут вдаль. Пробегаю взглядом по строкам донесений, но их смысл не доходит до ума: не понимаю того, что читаю.
В эту минуту снаружи доносится вой сирен воздушной тревоги и крики: «Воздушная тревога!» Переполох! Не имею понятия, как здесь действуют по тревоге. Ничего другого не остается, как нестись вниз по лестнице.
Просто черный юмор: сидеть в убежище в Париже! На первом этаже попадаю в хаотично несущееся стадо. В этот миг думаю, что меня хватит удар: Великий Бисмарк напялил на голову каску! В толчее высматриваю Йордана. Тот же, опершись спиной о перила лестницы, стоит словно статуя. Вместо того, чтобы сломя голову нестись вниз по лестнице, он с неприкрытым интересом наблюдает всю эту сцену. Заметив меня, ухмыльнувшись, Йордан оставляет свой пост.
– События валом валят! – говорит раздраженно. – Иначе здесь было бы гораздо тише!
Более всего хочу вырваться из Отдела и уйти поболтаться по городу, безо всякой определенной цели. Но сейчас я не могу вот так просто испариться. Лучше успокоиться! – твержу себе под нос. Держи ушки на макушке! Не упускай ничего, все фиксируй до мельчайших подробностей! Слушай и прислушивайся!
«Только посмейте высадиться! – сказал Гитлер, – И в течение 9 часов мы сбросим вас в море!» – доносится до меня с цокольного этажа. Значит, если считать с пол-второго ночи, для союзников прошло уже несколько часов из данной им отсрочки.
Довольно скоро звучит отбой тревоги, и вся кавалькада вновь грохочет по лестнице – теперь уже вверх, в свои конторы, в середине Бисмарк в своей стальной каске. «Вот это цирк!» – слышу голос Йордана.
Из приемников несутся бравурные радиосообщения. Словно огромная удача для германских войск, воспринимается высадка союзников. Голоса дикторов звучат с таким пафосом, словно они сообщают о спортивном соревновании.
«Теперь заговорит наш карающий меч!» – «Решительный бой за будущее всей Европы!» – «Отбросим врага от бастионов Европы!»
Йордан поднимает глаза вверх, а я думаю лишь одно: «Только бы он молчал!» рядом с нами несколько человек, которым я бы не доверял. В этот миг появляется адъютант и Йордан, словно этого только и ждал, выпаливает: «Конечно, янки и Томми совершенно не нанесут нам того урона, который когда-либо позже появится на пленке».
Спятил он что-ли? Но Йордан хладнокровно продолжает: «Однако именно МЫ находимся ближе всех к этому великому моменту…», и при этих словах скользит взглядом по лицам адъютанта и коллег.
Без конца хлопают двери. Все здание кишит как муравейник, куда сунули палку. Говорят, что «этот черт» исчез в гараже Отдела. «Черт» – это наш Бисмарк. Мол, ему надо ободрить водителей и потребовать от них «полной боевой готовности людей и машин», поясняет Йордан. Адъютант подходит ко мне: мне приказано вместе с тремя другими лейтенантами выехать в город, в офицерское пошивочное ателье, а там как морские артиллеристы получить серую полевую форму. Ужас! Но что делать: другого шанса вырваться отсюда у меня нет.
На полпути к ателье нас настигает новый сигнал тревоги. В небе появляется пара самолетов. Это не немецкие, т. к. несколько французов хлопают в ладоши, задрав голову к небу. Жаль, что эту картину не видит Бисмарк!
Я бы с удовольствием и сам захлопал в ладоши. Хотя это вторжение союзников перекрыло мне дорогу к Симоне, но теперь может так оказаться, что Симона скоро снова будет свободна. Сегодня фактически прозвенел последний звонок тысячелетнему Рейху! На улицах между тем царит обычный порядок. Проехали несколько разукрашенных пятнами маскировки военных автомобилей. Ничего необычного. Но чего же я ждал? Что все жители выйдут из домов и побегут из города? Или еще чего-то?
Невредимый и нормальный вид этого города действуют на меня вызывающе: бомбы должны пасть на этот город!
В Вольфшанце наверняка имеются точно разработанные планы, как разбомбить этот город, превратив его в огромное поле руин. Приходится останавливаться из-за колонны бронеавтомобилей – прямо напротив большой террасы какого-то кафе. Смотрю как маленькая, бледная девчушка невероятно быстрыми движениями тоненьких пальчиков так складывает листы „Petits Parisiens“, что газета вполне подходит для карманов. Несколько прохожих покупают листы торопливо проходя мимо. Лишь только они уходят, им на смену спешат новые. Это довольно необычно. О признаках открытого восстания речи нет.
В сообщении военного радио Вермахта говорится:
«Верховное командование Вермахта доводит до сведения: В прошедшую ночь, противник начал свое давно подготовленное и ожидаемое нами нападение на Западную Европу. Поддерживая тяжелыми воздушными налетами на наши береговые укрепления свою атаку, противник высадил парашютные десанты на северофранцузском побережье между Гавром и Шербуром, одновременно, при поддержке тяжелых военных кораблей осуществив высадку десанта с моря. На подвергнувшемся нападению побережье идут ожесточенные бои….»
«Тяжелые военные корабли» – «ожесточенные бои»…. Если зазвучали такие нотки, то здесь дело потруднее, чем налет на Дьепп или на Сен-Назер. Интересно, а что ТЕПЕРЬ говорит Бисмарк? И тут я узнаю, что Бисмарк уехал в Группу ВМФ Вест.








