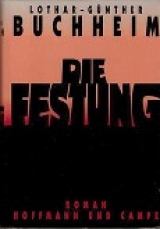
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 111 страниц)
Вид бледных, окантованных бородами, истощенных и все-таки полных ожидания встречи с землей и друзьями лиц, действует мне на нервы. В экипаже видны и совсем юные, скорее детские лица: у некоторых на впалых щеках нет и намека на пробивающуюся бородку или усы.
С этими пацанами поход удался на славу: ведь детьми легче командовать. Они любой каприз командира воспринимают как необходимость безоговорочного выполнения приказа. А если сейчас появятся Томми, кто сможет задать им здесь жару? Следует быть начеку!
Иногда задаюсь вопросом: действительно ли эти дети смелы и храбры? Неужели они так отважны, как считается? А может им просто чаще улыбается судьба? А потому им и достается это «обязательное, железное исполнение своего долга перед Родиной»?
Любах – выходец из старой гвардии и считается рассудительным человеком и командиром. Теперь же он вообще крутой: четыре потопленных судна – в это с трудом верится, потому что найти и потопить караван судов – сегодня это поистине чудо!
Старик следит за тем, чтобы поскорее закончились рукопожатия: командным тоном приказывает Любаху занять правое переднее место в своей машине. Я и еще два офицера из комитета встречи втискиваемся на заднее сиденье и в ту же секунду, на всех парах, летим во флотилию.
Едва рассаживаемся в клубе, Старик тут же интересуется, что Любах имеет доложить.
– Ну, сначала мы встретили одиночный корабль, – начинает тот без обиняков, – но он внезапно отвернул с курса. Вот незадача, сказал я себе. Но, судя по всему, нас с корабля не видели. И в этот момент, впереди справа по борту от этого корабля, появилось несколько дымов – в это нельзя было поверить, но корабль вывел нас прямо на караван!
– Что, конечно же, не входило в его планы, – бормочет Старик.
Слегка раздраженно Любах отвечает: «Едва ли». Затем замолкает, точно его сбили с панталыку. В смущении он откидывается в кресле и делает большой глоток пива из большой кружки.
– Корабль был принят в караван, это точно, – делает Старик попытку снова включить Любаха в разговор.
– Так точно. Мы определили в конвое множество эсминцев. Это был довольно сильный конвой. Но меня уже захватил азарт охоты. Потому определил курс и направление движения судов и пошел вперед, с тем, чтобы занять выигрышную позицию. Приходилось быть очень осторожными из-за наличия в конвое эсминцев. Поскольку мы находились достаточно далеко от конвоя мы шли под водой. С центрального поста передали в лодку: «Перед караваном два эсминца» и затем: «По крайней мере, в караване 10 судов».
Я спустился вниз, в соответствии с требованиями безопасности, и тут доклад акустика: «По левому борту проходит эсминец – эсминец прошел», продолжает Любах. «Таким образом экипаж узнавал, как развиваются события. И так все время: перископ вверх – перископ вниз. А между тем мы насчитали уже 16 судов. Вскоре я дал команду: «Продуть трубы торпедных аппаратов. Аппараты – товсь!» В этот момент прямо на нас понесся один из эсминцев, пришлось уйти на глубину и замереть. Но это был всего лишь маневр. В любом случае нам пришлось нарушить все предписания безопасности и войти прямо в середину каравана, невидимыми для заградителей и боковых эсминцев. Кроме того, мы чуть-чуть использовали и перископ. И в этот момент мы обнаружили, что со всех сторон окружены кораблями. Оставалось лишь занять удобное для стрельбы положение. Если бы я только мог стрелять вкруговую, вот налупил бы кораблей! И тут, вдруг, два корабля стали на полкорпуса друг за другом. Я даже разглядел людей толпящихся на палубах. Ну, мы убрали перископ, и понеслось: Первый аппарат – пли! Второй аппарат – пли! И так далее. В результате 4 корабля за короткое время ушли на дно. Три из них при этом прямо по курсу лодки».
Любах смолкает, а я глубоко вздыхаю. В следующий миг Любах показывает на пол: «Четвертый же ушел через корму…. Это было какое-то сумасшествие: первый корабль – бабах! торпеда вошла прямо в середину. И тут же опять бабах! Второй, третий – и бабах! – четвертый. Тут я понял: сработали чисто. Корабли получили свое. Это было так, будто я стрелял в сплошную стену. Все удовольствие длилось всего лишь две минуты. Четыре корабля за две минуты. Общий тоннаж – двадцать тысяч тонн. И еще был взрыв котла на четвертом судне. Том, что ушло кормой вниз…. Ну а потом эсминцы, словно с ума сошли. Они же наверняка знали, что здесь была подлодка…. А затем, как обычно» – «Кисло» – шепчет сидящий рядом молодой вахтофицер. Но Любах услышал его: «Можно и так сказать…» – бросает он с легкой усмешкой.
Жизнь в кают-компании возобновилась с возвращением лодки. Вахтофицеры сразу сменили свои узкие погоны фенрихов на лейтенантские нашивки на рукавах. И эти нашивки сверкают яркой новизной.
Therese буквально танцует вокруг Любаха и Старика, и оба расцветают. По всему видно, что Старик лучше бы отправился в море, чем торчать за письменным столом.
Позже, в клубе, Старик становится необычайно разговорчивым: «Фюрер, конечно же, осознал, что американцы совсем не умеют воевать. Это же просто жующие жвачку наемники, да ищущие приключения ковбои». А затем глухо добавляет: «Стоит раздаться взрыву, как у них уже полные штаны. И, кроме того: Армия – так говорит Фюрер – лишь тогда боеспособна, когда она связана с родной землей …» и радуется, как ребенок. Это вполне в духе Старика: серьезный разговор превращать в шутку. Но такое со мной впервые. А он продолжает: «Кроме того, эти братишки, как всем хорошо известно, вырождаются как раса. И, конечно же, Фюрер это учел».
Старый Штайнке недоверчиво косится на Старика, но тот лишь ухмыляется, чем еще больше раззадоривает капитан-лейтенанта, а в следующий момент он будто совсем с цепи сорвался: «Хочу сказать вам, что Фюрер всего лишь хотел показать англичанам, что он испытывает нежную привязанность к Союзу всех германских потомков против славян. В союзе с англичанами – против русских! Поэтому то, он с таким умыслом и позволил англичанам ускользнуть из Дюнкерка. Целой армии англичан, насчитывающей добрых триста тысяч человек! Он же мог их всех там легко перещелкать…».
Меня вдруг осеняет: сумасшедшая, нелепая гипотеза – но вполне возможная, с позиции психопата-истерика. Полет его заместителя этого фигляра Гесса к союзникам в Англию – это что-то на самом деле значит!
Оказавшись вновь у себя, возвращаюсь мыслями к увиденным у зампотылу фотографиям: Старик точно тогда умом двинулся: Симона – в качестве шефини флотилии, Симона – в Бункере, одета словно офицер, и все так просто: шутки шутили! Ладно: Симона, как сестра милосердия, как организатор, как дизайнер, как женщина-вамп – почему бы и нет? Ей это все отлично удалось. Но войти в верфь Бункера, к подлодкам в Бункере, прямо на транспортном судне? Это же абсурд! Но тогда Старик – простодушный, наивный дурак? Однако, стоит мне лишь захотеть говорить о Симоне, как он, будто опытный боксер, ускользает от моего удара. Довольно трудно удержать Старика в одной позиции.
Мне уже давно следовало бы основательно расспросить зампотылу обо всем. Полагаю, из него я сумел бы вытянуть все, что хотел бы узнать, и без особых усилий. Однако не хочу иметь ничего общего с этим прихлебателем.
Старого Штайнке я не могу расспрашивать. Тем более ни дантиста, ни врача флотилии. При всем при том, я опасаюсь, что из-за моих расспросов, Старик будет скомпрометирован в глазах этих четверых.
К гложущим меня сомнениям добавляется чувство вины и злая ярость: чертова неразбериха! Сюда же добавляется и страх – страх, в конце концов, заварить такую кашу, которая лишь еще больше навредит Симоне….
«… в высшей мере измочалены!» – разносится утром сообщение радио Вермахта из громкоговорителя. Не возьму в толк, что там у них в высшей степени измочалено. Едва ли это относится к армии противника. А как звучит: «измочалены»! Какое хвастливое выражение! Я, как только услышу «измочалены», начинаю думать о зеленых клецках и о терке с острыми краями, на которой приходилось натирать сырой картофель, превращая его в красноватую, водянистую кашицу.
Круговерть мыслей опять уносит меня не туда, но я не хочу ее останавливать. Фраза: «в высшей степени измочалены» – не относится в этом сообщении ни к шпинату, ни к картошке. В конце концов, когда картофелина уже едва удерживалась тремя пальцами, приходилось быть очень внимательным, чтобы не стереть о зазубренную поверхность терки ноготь или подушечку пальца. Остатки, которые еще все-таки можно было использовать, перерабатывались бабушкой Хедвигой в особую клецку. При раздаче, она узнавалась по слегка овальной форме, которую бабушка ей придавала, и этой клецкой награждался тот едок, который дольше всех сидел за столом – чаще мой младший брат, которому бабушка с удовольствием ее отдавала.
Никак не могу сообразить, сколько уже прошло времени с тех пор, как я оставил Париж. Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. То, что произошло со мной в последние недели, было для меня, как говорится, «полной программой». Время – совершенно не абсолютная величина.
Я пребываю в каком-то странном состоянии. Иногда мне кажется, что и эта флотилия, и весь Брест, выстроены, словно господином Потемкиным – как декорации к фильму – peoples, шатающиеся вокруг, мои товарищи, офицеры, словно роли, исполняемые статистами.
А может надо быть попроще, остаться здесь и использовать прием мимикрии?
Сидеть здесь, вперив зенки в небо, заниматься ни к чему не обязывающим трепом, и пусть все катится, куда кривая выведет – может так и стоит провести остаток дней своих?
Больше всего хотелось бы заглянуть за маску, что носит Старик. Стоит ему лишь движение сделать, словно он снимает ее предо мной, как тут же появляется другая: обычно это язвительная усмешка. Наверное, мне никогда не удастся узнать, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО происходит за этим его лбом, больше похожим на стиральную доску.
Иногда, в столовой или клубе, мне становится дурно, когда приходится слушать тягучие, банальные разговоры, поскольку не выношу бесцеремонного обращения со Стариком.
Держи ушки на макушке! – постоянно одергиваю себя. Ничто не проходит бесследно – даже пустой и безобидный, на первый взгляд, треп.
Всякий раз, как иду куда-нибудь, сразу же, покинув расположение флотилии, исчезаю в старом порту.
Конечно, я не бросаюсь сразу же рисовать или даже делать наброски, а просто присаживаюсь на какой-нибудь кнехт, и брожу взглядом по рейду и небу – лучше сказать «НЕБЕСАМ», поскольку такого неба, такой панорамы, я еще нигде и никогда не видел.
Полоса плохой погоды постоянно нагоняет ряды дождевых туч. Иногда приятно уже и то, что глупая однообразность упрямого стука мелодии дождя перемежается глухим шумом проливного ливня и бескрайней пустыни туч. И нет никакого желания тогда думать о ярко-синем, высоком небе. Но как-то вдруг воздух внезапно вновь становится прозрачным, мягким и нежным, как шелк, и длится это до тех пор, пока небо опять станет бледно-серым, а затем иссиня-чернильным, мрачным и угрюмым в своей середине. И внезапно бросок дождя по всему рейду и где-то рядом всхлипывания дождевых капель в ливнеспусках, как пронизывающее сетование на мертвое время. Погода Бретани.
Глазам открывается чудесная картина: противоположный берег являет собой толстую, бледную полоску угля. Расплавленный воздух скрывает его контуры. Бледно-апельсиновый цвет неба стекает золотистыми каплями в море. На водной поверхности яркими каплями отражается огромное небо. И при этом ни дуновения ветерка, ни гулкого морского шума.
С приливом прибывает целая армада рыбацких лодок. С попутным ветром они буквально облепляют пирс. И где-то в последний момент спадает висящая пелена, обтекает бьющие по воде весла, и скоро уже все лодки стоят как приклеенные у пирса. Да, эти парни знают толк в работе веслами!
Это бы понравилось Старику. Он бы, наверняка, тут же стянул с себя куртку и запрыгнул на борт одной из лодок. В его вкусе было бы и выскочить на рейд и заняться ловлей съедобных ракушек.
За обедом замечаю отсутствие Любаха. «Я отправил его в очередной поход – на Родину», отвечает Старик на мой вопрос. «Полагаю, ему запрещено уезжать в отпуск?» – «Так точно. Но несмотря на это, мне удалось выхлопотать ему краткосрочный отпуск. У него, видишь ли, появилась серьезная проблема. Его жена была на сносях, и во время родов она почти умерла. Мы получили телеграмму об этом».
Эти слова буквально пронзают мое сердце.
– Только бы обошлось, – помолчав, добавляет Старик, и я не знаю, то ли он подразумевает жену Любаха, то ли опасность воздушного налета.
Некоторое время молчим.
– Ладно. Пойдем-ка лучше ко мне, да пропустим по бокалу пива, – вдруг поднимается Старик, когда от шума поднятого в клубе вахтофицерами ему становится невмоготу, и скоро мы уже сидим в его комнате, за полузакрытыми ставнями.
Комната Старика соответствует моей один в один. Архитектору, который возводил это здание, образцом, наверное, служил мостик корабля: три стены являют собой стеклянные стены.
Ясно слышу хлопанье входной двери, которая ведет с лестницы в прихожую. Дверь стеклянная, с дребезжащими – по местной традиции без замазки – стеклами. Даже неуклюжая, четырехугольная мебель абсолютно такая же, как и у меня. На столе даже скатерть такая же, напоминающая скорее кусок ковра, чем материю. Все это я охватил буквально одним взглядом, а также и то, что на окнах висят расцвеченные шторы и эти огромные шторы почти закрывают одну из стеклянных стен. Внизу шторы собраны волнами, портьеры обшиты парчовыми окантовками, а на письменном столе стоят две узкие вазы для цветов и одна широкая ваза в стиле ампир. Свисающая с потолка лампа закрыта абажуром, такими же черными кисточками по кругу напоминающим широкополую шляпу капризной дамочки.
Все это вовсе не соответствует Старику, всегда жившему в спартанских условиях. По всему видно, что Симона успела приложить руку к обстановке этой комнаты. Скорее всего, именно Симона разместила на стене, над письменным столом и эти три бретонские фаянсовые фигурки. Одна – парусник, другая – рог изобилия с россыпью цветов.
– У меня все более скромно, – вырывается у меня. Старик и ухом не ведет, а потом притворно вздыхает: «Таковы уж у нас порядки!» – «Чрезмерные, я бы сказал». Старик согласно кивает, а я продолжаю: «Но, судя по всему, даже к такому порядку невольно привыкаешь: ведь уже пятый год войны!» – «Скоро пойдет шестой…. Да, чертовски долго. Трудно представить, что паренек, покинувший родной дом в 16 лет, не знает ничего кроме этой войны».
На переносице Старика сложились глубокие складки. Он встряхивает головой. Будто отмахиваясь с досадой. А может быть, его глубоко поразила собственные слова? Но в следующий момент лицо его вновь светлеет и он продолжает: «Вот был бы ужас, если бы вдруг настал мир – так сказать, в сжатой, понятной всем форме: со световыми рекламами, шоколадом, детским смехом и всем, что можно соотнести с этим словом. Едва ли кто вынес бы такое» – «Так произошло раз с моими золотыми рыбками. Они просто сдохли, когда я достал их из болотины обрезиненной бочки и опустил в чистую проточную воду».
Кажется, это развеселило Старика. Он участливо усмехнулся и пошел за пивом в прихожую.
Как же меня достала эта его манера уклоняться от разговора! Надо попытаться прижать Старика к стенке! Когда, если не сейчас? А потому, как только он возвращается, ставлю вопрос ребром: «Скажи, пожалуйста, а почему ты, после ареста Симоны, ничего не предпринял?»
То, что Старик некоторое время молчит, наводит меня на неприятные мысли.
– Ты, наверное, представляешь себе все чертовски просто, – произносит он наконец. При этом в его голосе слышно легкое раздражение – словно он едва сдерживает эмоции.
– Ведь мы же не можем просто так уйти на дно, и бросить Симону на произвол судьбы! – делаю очередную попытку. Старик передергивает плечами, словно выражает явное разочарование моей тупостью. Выглядит он при этом беспомощно, и я не решаюсь продолжить нападение.
Пора подумать: если считать, что Старик получил служебный приказ ничего не предпринимать для спасения Симоны, если Комфлота тоже не просто так выразил свое неудовольствие, а вполне серьезно, то Старик связан тогда по рукам и ногам – а может и посильнее. Отношения становятся тем строже, чем выше поднимаешься по служебной лестнице.
Подведем итоги: Старик зажат в тиски. От командира флотилии ждут инициативы, а он зажат в узкое прокрустово ложе. «Давай повременим, – наконец прерывает свое молчание Старик, – Они в любом случае позаботились, чтобы мы наложили в штаны…»
Ушам своим не верю: «наложили в штаны»? Неужели Старик говорит о СД? Значит ли это, что СД нагнало на него страх? Едва успеваю перевести дух, Старик добавляет: «Мать Симоны, вероятно, все еще сидит в тюрьме города Нант, где и Симона была сначала. А где сидит ее отец, никто сказать не может».
«… Симона тоже была сначала»?! Что это значит? Почему Старик не скажет все наконец-то прямо? Что он умалчивает от меня? Почему никак не откроет карты?
– А где Симона теперь? – спрашиваю с вызовом.
– Зампотылу выяснил, что в Compiegne. Он ездил к ней в тюрьму в Нант. Но ее там уже не было….
Цепенею при этих словах. Сижу как пришибленный и тупо пялюсь на Старика: зампотылу ездил к Симоне в тюрьму?
– В Нанте сказали, что в Compiegne расположен концлагерь и Симона была туда отправлена.
Вновь обретя дыхание, спрашиваю: «А от кого вы узнали все это в Нанте?» – «От СД» – «Как это от СД?» – «Я же сначала ТУДА послал зампотылу».
Ну и жук этот Старик! Почему он так тщательно скрывал от меня эти вести? «Так он что: заскочил в СД, а потом просто поехал в тюрьму?» – «Пойми ты: в любом случае этим делом занимается СД!»
Старик буквально буравит меня взглядом. Повисает тяжелое молчание. Меня так и подмывает подстегнуть Старика: Дальше! выкладывай что знаешь, и не своди меня с ума!
Со Стариком происходит странное изменение: он прикрывает глаза и выглядит довольно забавно. Наконец произносит: «Я придумал одну дурацкую историю и зампотылу изложил ее этим быкам из СД – ведь зампотылу нужно было основание…»
Не свожу глаз с лица Старика и зачарованно слежу, как он несколько раз сглатывает, затем медленно вдыхает воздух и весь собирается.
– Так вот. История такая, – говорит он твердым голосом, – От одного товарища, который как-то останавливался у нас, Симона получила золотые часы, чтобы отремонтировать их в Париже. Довольно ценная семейная реликвия, о которой сейчас очень волнуется его семья. А мы чувствуем свою ответственность за правильное развитие событий с этими часами. А потому должны были бы допросить мадемуазель Загот – либо ее МОГЛИ БЫ допросить по нашей просьбе…. Зампотылу, однако не удалось узнать ничего больше, так как СД убрало Симону. «Убрало, потому что она персона нон грата». Так заявили господа из СД. А большего нам узнать не удалось» – «Почему же зампотылу мне ничего не рассказал?» – «Ну, это просто. Я ему запретил» отвечает Старик.
Убрана как персона нон грата! Сижу и подавленно молчу. Термин «убрана» звучит как неприкрытое насилие!
– И ни слова о шпионаже? – задаю, наконец, вопрос. «Нет – «персона нон грата»! – уже орет Старик, – но эти слова могут многое значить. Даже шпионаж» – «А кто заложил Симону? – продолжаю настойчиво долбить Старика, – Ведь кто-то же заложил ее? Не думаю, что это был некий превентивный арест, когда хватают кого угодно, просто так, от нечего делать. значит есть кто-то, кто донес на нее!» – «Есть подозрение?» – «И не одно!» – отвечаю немедля. «Неужто?» – «Да…. Прежде всего, эта ведьма из Дуйсбурга. Супруга фоторепортера Купперса. Ты ее знаешь, эту славянскую кошку, с челкой над бровями. Она нам и устроила весь этот сыр-бор…. До этой бабенки скоро дошло, что вовсе НЕ она примадонна. К тому же полное отсутствие женского шарма, так присущего француженкам. Отсюда и пошл все эти склоки и интриги. Да еще какие!».
Чуть опешив, Старик неуверенно произносит: «Так это же было еще в La Baule!» – «Так что? Всему свое время. Уже тогда в воздухе витала опасность взрыва. Стоило лишь поджечь фитиль…» – «Я что-то с трудом вспоминаю эту даму – она такая, ну как монголка, что-ли?» – говорит Старик, растягивая слова. «Да, монголка и негритянка в одном лице» – «А может эти твои рассуждения просто плод больной фантазии?» – «Если бы. Я кое-что слышал в Париже. И эта мадам тоже там была!» – «Тогда есть и еще кое-кто!» – «Кто же?» – «Ну, здесь в Бресте, есть один гауптштурм – и еще какой-то он там у них – фюрер…» – «Ты, вероятно, и понятия не имел, зачем эти нацистские падлы влезли в это дело, если все дело было в ревности».
Старик задумался. Наконец он бормочет: «Может быть. Но все же: в это не очень-то верится. С моей, так охотно тобою критикуемой тенденцией смотреть на все просто, я познакомился с местным начальником СД. Однако я что-то давно его не видел…. Вероятно, он тоже чувствует свою удаленность от нас – кто еще захочет ЕГО пригласить?»
Снова молчим. Но мне уже нравится то, что мы вот так просто сидим и молчим. Ну, Старик! Эта история с часами – такое и во сне не приснится! И все так устроил, словно он вообще ни при делах. «Но почему же тогда все подруги Симоны тоже были арестованы? И заметь: все там же, в La Baule!» – прерываю молчание. «Эта банда могла рассуждать так: делать дело – так делать; и тут же – хвать-похвать всех ее подружек. Так сказать, одним махом…» – «Вполне возможно, – соглашаюсь с этим доводом, – Но разве нельзя было никак выяснить, что произошло, и кто сыграл в этой пьесе свою роковую роль? Используя, например, тихую дипломатию? Тихой сапой, так сказать, если нельзя в лоб?» – «Ну, ты спросил! – взрывается Старик, – К господам, которые здесь принимают участие в этой игре – к ним мы не имеем никакого отношения – и как оказывается теперь – это наше упущение. А, кроме того, нам, поперек дороги стал сам Командующий подводным флотом…» – «Ну и как дальше будет?» – «Если бы я только знал, – отвечает Старик, – Но скажу сразу: у нас здорово связаны руки. Однако рано или поздно…» И тут Старик замолкает, оставив меня в раздумьях: что же он еще хотел, но не осмелился сказать.
Полночи из головы не идет этот наш разговор. Знаю наверняка лишь одно: Старик рассказал мне не все! Ведь он ни слова не сказал о том, чем фактически занималась Симона в Бресте…
Полночи из головы не выходит этот наш разговор. Наверняка знаю лишь одно: Старик рассказал мне не все. Он ни слова не сказал о том, чем фактически занималась Симона в Бресте.
За завтраком зампотылу сидит от меня четвертым. Сегодня смотрю на него другими глазами: так просто проникнуть в охраняемую крепость и постараться выведать об арестованной француженке – это уже кое-что! Жаль только, что я не могу с ним поговорить об этом его приключении: надо, прежде всего, получить добро от Старика.
– Хорстманн прибыл! – сообщает мне Старик, как только вхожу в его кабинет после столовой, – Он трижды выходил в море – лишь на третий раз удалось. В первый раз – повредили двигатели, во второй – он получил по кожуху. Но как! Даже шноркель не был задет.… Такое вот у нас веселое времечко!
Так-то вот! Мелькает мысль. Раньше такого не бывало. Должно быть, чертовски неприятно выходить в море под фанфары, а потом, не затуманив перископ, возвращаться обратно.
– Пойдешь со мной! – командует Старик, и я киваю понимающе, – Этому парню есть что рассказать.
По правде говоря, я уже сыт по горло всеми этими пусторечивыми встречами. Единственное, что меня еще привлекает, так это возможность выведать что-нибудь свеженькое у вновь прибывших офицеров. Однако с Хорстманном все по-другому – от него едва ли слова добьешься. Потому он мне и любопытен. «Тяжело», только и сказал Старик, когда я его спросил, как дела у Хорстманна.
Стоим на пирсе. На сигнальной штанге развевается вымпел. Старик вполголоса читает его.
– Они уже здесь, – говорит он, – В Бункере!
Меняем яркий, в легкой дымке утренний свет на сумеречный свет электрического освещения Бункера. «Они в Боксе № 4» – орет Старик сквозь свист паровых котлов. «Осторожно!» – кричит он снова и хватает меня за руку: я чуть было не свалился на какие-то тросы. Здесь нужно идти как грибнику: все время смотреть под ноги. Повсюду натянуты тросы или лежат, свернувшись в клубки шланги.
Старик буквально рвется на бетонный пирс в Бокс № 4.
– А вот и они! – орет он опять и указывает подбородком вправо.
За оконечностью мола медленно показывается нос лодки. На верхней палубе ряд серых силуэтов. На светлом фоне видны стоящие рядом две фигуры. Вот очертания зенитных пушек и поручни мостика. Вот видна платформа зениток. И опять ряд силуэтов: на корме верхней палубы стоит дневальный. Наконец появляется корма, и подлодка вытягивается перед нами во всю длину. Но затем она словно короче становится: из положения угла в 90° образуется угол в 45°. Затем угол уменьшается, пока не превращается почти в 0°.
Чуть не бегом мчимся по глубине Бункера назад. Группа встречающих, не шевельнувшись, уступает место Старику. Едва лишь лодка проходит створ Бункера, с мостика отчетливо доносятся громкие приказы рулевому и машинному отделению. Лодка приближается так быстро, что могу узнать стоящих на мостике. А один кажется мне очень знакомым, словно вышедшим из моих мыслей. Хорстманн довольно неказист. Его желтоватое, восковое лицо производит вид больного человека. А тут еще эта встреча на молу!
Уже в третий раз не могу сдержать слез при виде вернувшихся домой из боевого похода подводников. Первый раз это было в Бункере при Saint-Nazaire, когда на узком, скользком трапике подлодки, ведущем от пирса на ограждающие трубчатые релинги рубки какой-то подлодки, два, одетых в форменные кожаные куртки офицера-подводника, буквально утонули во взаимных объятиях. Вопреки всем требованиям Устава. Я знал, что это были два брата: один – командир какого-то потопленного эсминца, а другой – вахтофицер другого, также подбитого эсминца. И оба были подобраны разными подлодками. Когда я увидел, что они с трудом удерживаются в этот момент на узком трапике, а лица их заливают слезы, меня тоже проняло.
Во второй раз, когда экипаж «Питона» стоял босым на решетчатом настиле подлодки, которую им удалось спасти: далеко внизу от меня, в шлюзе. Был отлив, и лодки ждали высокой воды.
Было рождество. Рождество для меня всегда довольно трудное время, а тут еще эти бедолаги, что стояли босыми там, внизу. Для моих издерганных нервов это было уже слишком.
И теперь глаза у меня на мокром месте, когда вижу лица этих несчастных: они измучены, их силы на исходе, они едва могут держаться на ногах…
Хорстманн сидит в кабинете Старика и готовится к рапорту. Никак не могу поймать его взгляд: бегают глазки его туда-сюда, напоминая крыс загнанных в клетку. Но, кажется он готов.
– Больше никакой спешки, – наконец начинает Хорстманн злобным басом, – Мы, словно пчелы кружились. Целый день. Невероятно, ни минуты отдыха. Это просто бесило! Постоянное кружение. А пока два-три раза обернешься, цель уже далеко, так что и не подберешься. Да еще эта проклятая слабость. Так больше нельзя.
Старик слушает молча, ничем не выражая поддержки и сочувствия. Хотя мог бы, по крайней мере, сказать: но вы же опять здесь, с нами! А сегодня это большая удача.
– Меня чертовски удивляло то, что нас так мало бомбили. Парни в воздухе, наверное, так наливались спиртом, что едва ли могли правильно навести свои бомбометы.
Старик интересуется, что за тип самолетов там был.
– Большие четырехмоторные сундуки. Может быть Либераторы.
– Наверное, чертовски противно идти под водой с такой птичкой сопровождения? Мне бы это точно не понравилось.
Вот черт! Мелькает мысль, что Старик, словно нарочно, занят своими размышлениями об авиации противника, вместо того, чтобы ободрить этого человека, вырвавшегося из лап смерти. А тот бодро продолжает: «Слава Богу, с нами ничего не случилось!» – «Да» – кивает Старик.
– Наши двухсантиметровые снаряды не могут пробить их броню. Мы наблюдали прямое попадание, но четырехмоторники здорово защищены броней.
Старик бормочет: «Это нам известно. В следующий раз получите снаряды калибра 3,7. Уж они точно пробьют броню». При этих словах Хорстманн сильно заморгал. А что еще ему оставалось делать? благодарить Старика? По всему видно, охотнее всего он вскочил бы сейчас и умчался бы прочь. Но он ВЫНУЖДЕН сидеть здесь, и ВЫНУЖДЕН говорить, хотя ему все это уже давно обрыдло.
Поскольку Хорстманн не говорит не слова, Старик откашливается. Наконец Хорстманн произносит: «Эсминцы все больше наглеют». Эти слова звучат сжато и подавленно: «С одним из них у нас был настоящий клинч …»
Раньше Старик, услышав от командира такие слова, ответил бы: «Никакой любви не осталось промеж людей», или что-то в этом духе, но сейчас он лишь крепко сжал губы.
– Сначала он высыпал на нас 15 глубинных бомб цепью, а потом еще 20…
Старик делает недовольную мину и уточняет: «Цепью?» – «Так точно, господин капитан! Друг за другом» – «Странное выражение: цепью» – произносит Старик.
Моя гусиная кожа давно прошла, и в голове вдруг зародилась странная мысль: выстрел из любого орудия звучит одинаково, взрыв гранаты звучит как взрыв любой гранаты, но глубинная бомба имеет тысячу разных тонов. Можно ли вообще ее звук назвать тоном? Все эти тяжелые трески, грохот, лопания, громыхания, дребезжания? Двадцать бомб одна за другой – это невыносимо!
Кажется, Хорстманн влип. Однако он проявляет завидную выдержку: «Томми, наверное, почувствовали, что цель ушла – так сказать, улизнула. Но кладовки-то надо было опустошать…»
Тем не менее, нервы его все-таки подвели: руки нервно играют с коробком спичек. Не замечая этого, Хорстманн уже почти раздавил его. Вдруг он замечает, что натворил и на лице появляется выражение удивления и недоумения. Быстрыми движениями собирает остатки коробка в кучку, но, не зная, куда девать ее, сидит, опустив в смущении глаза. Старик ведет себя так, словно ничего не заметил. Хочу помочь Хорстманну, но лишь стоит мне начать сбрасывать остатки коробка в руку, как это еще больше расстраивает его. А потому остатки коробка остаются лежать на своем месте.
– Несколько грубоватыми нахожу я твои слова, – говорю Старику, когда вновь остаемся вдвоем.
– Неужто мне следовало еще больше раззадорить его? Он бы точно спятил! Он хорошо отчитался и хорошо справился с боевой задачей. Конечно, сначала ему надо было бы выспаться… Единственное, что меня действительно насторожило, это другое: братишкам удалось вновь взломать наш шифр – они знают о нас все, что хотят. А МЫ ничего не подозреваем. Я знаю только, что в Белом доме сидят стратеги из подводного флота. Но Белый дом – мне что с того? После веселой, доброй Англии, куда мы заходили, будучи кадетами, больше сведений нет – к сожалению…








