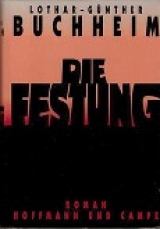
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 111 страниц)
Мой Париж, это, конечно же, серый канал Saint Martin, с его шлюзами и баржами на высокой воде, чинно проплывающими перед узкогрудыми, покрытыми коростой, как прокаженные, фасадами отелей. Это и треск льда на набережной в зимнее время. Зимний Париж – это печаль пустых улиц, невероятных в своей заброшенности и одиночестве, ночами плохо освещенных и абсолютно безлюдных….
На поверхности какой-то глухой стены читаю огромную надпись: PARIS SERA TOUJOURS PARIS. Кто оставил эту надпись? На рекламу не очень-то смахивает. Простое сообщение? Или направленная против оккупантов провокация? Подразумевает ли этот текст: терпеливо ждите? Или: оккупанты приходят и уходят, а Париж остается? Без лесов такую огромную надпись на стене не оставишь. Ночи не хватит на такую работу. Может быть, это название какого-нибудь спектакля? Но в таком жалком районе такая театральная реклама? – Бог знает!
Какая-то прямая как стрела улица буквально засасывает меня. Не могу с собой ничего поделать, лишь отдаюсь на волю этой будящей мой интерес к городу тяги. Двигаюсь безвольно по ущелью этой улицы. И то плетусь, едва переставляя ноги, то ускоряю шаг, а то даже марширую как на параде. А затем вновь лечу как на крыльях: скорее, скорее, скорее – сквозь день и сквозь ночь: как утлый челн, спешащий в тихую гавань.
Бросаю взгляд налево и сквозь ущелье боковой улицы отчетливо вижу Sacre-Ceur, своеобразный акрополь Парижа, вылепленный из глины неведомыми великанами на гигантском гончарном круге. В нем проводились выставки картин кроткого Piere Puvis de Chavannes.
Проезжаю немного на грохочущем трамвае и выхожу на Pigalle. Тут же попадаю в толпу подростков. Всей толпой они что-то протягивают. Это открытки, маленькие фигурки Эйфелевой башни, шелковые чулки, кожаные перчатки и даже шоколад. Один шепчет: «Kino pervers!». Посылаю их всех к черту, словно разгоняю непонятливых кудахчущих кур.
Да. На Pigalle и Place Blanche ничего не изменилось. Худенькие мальчики, накрашенные гомосексуалисты, перезрелые проститутки, расфуфыренные, словно цирковые лошади и самые печальные стриптиз-бары в мире. Дамы, со своей маленькой добродетелью все также стоят на своем старом месте.
Бульвар de Cliche, который словно веер охватывает холм Monmartre, и из этого веера разбегается множество боковых улочек, одни из которых поднимаются вверх, другие несутся вниз, в долину. Бульвар буквально кишит людьми. На этой стороне художники развернули выставки своих картин, разложив их на парусиновых чехлах, напротив, на углу у какого-то бистро, стоит молодая женщина, на правом, отставленном в сторону бедре, она держит ребенка, второго малыша прижимает к себе левой рукой. Женщина поет низким жалобным голосом. Какой-то подросток, видно, ее третий сын, дует в видавший виды саксофон, в который буквально надо вдувать мелодию, т. к. вместо звуковых клапанов у него лишь мембраны из шелковой бумаги. Паренек держит одну руку в кармане брюк и дергает едва заметной ниточкой крючок, свисающий, как мундштук из левого уголка рта, что по его замыслу должно придавать в целом комичный вид. При этом он так и стреляет глазами, замечая все вокруг, словно загнанный хорек. Девочка на руке женщины просительно тянет к прохожим левую ручку.
Немного дальше толпится довольно много людей: авария там что-ли? Подойдя ближе, слышу звук гитары и приглушенное многоголосое пение. Армия спасения? Приподнимаюсь на цыпочках и из-за голов впередистоящих вижу двух парней, которые, стоя посреди образовавшегося вокруг них круга, играют на гитаре и банджо. Третий продает листки нот. Стоящие вокруг подпевают и раскачиваются в такт песне. Трое друзей организовали настоящее предприятие. Их звонкий как монета успех в десять раз превышает доходы виденной мною матери с тремя детьми: люди хотят за свои деньги приобрести оптимизм, а не уныние.
Весь бульвар выглядит в такое светлое время дня жалостно-истощенным. Большинство рекламных щитов выцвели, фотографии обнаженных танцовщиц и акробатов на рекламных тумбах выгорели и покрыты пылью: никаких блесток, лишь грязь и дохлые мухи. Молоденькие проститутки стоят, напоминая необычные живые тюки одежды: на них одеты мужского покроя куртки, а в глубоких вырезах платьев – слюдяно-поблескивающие крестики.
Навстречу движется какой-то бомж: перевязанные бечевками ботинки, брюки с бахромой, руки глубоко засунуты в пузырящиеся карманы грязного пальто.
На груди, на плакате, написано: «Венская капелла Пратера. Площадь Pigalle», на спине – точно такой же плакатик. Вздрагиваю: на левой стороне груди мужчины нашита большая желтая звезда. Значит и здесь ЭТО имеет место быть!
Стою. За спиной вход в Moulin Pouge, у края бордюра рядом с двумя светловолосыми женщинами в черных плащах, которые они держат бледными, оранжевого цвета пальчиками согнутых в локтях и прижатых к груди рук. Медленно проезжает мотоцикл с коляской – двое солдат с касками на головах – и портит всю картину. Подхожу к заведению, в котором выступают, судя по объявлению «Дамы с летящими титьками». Великолепное шоу: под нарастающие звуки музыки они вращают своими роскошными грудями как своеобразными маятниками.
Большой летний театр работает, как и прежде. Усаживаюсь на шаткий плетеный стул перед бистро на углу тихого тупика, где находятся малые постоялые дворы.
Представление начинается с шествия негров и женщин в длинных тонких линялых юбках. Одна накрасила губы почти лиловой помадой. Затем подиум на миг пустеет, будто добавляя напряжения к восприятию следующего номера. На очереди одетая в миди малышка. Она выходит на мощных деревянных сабо, как на ходулях. При этом она не смотрит ни направо, ни налево, хотя все взоры устремлены на нее: в ее высокой прическе, с обеих сторон «копны» волос разместились два голубиных крыла. Я стал свидетелем того, как создается мода: уже были перья в прическах, но чтобы целые крылья?
Эту диву сменяет девушка с такой же высоченной прической. Однако гвоздем ее выступления является не украшения головы, а платье из очень гладкого, наверное, скользкого шелка, на котором с поразительной точностью отпечатаны газетные страницы с объявлениями и фотографиями. Довольно разумно и к тому же очень практично: в случае невыносимой скуки, например в вагоне метро, можно устроить себе курс обзорной лекции.
Может быть, еще раз пройти весь участок пути Blanche-Pigalle-Clichy с множеством гостиниц с почасовой оплатой слева и бистро с дамскими капеллами и негритянскими оркестрами справа? Чувствую себя так, словно в один и тот же миг могу принять в себя тысячи женщин, которые на узких, словно бочки рыбой забитых людьми уличках, своими белыми бедрами и тяжелыми грудями ждут клиентов.
Во мне зреет какое-то странное чувство неловкости. Оно нарастает тем больше, чем дольше пытаюсь найти то настроение, что когда-то прежде, когда я ходил по этой брусчатке в первый раз, охватило меня. Но никак не могу этого сделать. У меня такое чувство, что я никак не могу попасть в ногу со временем: я разочарован! А я никак не могу быть разочарованным будучи в Париже.
И вдруг меня захватывает страх того, что Париж тоже может подвергнуться бомбардировке. Будто наяву вижу картины ужаса: прямое попадание бомб в собор Notre-Dame, взрывами стерт с лица земли Ile de la Cete, разрушены все мосты, разбит в щебень купол Invaliden Doms, воды Сены черны от множества плывущих по ней мертвых тел…. Впал ли уже Бесноватый в такую ярость, что готов сравнять Париж с землей? могут ли оказаться лишь слухами разговоры о том, что половина Парижа заминирована на случай поражения?
Не только этот страх, словно кислота, разъедает мне душу: во мне все еще живет страх за Симону. Чтобы я не отдал, лишь бы узнать, куда провалилась этот поросенок Симона.
Ладно. Брось хандрить! – приказываю себе. Мы в Париже, парень! После всего пережитого дерьма, я снова в Париже! Тебе, дружок, не хватает холодного душа, чтобы прийти в себя. В конце концов, не ты же виноват в постигшем ее несчастье.
Останавливаюсь и осматриваюсь. И тут во мне что-то просыпается: смотрю на эту боковую улочку как на глубокий каньон. И буквально проваливаюсь в нее взором: конец ее скрывается в глубокой темноте. Справа – магазинчик. Взгляд останавливается на матовой, вензелем выписанной по бархату надписи: «Boucherie chevaline» и позолоченные лошадиные головы. Отдохнув немного, двигаюсь дальше в направлении следующей станции метро и спускаюсь в подземку. Скоро 11 часов вечера и мне не хочется пропустить последний поезд. Едва лишь очутился внутри, за зеленой колышущейся дверью, останавливаюсь и буквально впитываю в себя царящий здесь дух метрополитена. Его шум его запах. Как никакой другой город могу отличить Париж от по его особому запаху. стоит мне лишь подумать «Париж», и тут же могу как наяву ощутить до тонкостей запах его метро – этот его такой неопределенный, ржаво-горелый запах, что ощущаешь уже на первых ступенях его раскрытого зева, его лестниц и переходов. Запах усиливается в его кротовых ходах-переходах, а полностью проявляется на платформах, в шквалах воздушного потока, гонимого подъезжающим к платформе составом и даже сквозь решетки вентиляционных шахт на тротуарах улиц.
Кровать в номере отеля достаточно велика даже для лежащих поперек нее, камин белого мрамора, много желтой латуни – все, как когда-то при Симоне. Если не изменяет память, то это та самая наша комната.
Голова чуть не лопается от внезапного шквала мыслей: пыталась ли Симона тогда использовать меня? Старательно пытаюсь пропахать свою память, но как ни стараюсь, ничего не получается. Конечно, иногда она вела себя довольно странно. Но это же не доказательство ее двойной игры в пользу наших противников?
Доложу завтра адъютанту о перемене гостиницы и позвоню Старику в Брест. Откладывать больше нельзя! Нужно узнать больше об аресте Симоны. Нам не надо будет много говорить. Старик наверняка знает из Берлина, что я направлен в его флотилию. Если в понедельник, самое позднее во вторник вечером, выеду с вокзала Montparnasse, то в среду буду в Бресте….
Назавтра, появившись в Отделе, само собой направляюсь первым делом к коммутатору. К счастью, сегодня никто не работает. В конторе царит тишина и покой. Набираю номер, и о счастье: Старик у телефона.
Интересуется, где я остановился. Ору во все горло, что застрял в Париже, но в любом случае должен выехать вечером в понедельник или, в крайнем случае, во вторник. И вот Старик касается интересующей меня, довольно щекотливой темы: вся семья Симоны за решеткой. Мать находится в тюрьме в городе Нант. Об отце ничего не известно. Сделано все, чтобы отыскать следы Симоны. В любом случае, он не советует мне предпринимать что-либо в этом направлении.
Слышимость на линии никудышная и с каждой минутой становится все хуже и хуже, но сквозь щелчки, треск и свист долетают его последние слова: «Кто знает что хорошо, а что плохо?»
Конец! Стараюсь показать телефонисту, что у меня все отлично и горячо благодарю его за отличную связь.
Как мог Старик додуматься до такого? Какую рифму мог бы подобрать поэт к его фразе: «Кто знает что хорошо, а что плохо?» Неужели у Симоны в Ла Боле земля под ногами стала гореть? Может, ее земляки подставили ей ножку из-за явных связей с немцами? Может быть, это стало основанием для того, чтобы ей уехать в Брест, словно под крыло флотилии? А может быть, считая, что высадка союзников неизбежна, он подразумевал, что Симоне лучше встретить ее находясь в тюрьме?
Как же мне все это не пришло раньше в голову? «Кто знает что хорошо, а что плохо?» – несмотря на неопределенность этой фразы мне теперь понятен ее скрытый смысл. А в голове буквально рой мыслей.
Все стало еще более запутанным, чем раньше. Ну, а чего другого ожидал я от этого разговора? Может быть, что Старик заявит мне, что они нашли место, где находится Симона? Скорее поезжай туда…
И вдруг до меня доходит, насколько я беспомощен без Старика. Эти несколько слов по телефону звучали несколько иначе, чем простое объяснение того, что случилось. Я же вообще не представляю, кто засадил ее в кутузку в Ла Боле, а кто в Бресте. Люди из СД? Гестаповцы? Военно-морская контрразведка?
Доложив адъютанту о своем переезде в другую гостиницу, пытаюсь договориться с ним о машине. «Прощупать настроение населения, так сказать…» – произношу и тут же запинаюсь, т. к. мои слова звучат довольно нескладно. Хочу пояснить, но замечаю, что этот тупица не заметил фальши моих слов. Наоборот, ему очень даже понравилась моя мысль.
– Вам надо будет играть здесь на совершенно других струнах! – выдает он важным голосом тираду. «Тебе надо бы проветрить мозги!» – думаю свое, глядя как он мелет всю эту чушь. Адъютант буквально раздувается от важности и объявляет: «Именно сейчас машины у нас нет! Все машины проходят техосмотр перед боем!»
Так, в просьбе отказано. Изображаю полное разочарование: «Придется топать на своих двоих» – произношу с фатальной обреченности и прощаюсь обычным воинским манером.
А этот недоносок пафосно добавляет: «Увидимся за обедом!»
Я же хочу теперь просто пойти куда-нибудь. К примеру, на Trocadero, и привести мысли в порядок. Проходя через массивные ворота, замечаю радиорепортера Кресса. Он как раз вышел из машины и разговаривает с водителем.
Ах, ты мой дорогуша! Тебя-то я хотел бы увидеть в самый последний момент. Просто чудо, что ему удалось вырваться с фронта. Кресс наверняка знает, кто арестовал подружек Симоны в Ла Боле, и кто, собственно говоря, засадил ее за решетку. Но было бы непростительной глупостью затевать с ним сейчас этот разговор. Лучше поинтересоваться его успехами.
Незамеченный им выхожу на улицу. На Trocadero усаживаюсь на нагретую солнцем каменную скамью. Крики катающихся на роликах детей и шум их затянутых ремнями ботинок на роликах, словно необыкновенные колокольчики, под звуки которых пытаюсь привести мысли в порядок.
В глубине души надеялся услышать от Старика что-нибудь утешительное, по крайней мере, где находится Симона. Теперь же мой страх за нее лишь усилился. Одно известно мне наверняка: надо лучше скрывать свои заботы и страхи в преддверие встречи с Бисмарком. У него собачья натура: он кусает лишь тогда когда почует твой страх. А значит надо вооружиться полным бесстрашием. Не показывать никаких чувств, лучше всего разыграть из себя этакого яйцеголового, погруженного в свои мысли…
Совершенно не хочу возвращаться в наш дворец, а потому медленно иду дальше., словно погруженный в мечты и грезы жизни. Пару улиц вверх, на север – находится гестапо. Перед зданием на Авеню Foch, 74 стоят часовые в черной форме с серебряными галунами. Здесь и на Rue Saussaies, 9 разместились гестаповцы. Может быть это их руками схвачена Симона? Ну почему я не спросил об этом у Старика? А может просто пойти на авеню Foch, 74 и прямо спросить: «А не ваши ли гестаповцы арестовали Симону?» – вот безумство-то!
Уже полдень: перед Отделом вижу множество машин с номерами вермахта, не замеченных мною ранее в охватившей меня ярости. Значит, народу еще подвалило из разных военных баз. Другие, узнаю от часового, прибудут вечером. Очевидно, намечается грандиозный сабантуй – и все это ради какого-то необычного спектакля.
На втором этаже довольно много народа. Невольно выделяю тех, кто выбился в любимчики в последнее время или благодаря своему подхалимству стал фаворитом у старых задниц – что практически одно и тоже.
К счастью здесь есть и несколько довольно смешных «орлов» и несколько типчиков с соответствующим креном в пояснице; сюда же относится и толстяк Мёртельбауэр. Мёртельбауэр – с его фальцетом и всеми признаками своего операторства. Как и всегда он рассказывает каким-то собутыльникам о том, что в свое время, когда он работал в Африке оператором учебно-просветительских фильмов, ему удалось «поиметь» под душем несколько негритяночек, а после эффектно выдержанной паузы добавляет: «А так как от них здорово воняло, то их всех – через скамейку!» Такого рода рассказами он завоевал кличку «бешеная щука» – ведь в Африке никто из нас не был.
Медленно топает Йордан. С ним мы два года назад долгими месяцами грызли гранит флотской науки. С тех пор я его не видел к своему сожалению, т. к. Йордан хитрющий парень, репортер от Бога и настоящий ренегат, всегда готовый устроить склоку. Однако он делал все так ловко, что никто не мог поймать его за руку. Во всяком случае, ему и здесь удалось заиметь несколько недоброжелателей. У него смешное, слегка заостренное треугольное лицо как у того треугольника, что мы рисовали на уроках математики. А когда Йордан надевает свою фуражку, то выглядит как настоящая провокация, как плевок на военную культуру и дисциплину. Он так намозолил этим глаза Бисмарку, что попал в приказ, которым ему было предписано носить фуражку с ремешком под подбородком. Йордану пришлось подчиниться, но так он выглядел совершенно возмутительно, словно какой-то тупой трамвайный вагоновожатый. В конце концов, Бисмарк был очень доволен, когда Йордан водрузил ремешок фуражки на место.
Перед обедом в кают-компании подхожу к Йордану и спрашиваю его о том, что давно хотел узнать: о его работе на гражданке.
В ответ узнаю, что теперь он репортер новостей «но больше для колонки «Нам пишут…»». Пишут много.
Смотрю на него непонимающим взглядом, и Йордан поясняет: «Это происходит так: называешь никому неизвестную деревушку, затем улицу в ней. Улицу под известным названием. В конце-концов из плана какого-нибудь города. Затем описываешь имеющийся там же пруд. Например, называю городок Меппель, голландский городишко, там помещаю собак, из них выбираю большую собаку – скажем, боксера, и описываю, как он прыгнул в пруд, а там укусил огромную щуку. Боксер выбирается живой и невредимый, и его владелец радуется тому, что щука не вцепилась боксеру в бок. Если нравится, то я продолжаю в том же духе. Я очень люблю собак. Они большие и маленькие всегда выпутаются.» – «Ради Бога, не надо!» – умоляю его.
Но Йордан уже закусил удила: «А иногда как запустишь что-то такое, к примеру: «В ночь на четверг, в гостинице в центре Лондона …»», а дальше как по маслу. Прыгает кто-то с крыши этого отеля, с зонтиком представляя из себя – проклятые британцы! – парашютиста и прыгает на стеклянную крышу террасы, где проходила вечеринка в честь очередной победы. Ничего, как считаешь? Человек этот может погибнуть или нет, это мне решать!» – «Я бы здесь добавил: никакой жалости к британцам!» – выпаливаю быстро. «Верно! Но совсем не жалости: Если он к примеру упав поранит себе …» – «Задницу?» – предлагаю свой вариант. «Задницу? Пойдет! Хотя задница звучит осуждающе. Но пойдет! Так сказать прямо в яблочко!»
Никогда раньше не слышал, чтобы Йордан так говорил. Йордан объяснил, что он был и есть «курьер при службе связи». Поэтому у него есть служебный мотоцикл, на котором он и мотается по городу. В этой профессии неизбежно теряются отдельные изъяны связанной с ней работы. Новости о «голубых» юнцах не производят на него впечатления: «Осиное гнездо в жерле пушки», «кошка знает, чье мясо съела», «женоподобные тройки ловят матросиков» и «кильки в банке»
Несмотря на все реалии, он все же немного чокнутый. В нем нет военной косточки. Должно быть, он чувствует себя совершенно свободно и в тоже время довольно изысканно.
Но с чего бы это Йордан вдруг такой разговорчивый? Нашел ли он во мне родственную душу?
– Понедельник – это довольно неподходящий день для таких торжеств! – меняю тему.
– Такой же хороший, насколько и плохой. Как и любой другой день, – возражает Йордан.
– Но думаю, суббота или воскресенье больше подходят такого рода мероприятиям.
– А откуда взялась бы вся эта публика? Все эти генералы и адмиралы собрались сюда, черт его знает, откуда – не только из Парижа. – Внезапно Йордан меняет тон, и, словно бы глубоко доверяя мне, шепчет: – Так плохо как сейчас, мне еще никогда не было. несколько лет я был настоящим зарубежным корреспондентом.
– Где же? – В Лондоне. – У злых врагов? – Ну, конечно же. Пока не отозвали. – Пока в грязи не вывалили? – Можно и так сказать.
После обеда Йордан показывает мне глазами, что надо бы выйти. Из разговора узнаю, что «шеф» по воскресеньям охотится на козлов. Две недели назад открылась охота на козлов, и теперь он ни о чем другом не думает.
– Надеюсь, ему удалось добыть хоть одного, иначе нам придется хлебать все дерьмо из его параши, – произносит Йордан и, помолчав, добавляет: – Охота длится до ноября. Изысканное общество. Высшие офицеры. Избиение младенцев – или как еще назвать действия этих придурков. Боеприпасы оплачивает Великий Рейх, а сияющие отвагой фотопортреты мы размещаем в здании: в предписанном количестве и размерах.
Не хочет ли Йордан, начав этот разговор, выманить меня из моей раковины? Честен ли он? Оригинал Йордан. А может быть всего лишь один из тех, кто по-своему чудаковат и лишь маскируется – также как и я?
Узнаю от него еще кое-что: этот старый профессионал в подаче новостей, влюбленный до безумия в мотоциклы, старался заполучить мотоцикл БМВ 500. «Во-первых, мотоциклу надо меньше бензина, во-вторых, везде можно проехать» – таковы его аргументы в споре о мотоциклах. На мотоцикле он более независим, чем на автомобиле – поясняет Йордан. Ему не надо водитель, не надо ни о ком заботиться.
Появляется адъютант, и Йордан мгновенно подмигивает мне. Когда мы вновь одни, он интересуется, нет ли у меня желания махнуть на веселенькую прогулку куда-нибудь.
– Если только в отель, – отвечаю.
– В отель? – Я живу в городе. – Чего это вдруг?
– Бурлящая от эмоций наша гостиница совсем не в моем вкусе!
– Тише, тише! А где же этот твой чудесный отель? – Прямо на Авеню de l’Opera.
Йордан удивленно зацокал языком: – Ну, ты даешь!
Мотоцикл издает ровный сочный звучный тон. Тем не менее, замечаю, что не совсем доволен этой поездкой: постоянно приходится придерживать левой рукой фуражку, а правой крепко держаться за бугель седла. Ноги при этом нелепо растопырены.
Йордан делает круг: мы с шумом несемся вниз по Champs-Elysees, и через Rond Point к Place de la Concorde, и я ловлю себя на мысли: несмотря ни на что – чудная поездка! Йордан делает крюк, минуя Obelisk и снова минуя Arc de Triomphe, небольшой подъем. Потом мы описываем большой круг вокруг Arc de Triomphe и как только выворачиваем на широкую улицу, Йордан едет уже как следует.
В этой второй поездке чувствую себя получше и даже отпускаю бугель седла. Не могу разговаривать с Йорданом, а когда убираю руку от фуражки, она в ту же секунду улетает прочь. Нет никакой возможности разглядеть хоть что-нибудь. Невыносимо воняет выхлопными газами, хотя машин не так уж и много.
На этот раз Йордан направляется на Place de la Concorde, оставляя слева Морское министерство, минует Rue Royale на Madeleine и прибавляет газу по дороге к Опере. Снова сбрасывает газ, поворачивает направо и опять прибавляет газу. У моего отеля описывает поворот под острым углом и мягко тормозит перед центральным подъездом.
– Ну? – интересуется Йордан так выжидательно, словно это он изобрел мотоцикл.
– Тебе не удалось меня сбросить! – отвечаю резко.
– А, ну это вопрос привычки!
– Возможно, – уступаю его нажиму, – мое восприятие несколько замедленно. Я даже не заметил, растут ли в сквере у Rond Point тюльпаны или нет…
– Тюльпаны там растут, – парирует Йордан, – красные и желтые.
Йордан ошарашен тем, как роскошно я устроился.
– Каждому свое, – язвительно отвечаю, – Suum cuique, как говорят латиняне. Нельзя же в том борделе жить.
– А прямо за домом иметь первоклассный бордель Chabanais…
– Так точно-с! Только и могу вымолвить.
– Прошвырнемся куда-нибудь вечерком? – спрашивает Йордан.
– Отличная мысль. Когда?
– Ну, скажем в 8 у кают-компании.
– Тогда мы там сможем заодно и перекусить.
– Ладно. Но свой БМВ я лучше оставлю в Отделе. Приеду на метро, – и с этими словами Йордан испаряется. Успеваю заметить его опасный поворот под острым углом – ну, циркач!
Какое-то время топчусь по огромному номеру и ощущаю горячее желание сбросить с тела эту опостылевшую форму. В своей гражданской одежде ощущаю себя французом среди французов.
Меня опять тянет на улицу. Если повезет, то посещу сразу с десяток знакомых мест. Сначала пойду к зданию Оперы, затем или в направлении Madeleine или, что еще лучше по широким бульварам в направлении Porte Saint-Denis. Значит, решено: по бульвару des Italiens, затем по бульварам Montmartre, Poissonniere, Bonne Nouvelle, Saint-Denis – и может быть еще дальше по бульвару Saint Martin до Place de la Republique. А оттуда уже рукой подать до Canal Saint Martin.
Нужно смотреть на все очень внимательно, если хочу увидеть признаки оккупации: к примеру, на рекламных щитах написано слово Musik, а не Musique. На открытых платформах омнибусов установлены емкости с горючим. В витринах магазинов Charcuterie и Produits Laitiers стоят лиственные растения – и ничего больше. Жители уже привыкли к развивающимся на всех официальных зданиях и конфискованных у французов отелях флагам со свастикой. Полно везде и плакатов правительства Виши, они наклеены на дощатые стенды. Но никто уже на них не обращает внимания.
В ушах звенят рифмы детства, заученные в школе, когда Блюхер был на очереди:
– Где Париж?
– Он перед нами!
Палец вниз
И он под нами!
– А в самом ли деле мы захватили Париж? Кто же здесь победитель? Эти пехотинцы, в кованых сапожищах и брюках с оттопыренными карманами и ушитых мундирах? Или парижане? Все эти кошечки и зайчики, наивные девчушки в туго обтягивающих маленькие попки сатиновых платьицах, испытанные в боях подруги?
Все время поражаюсь тому, как французы воспринимают оккупацию: ежедневно по Champs-Elysees топают сапоги охранных рот и немцы делают все, чтобы своей формой и флагами со свастикой подчеркнуть свое присутствие в городе. В действительности же они просто приукрашивают свое положение. Едва ли это исходит из враждебного настроения к немцам. Но люди насторожены. За все время, я это точно знаю, был застрелен только один немецкий солдат, а именно 21 августа 1941 года на станции метро Barbes. Странно, но я помню его имя – Мозер – австриец или эльзасец.
Прерываю прогулку, чтобы почитать плакаты на тумбе для объявлений. Фактически все театры действуют. Есть даже премьеры: «Шелковая туфелька» Пауля Клауделя и «Мухи» Сартра. Балет Сержа Лифара. В Chez Elle поет Люсьен Бойер. Сьюзи Солидор и Саша Гвитри на афишах тоже. Имеются даже плакаты мюзик-холлов: Folies-Bergeres, Casino de Paris, Tabarin – и в Лидо тоже каждый вечер поднимается занавес. В Moulin Rouge выступает Ив Монтан и Эдит Пиаф. И лишь кинотеатры, за исключением кинотеатров для солдат, закрыты.
Вот навстречу мне движется тандем: мужчина и женщина в одинаковых свитерах крутят педали. За велосипедом катится двухколесная коляска. В коляске сидят, тесно прижавшись два унтер-офицера Люфтваффе. С удовольствием вышвырнул бы их из этой коляски, но ничего не поделаешь! Возможно, для этих двух велосипедистов это единственная возможность заработать деньги. И все-таки ярость кипит во мне: французы в роли рикш! До чего мы докатились!
Впервые не могу справиться с охватившей меня яростью от плаката на высокой ограде: «OUVRIERS FRANeAIS ET ALLEMANDSe UNISSEZ-VOUS!». На плакате: какой-то парень в берете, стоит, крепко обнявшись с блондинкой. Позади них, словно восходящее солнце, раскинулся ломаный крест свастики. Доподлинно известно, что огромное количество молодых французов угнаны в Германию на каторжные работы.
Уличное движение резко уменьшилось: только велосипедисты да лошадиные упряжки; и кроме автомобилей с номерами вермахта лишь несколько громыхающих, работающих на дровах колымаг, да прелюбопытные гибриды автомобилей с лошадиными повозками: задние половины разрезанных пополам автомобилей, снабженные оглоблями, на двух колесах, словно одноконные экипажи.
На бульваре Des Italiens воздвигли несколько тиров: в одних можно прямо ввиду здания Оперы пострелять из пистолетов и ружей по маленьким, скорее, крошечным закрепленным на ниточках целлулоидным шарикам или по глиняным трубкам, крутящимся на свисающих с потолка приспособлениях. В других нет ничего кроме измятых пустых консервных банок сложенных в пирамиду, а посетителю предлагают пару мячей, которыми и надо сбросить со стойки всю пирамиду. Стихийные сборища стрелков радуются каждому успешному броску: бушующий грохот летящих на пол жестянок – это единственный слышимый и видимый успех победы – и гораздо лучший, нежели крошечная дырочка от свинцовой пульки в бумажной фигурке.
Между тирами расположились киоски и открытые прилавки. На многих какие-то инструменты, железки и плакат: «Каждый должен стать жестянщиком!» (Или по аналогии – слесарем, электриком и т. д.), в тени деревьев раскинулась целая улица лавчонок и киосков. Промеж них шляются грязные мальчишки и выводят из себя окружающих вызывающими манерами.
Погода изменилась: небо провисло низкими облаками. Воздух тяжел и неподвижен.
Вдруг раздаются звуки сирен. Воздушная тревога! Вой сирен для меня нов в Париже. Словно пес задираю нос в небо и принюхиваюсь. Где-то в облаках слышится гудение самолетов. Доносятся выстрелы зениток. Зенитные снаряды взрываются где-то за облаками: ничего не видно.
Парижу кажется все нипочем. Он не знал ни одной бомбардировки кроме той, в апреле 1943 в Billoncourt. Единственный налет с минимумом самолетов – и 403 убитых и 446 раненых, почти все, гулявшие тем воскресным днем люди, укрывшиеся от налета на станции метро. Бомбы упали прямо на эту станцию.
Кажется, парижане забыли тот налет. Прохожие продолжают бродить без дела по улице – ни у кого нет страха перед бомбежкой. Царит великое искусство всеобщего наплевательства на возможную опасность. Лишь пара трусишек спешит в направлении расположенной неподалеку станции метро. Полицейские останавливают велосипедистов, которыми кажется, кишит улица. Происходит короткий разговор, велосипедист проходит пешком несколько метров, катя в руках велосипед, а затем вспрыгивает в седло и мчит дальше. On s’en fiche …
В офицерской столовой в Faubourg Saint-Honore, которую Йордан предложил в качестве места встречи, я еще никогда не бывал. Пока Йордана нет – осматриваюсь и поражаюсь увиденному: стою в середине настоящего собрания из высших чинов советников различных ведомств и служб: от юристов до медиков. Которые словно в шутку напялили на себя все эти блестящие погоны: павлинья стая Парижа. Перед сверкающими на их плечах плетенками погон хочется превратиться в мышку, но, успокаивая себя, решаю представить их всех, в чем мать родила: вот была бы умора!








