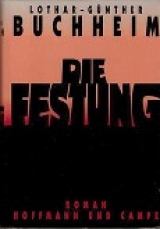
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 74 (всего у книги 111 страниц)
Снова слышен шум – но как бы для предупреждения: На этот раз взрыв прозвучал гораздо глуше, чем все прежние.
Командир втягивает воздух ноздрями. Должно ли это стать сигналом того, что мы можем вздохнуть? – Вздохнуть? Это слово звучит напоминанием о чистом воздухе. Воздух на лодке довольно спертый.
Наверное, и сжатого воздуха тоже стало мало. Так как промежутки времени, которые отмерили нам Томми для откачки, были слишком коротки, чтобы позволять насосам работать достаточно долго. Только короткими промежутками, но часто. Более часто инжмех, конечно, не мог себе этого позволить: Слишком ценный на глубине сжатый воздух.
«Взять измором» – такой terminus technicus для процесса, который противник хочет, по всей видимости, применить к нам: Лодку держат так долго под водой, пока либо ток в аккумуляторах, либо сжатый воздух и кислород не закончатся. Или все вместе и сразу. «Измор», это, конечно, лишь чертово понятие для всего процесса: Здесь от голода никто не страдает. Хотел бы я увидеть того, кто теперь потребовал бы себе жрачку.
Опять идем ходом «подкрадывания». Самый малый ход. И никакого шума.
Черт изобрел эту передачу звука в воде. Однако, будучи ребенком, я иначе смотрел на это. Мы из этого делали наши шалости. Что это был за сильный шум, когда мы, в ванне, держали голову погруженной в воду, а снаружи по ванне кто-нибудь стучал. Даже капли из водопроводного крана звучали тогда как удары молотка. А когда вливали порцию новой воды? Это было так, будто Ниагарский водопад падал в ванну.
Я даже как-то подсчитал: Под водой звук стука в 5 раз более силен чем в воздухе.
Все еще ничего?
Мое чувство времени улетучивается. Не имею никакого представления о том, как долго уже продолжается это молчание.
Еще пауза?
Мой скелет никогда ранее не был мне так заметен как теперь: Это проявляется в том, что кости как будто соревнуются с мышцами в развитии боли.
Отчаяние охватывает меня при мысли, что если бы все, что израсходовано Создателем неба и земли на строительство моего тела, ушло здесь и сейчас в небытие: Эти трапециевидные мышцы моей спины, двуглавые мышцы и мускулы…
Я изучал пластическую анатомию. Не то, что я могу назвать все кости и все мышцы, но в грубых чертах я совершенно хорошо умею отображать их на картине, и если подниму сейчас правую руку ко лбу, то представляю, что в ней происходит.
Что же касается костей, то на этой подлодке сейчас собраны: 100 позвоночников с 2400 позвонками, 100 крестцами и 100 копчиками. Сотня черепов, каждый из 33 костей – дает в сумме 3300 костей черепа. 200 ключиц, 200 лопаток, 1000 пястных костей, 2800 костей пальцев. В целом около 20000 костей – целая гора, если представить себе их лежащих в одной куче.
На костях висят мышцы: активный и пассивный аппарат движения. Мышц даже еще больше: в целом добрых 60000 коротких, длинных и широких мышц. И каждая отдельная из них может болеть: 60000 различных болей!
Мышцы плохо переносят соленую воду. Сначала при замачивании, пожалуй, возникнет вид солонины, которая вскоре испортиться, потому что слишком долгое вымачивание приведет к распаду тканей. Сначала вздуются животы, если прочный корпус подлодки упадет так на дно, что не возникнет пробоин. Иначе напор воды будет сильнее, чем давление газов в кишках. А затем разрыв тел…
У меня появилось такое ощущение, что с моими ушами не все в порядке. Может у меня нарушение слуха? Или просто, в самом деле, все еще ничего не слышно? Ничего кроме зуммера электродвигателей? Может ли быть так, что господа смотались со службы? Просто, как говорила бабушка Хедвига, «ни с того ни с сего»?
Акустик сидит, свесив голову, как будто полностью уйдя в себя. Но внезапно поднимает голову, лицо стягивается, как будто у него что-то заболело, и он закрывает глаза. Еле-еле – будто с крайней осторожностью – он поворачивает теперь ручку настройки своего прибора. Наконец, задерживает ее, открывает глаза и докладывает:
– По пеленгу 60 градусов слабый шум винтов.
При этом его голос звучит слегка возбуждено.
Командир пробивается через проход ко мне. Быстро уступаю место: Он хочет пройти к акустику. А тот уже взял наушники и подает их командиру, который берет и прикладывает один динамик наушника к уху. Акустик слушает другим динамиком. Внезапно командир вздрагивает и втягивает губы. Затем слышу его шепот:
– Какой теперь пеленг?
Акустик сразу отвечает:
– По пеленгу 70 – цель ушла в корму.
Господи! Неужели снова начнется?
Командир поднимается и движется обратно. Обеими руками держится за стенки прохода, чтобы не спотыкаться. Я снова освобождаю место, чтобы он смог пройти в центральный пост.
– На румбе? – спрашивает он теперь более твердым голосом.
– На румбе 230 градусов!
– Держать 220 градусов, – приказывает командир. И вскоре после этого: – Одерживать! На румбе?
– На румбе 170 градусов…
– Держать 160 градусов!
Одновременно командир снова занимает место у шахты перископа.
Если бы только не этот чертов шум на лодке! Уже привычный звук наших моторов действует мне на нервы. Думаю, их шум можно услышать за несколько миль. Даже при самом малом ходе они издают проникающее повсюду пение. Вся лодка резонирует как барабан, хотя эхо должно было бы глохнуть в битком набитом пространстве. Следовало бы обложить ватой эти электромоторы. Засранцам серебрянопогонникам следовало бы изобрести что-нибудь от этих наполняющих все пространство пронизывающих звуков зуммера и пения. Но господа только пили в течение долгих лет и проебывали выделенные на модернизацию лодок деньги, вместо того, чтобы заботиться о незавидном положении экипажей, и позволили обрушить все то, что могло бы помочь.
Моторы останавливаются? Если бы все было так просто! Теперь требуется действовать рулями. Есть, правда, один фокус, но он годен только для небольших глубин: Там можно «подвесить» лодку на ее перископе. Тем не менее, этот фокус нам не годится. Он работает только при полном штиле и очень хорошо дифферентованной лодке. У нас же нет ни того ни другого. И, кроме того, мы не можем выдвинуть нашу «спаржу» и использовать ее как вертикальный балансир, так как враг дышит нам в затылок.
Близкий взрыв и сразу же еще один! Дождались!
Долбанное дребезжание дисков настила! Ну, ведь есть же резиновые прокладки на складах! Почему их не проложили? На самые простые вещи нет ума у этих серебряных павлинов. До сих пор господа не имели никакой возможности послушать терзающее нервы дребезжание и постукивание. Теперь, однако, пусть наслаждаются в полной мере! Счастье еще только, что противники не могут использовать себе во благо это дребезжание: Плитки настила постукивают и дребезжат точно в моменты взрывов.
Мой блуждающий взгляд привлек дорожный чемодан, который не знаю почему, стоит точно посреди в центральном посту. Такую картину я не смог бы представить себе даже в буйной фантазии. Выглядит так, словно в бомбоубежище на вокзале в Берлине. Но что это? Чемодан танцует. Он скачет туда-сюда, а затем делает свечку. Во мне поднимается истерический хохот.
Бомбоубежище? No, Sir: Мы скорее сидим в скором поезде, разогнанный сумасшедшим машинистом и который в безумном темпе несется по рельсам прыгая на стрелках!
Нервный чемодан успокоился. Шум снаружи тоже. Пауза? Снова отсрочка?
Опа! Новый двойной взрыв! Лодка прыгает как лошадь, которую стегнули кнутом. Затем снова рыскает вбок. Но я уже готов к этому. Я даже не вздрогнул.
– Дублет! – говорит кто-то.
Глубинная бомба опускается в секунду на 3 метра – если так, то, что же это было? Чтобы достичь глубины взрыва в 60 метров – наша глубина погружения теперь – ей требуется 20 секунд. Акустик, который может использовать шлепок бомбы в своем приборе, мог бы сосчитать секунды вплоть до взрыва и вычислить, таким образом, ее установочную глубину. Мог – но какого черта не сделал это?
Я уже несколько раз спрашиваю себя: Неужели этот акустик, который, так сказать, получает акустические эффекты, сообщает данные лучше, чем другие? Или он постоянно отвлекается? Требуется всего 20 секунд или чуть дольше подождать до взрывов, которые должны достичь его прибора точно в установленное время, как аминь в церкви – или он постоянно получает щелчок взрыва как неожиданный удар?
Командир держит глаза закрытыми. Выглядит как полная безучастность. Но, все же, он должен приказать делать что-то! Сейчас! Немедленно!
Никакого пеленга… Если корабли наверху не производят шума своими двигателями и винтами, то наша единственная выдвинутая наружу приемная аппаратура, наш гидролокатор, становится бесполезным: Мы не получаем никаких сведений, где находятся корабли противника.
Но вот снова наплывают шумы! Их можно слышать даже невооруженным ухом.
– Проклятье! Тихо! – шепчет внезапно резко командир: Один из рулевых тяжело пыхтит, пытаясь отдышаться.
Что дальше?
Наконец командир делает движение. Теперь у него хотя бы открыты глаза. Он обводит вокруг взглядом, как будто хочет пересчитать нас. Затем устремляет его в направлении акустика. Но тот не чувствует его. Он не двигается.
Лейтенант-инженер выдвинул голову далеко вперед. Похоже на то, словно он вцепился взглядом в свои манометры. Я тоже пристально смотрю, широко открыв глаза на круговые шкалы – настолько напряженно, как будто могу ему помочь этим: Словно собака на поводке! Было бы смешно, если бы не было грустно!
Но что случилось теперь? Стрелка на большом манометре передвигается в обратном направлении, лодка поднимается.
– Принять главный балласт! – приказывает лейтенант-инженер и спустя несколько секунд: – Стоп!
Не может же все быть настолько просто…
Наконец командир отдает приказ. Он приказывает малым ходом опуститься на 80 метров. Поможет ли это? Сколько глубины у нас, собственно говоря, под килем?
Акустик должен взять еще несколько пеленгов. Я вижу это в том, как он, в определенных местах, вертит туда-сюда колесико поиска. Но почему ничего не докладывает?
Кладбищенская тишина. Requiescat в pace!
Из кормовой части централи долетает заговорщицкий шепот, но ни одного громкого звука.
Люди вокруг меня, от явного старания услышать хоть какие-то звуки снаружи, стоят с напряженным ожиданием. Рты открыты. Музей восковых фигур. В Париже есть довольно известный паноптикум – как же он называется в Париже? Спрашиваю себя снова и снова, но не могу вспомнить название. То, что я не нахожу его в моей памяти, делает меня совершенно сумасшедшим. Принуждаю себя опять сконцентрироваться на внимательном слушании шумов за бортом.
– Все же, они должны, наконец, положить этому конец, – доносится до меня чье-то глухое бормотание. Что он имеет в виду, говоря такое? Покончить с нами? Покончить одним ударом?
И тут раздаются глухие взрывы – глухие, как удары по слабо натянутой коже литавр: сначала три, а затем четыре друг за другом.
Затем снова наступает тишина.
Внезапно в голове звучит заученное когда-то стихотворение:
«Дед мой заядлым охотником был,
Оленя матёрого он завалил;
Шкура оленья толста и крепка,
Пошьётся полезная вещь на века!»
Я часто прибегал к моему запасу баллад, когда дела шли довольно коряво. Я даже знал старого Berries von Menchhausen, «Нестора немецких поэтов-балладников». Что значит – знал? Он пригласил меня в Windischleuba, «Замок в лугах», и я закатил туда на велосипеде из Хемница.
Хорошо, что могу теперь вспоминать те дни: Они были прекрасны: так сказать, есть что вспомнить. Трава стояла в метр высотой, а я сидел, рисуя, между усыпанными семенами стебельками. Как вокруг меня тогда все гудело и жужжало! А взгляд привлекал вид, где фронтон замка эпохи Возрождения плыл как тяжелый корабль в море из бушующей травы.
Команда: «Распор», вырывает меня из моих мыслей, и я вскакиваю встревоженный им. «Распор» звучит отвратительно. В Гибралтаре мы тоже имели дело с распорами и пластырями. Тогда я мог только удивляться тому, что у нас был запас крепких квадратных балок на борту – и пилы, которыми их начали быстро распиливать. Только с распорами и пластырями, которые ставились как опорные стойки в шахте, можно было стать хозяином положения и предотвратить вторжение забортной воды.
Но я ничего не слышал о том, что у нас была пробоина и угрожающее вторжение воды. К чему тогда распор?
Узнаю от первого помощника:
– Дизель надо подпереть. Похоже, там вывернуло анкерный болт.
– Это верное решение, – отвечаю, и стыжусь своих слов: Какой же я бесчувственный!
Снова три бомбы! Ближе? Дальше? Хотел бы я это знать! Но я не слышу пощелкиваний Asdic. Новый способ? Меня не удивило бы, если бы этот сброд опять придумал бы что-то новенькое.
Командир отдает команду рулевым. Не шепотом, а обычным голосом. Это настораживает меня. А теперь еще приказ и мотористам. Не могу никак принять то, что все приказы он отдает необычно громким командным голосом, и это раздражает меня.
С силой зажмуриваю глаза, но жужжание и вибрация во мне не хотят ослабевать. Мой мозг воспринимает их как высокочастотный звон – словно исходящий от винта корабля крутящегося без воды. Долго так больше не может продолжаться.
И в этот момент раздается такой резкий и громкий звук взрыва, что плиты настила начинают снова дребезжать. Еще один – и тут же еще два – три, четыре… сколько же бомб было сброшено в целом? Оберштурман не дает мне увидеть свою рабочую таблицу. Он закрывает ее телом как картежник, не желающий позволить подсмотреть себе в карты.
Не получается ускользнуть от этих парней! Из этого окружения никто не выскочит. Они имеют нас по полной программе и, конечно, в плотном кольце, и судя по всему, вовсе не новички в таком деле.
У командира такой сосредоточенный вид, словно он решает сложную головоломку. По лицу то и дело пробегают новые гримасы. Он, кажется, пришел к какому-то решению, но что он смог придумать?
Просто чудо то, как спокойно сидят сейчас серебрянопогонники. Вот двое, которые совершенно ушли в себя и сжали руками головы. Ничего больше не видеть, ничего больше не слышать… Уйти в прострацию глухоты и слепоты! Оба уже, наверное, распрощались с жизнью – и большинство других серебрянок тоже. Благоразумие – лучшая черта храбрости…
* * *
Унтер-офицер торпедный механик хочет, как нарочно, именно сейчас пройти в корму. Он делает мне жесты, которые должны означать, что ему нужны инструменты. В носовом отсеке, очевидно, тоже имеются повреждения. Я вынужден покинуть свое место внутренне кляня все: к черту такое транзитное сообщение! Акустик делает новые доклады. Прикидываю курс: собственный курс лодки, курс противника – но цифры, которые я слышу, остаются для меня абстрактными, я никак не могу преобразовать их в картины, так как мои мысли уносят меня прочь: Старик в Бресте – что он сейчас делает? Вероятно, еще дрыхнет. Когда-нибудь он все-таки должен выдрыхнуться, несмотря на американскую артиллерию. Вот бы удивился, увидев в каком дерьме мы оказались! А все те люди, которые лежат сейчас совершенно беззаботно в кроватях у себя дома… В нейтральной Швейцарии, например. Ни один из этих спящих даже не может представить себе наше жалкое положение…. А где, интересно, может сейчас торчать сам господин гросс-адмирал? Наверно «скучает» в штаб-квартире Фюрера в Wolfsschanze и целует в зад своего досточтимого Фюрера. Но какое мне теперь дело до этого жополиза в звании гросс-адмирала!
Глубина?
50 метров?
Разве мы не были только что на 80 метрах?
А возможно ли с глубины в 50 метров выйти из лодки с ИСП? 50 метров довольно много. При 40 метрах это может и получится. Я никогда не упражнялся в выходе на глубине. Серебряники уж точно нет. И сразу с 50 метров? Чистое безумие! Чепуха: Для серебряников на борту совсем нет ИСП.
Все новые мысли налетают на меня как стая птиц, хочу я этого или нет.
Экипажи подлодок, размышляю, можно было бы набирать из школ для слепых. Слепые могли бы легко научиться всем необходимым здесь приемам. Конечно, они не смогли бы прочесть значения манометров, но их можно было бы сообщать голосом. Можно было бы сделать все осязаемым: показания аксиометра, компасный курс…
Закрываю глаза, чтобы стереть картины, возникающие в моем воспаленном мозге. Если веки мне не помогут, то смогу завязать глаза лентой – Бог свидетель! Но тут веки снова
приходят в движение, и приходится останавливать их покачиванием головы.
С кормы поступают доклады о работе вспомогательного насоса. Вот, пожалуйста! Мы делаем прогресс! Однако теперь меня интересуют совершенно другие вещи, чем вспомогательные насосы. Например, доклады по пеленгу. Но их нет!
Вопрошающе лица.
Ничего!
Курс остается прежним.
Вахтенный инженер у поста управления горизонтальными рулями стоит спиной ко мне. Но когда он то отворачивается, то поворачивается к командиру, мне видно его лицо: Оно выражает собой лишь вопрошающее внимание и более ничего.
Второго помощника я тоже вижу лишь в полупрофиль. А первый помощник стоит далеко в корме, почти невидим мне в полутьме. Что за странная привычка у него вечно прятаться по углам, вместо того, чтобы стоять рядом с командиром, как это следует?
Командир снова присел. Он сидит неподвижно, как будто вслушивается не в то, что происходит за бортом, а глубоко в себя. Плечи опущены, руки, повернутые ладонями вверх, безвольно лежат на коленях. Лицо напоминает детский штриховой рисунок: глаза – две короткие, резко прочерченные черты, рот – черная буква «О». Над глазами черточки двух темных
крючков: высоко поднятые брови. Как долго еще этот человек сможет выдержать выпавшие на нашу долю пытки? Меня не удивило бы, если бы он внезапно опрокинулся на спину и забился в истерике на плитках настила.
А что произошло бы потом? Первый помощник, определенно, слишком неопытен и слишком необучен, чтобы суметь заменить командира. Никакого авторитета. Так сопротивляться серебрянопогонникам, как командир, этого он себе никогда бы в жизни не позволил. Остается надеяться только на то, что остальные офицеры лодки настолько слаженно и грамотно будут работать, что, в крайнем случае, обойдутся и без него.
Раньше я уже неоднократно слышал: То, что требуется подлодке, это: хороший обер-штурман, хороший централмаат и хороший старший машинист. Как гласит пословица: Коль в доме есть топор, то плотник ни к чему…
Вероятно, серебряники были не так уж и неправы: Может быть, нам следовало сдаться на милость Томми. Стать лесорубами в Канаде – совсем не такой плохой жребий. Во всяком случае, чертовски лучше, чем сдохнуть на глубине от удушья здесь, перед Крепостью Бреста.
Смотрю на групповую фотографию, присланную мне Кречмером из кемпинга: Все в одной лодке. Откуда они только достали свои синие одежки? В этой синей форме никто из них не смог бы ловить рыбу в ручье. Смотрю на фотографию, где наискось, чернилами, рукой Кречмера, написано: «И даже если задница сбросит все морщины, мы, все же ей назло будем пожилыми».
Странно: молчаливый Отто вовсе не выглядел соответствующим такому тяжелому изречению.
Время от времени голова централмаата тоже попадает в поле моего зрения. Застывшее в вопрошающем выражении лицо серьезно. Этот, судя по всему, надежный парень – хороший специалист.
Мои жевательные мышцы расслабляются и затвердевают, затем вновь расслабляются: скулы уже буквально болят в жестком прикусе.
Почему опять никто больше не двигается? Мы, все же, не можем вечно изображать из себя анатомический музей, паноптикум.
– Все имеет конец, – слышу, как вахтенный центрального поста взывает к мужеству какого-то серебряника. И тут же из полутьмы доносится протяжный голос:
– Лишь колбаса имеет два-а…
Звучит довольно нагло. Меня пронзает чувство умиления: Отличные парни! Просто великолепные парни! У меня настолько истощены нервы, что мог бы зареветь белугой уже только из-за этих наглых слов.
Осторожно двигаюсь и чувствую, как кровь начинает циркулировать в моих членах, но все еще не решаюсь протереть глаза – и уж вовсе не готов притопнуть ногами или помахать руками, чтобы убрать судорогу в мышцах. Я даже рискую аккуратно приподнять грудную клетку и наполнить легкие глубоким дыханием: один, два, три раза. Затем свешиваю руки, верчу головой, позволяя взгляду бесцельно блуждать вокруг. Я все еще здесь – живой и невредимый.
Командир приказывает уйти на шестьдесят метров. Все это время он держит голову повернутой в направлении поста гидроакустика. Но как ни интенсивно тот работает ручкой настройки своего приемника, обыскивая акустический горизонт, больше ничего не сообщает.
Это непонятно…
Медленно, насколько возможно тише, уйти, имея минимум две мили дистанции между нами и противником – вот было бы то, что нужно! Если бы затем эти суки захотели сбросить еще бомбы, им пришлось бы пробомбить довольно большую площадь, а мы получили бы возможность узнать, с какого направления они подходят, и где могут попытаться забить нам еще один пистон в задницу.
Чистая теория!
Знаю, знаю! Но вот чего я не знаю, так это того, что должно означать все происходящее сейчас. Хотят нас одурачить? Хотят нас, в конце концов, все же околпачить?
Если бы командир, вместо того чтобы покусывать нижнюю губу, издал хоть бы звук! В виде исключения хотя бы один. Но нет! Никакого общения ни с помощниками, ни с оберштурманом! Все стоят вокруг как соляные столбы и смотрят в разных направлениях.
Пока еще не могу пройти по лодке и представить себе всю картину нанесенных лодке
повреждений. Мы все еще находимся «under the gun». Доклады из отсеков поступают совсем неутешительные: Некоторые банки аккумуляторов испорчены, эхолот накрылся медным тазом… Радиорубка тоже гавкнулась…. Здесь в центральном посту все тоже в полном беспорядке: провода, осколки стекла…
Командир уже на ногах, стоит вплотную ко мне, слегка согнувшись, правда. Опять, наверное, страдает. Поворачивается к мотористу, пытающегося как раз в этот момент протиснуться мимо него, чтобы попасть в корму.
– Спросите кока, есть ли у него огурцы или кислая капуста или что-нибудь в этом роде: немножко кислого не помешало бы.
Сказав это, валится как мешок на угол черной банки рулевых.
Вот и славно! Это даже немного смахивает на Старика.
В следующий момент инжмех спрашивает командира, может ли он продолжить откачку воды, и слышится ответ такой опять мучительно медленный, что вызывает у меня испуг.
Должно быть это расщелины побережья, что спасли нас. Мы находимся в глубокой воде. Честь и хвала Господу спасшему нас! Наконец-то командир может взять в расчет третье измерение.
Но мысли уже снова заставляют кипеть мои мозги, мысли, которые лучше выкинуть из головы: третье измерение – лечь на дно, не иметь никакого шанса снова всплыть, и постепенно погибнуть от недостатка кислорода. То, что это продолжается уже довольно долго, ясно в любом случае. Вероятно, люди-змеи сумели бы найти в каких-нибудь уголках самые последние кубические сантиметры воздуха, но потом и эти сантиметры растают…
Нет, так дело не пойдет! поправляю себя тут же. Не может так случиться, что экипажу предстоит смертельно мучиться лишь потому, что кислород иссякает – если нам больше просто не удастся дышать с помощью калиевых патронов, дела пойдут без скрипа и пыли, так сказать, тихой сапой. Надо будет просто лечь, а от азота, который человек сам производит, затуманится сознание – и затем наступит беспамятный, непробудный сон.
Погружаюсь в размышления стараясь вспомнить цифры, которые я собственно должен был бы знать назубок: Сколько пройдет времени, пока запеленгованная и обездвиженная подлодка из-за недостатка воздуха будет вынуждена все-таки всплыть? Спустя сколько часов 50 человек штатного расписания израсходуют весь кислород?
Наконец мой мозг выдает: 72 часа! Экипаж лодки без поступления наружного воздуха может выдерживать лишь столько времени. Но в нашем случае это число, конечно, требует своей корректировки, потому что с таким количеством людей еще никто подобный эксперимент не проводил. С пятьюдесятью серебряниками на борту мы обречены – для такого количества людей у нас просто не хватит калиевых патронов для регенерации воздуха…
Никак не могу перестать размышлять на эту тему.
Спрашиваю себя: Отчего рыбы хлопают ртом, когда их вытягивают из воды? Ведь казалось бы, они получают достаточно кислорода оказавшись вне воды. Но они сдыхают. Почему?
Пробелы в знаниях, куда ни направь свои мысли…
Централмаат указывает взглядами и кивками головы на тарелку с хлебом, в полумраке под эхолотом. Я и не заметил, что кто-то поставил ее туда.
Хлеб в металлической консервной банке и колбаса. Ничего более умного коку на ум не пришло. Почему нет свежего хлеба на борту? Ведь этот, уже опротивевший хлеб из банки, поступает обычно за неделю или вовсе за 14 дней на камбуз. Безвкусная хрень. Им следует кормить тех, кто его производит.
К счастью, на тарелке лежит и соленый огурец: У меня аппетит только на огурец. Надо надеяться, мои внутренности вытерпят и это. Ну ладно, возьму еще и пару кусков хлеба. В животе будет мешанина из огурца и хлеба, и это, конечно, лучше чем один огурец.
Откусываю от огурца. Он влажный и кислый. Медленно разжевываю, превращая его в кашицу. Но вместо того чтобы проглотить это пюре, задвигаю его в левый защечный мешок. Так – а теперь откусить хлеб. Ого! Здесь даже масло между кусками хлеба! Кто б сказал! Тщательно все пережевываю, благо время вполне позволяет. Процесс жевания идет хорошо: слюна выделяется аккуратно и нужными для пережевывания порциями. А теперь достанем огуречное пюре из защечного мешка и прижмем и то и другое языком к небу, затем поработаем челюстями и языком. В результате получим тонкую смесь. И только теперь: Проглотить! И насладиться тем, как пища скользит вниз…
Повторим?
Давай!
И опять и опять. А затем наступает насыщение. Я вовсе не голоден, а просто хочу сделать что-нибудь для моего тела, и речь идет только об этом.
Яблочный сок? Лимонад из шиповника? Неплохо было бы после еды… Интересно, здесь же где-нибудь должно быть что-то для питья. Я могу пить всегда. Давно нужно было изобрести этакую разновидность жидкого питания, чтобы избавить людей от бессмысленного пережевывания.
Матрос из моторного отсека хочет пройти через центральный пост. Спрашиваю его о том, как дела в корме. Тот в ответ широко ухмыляется:
– Типа, у дизеля – шта? Да, черт, долбет мозги снова, но пашет, туда его в корыто!
Могу только удивляться: парень, по-видимому, оптимист, из сорта особо хватких в своей работе людей.
В проходе к носу все выглядит так, словно бушевали сумасшедшие. Всевозможные баулы и шмотки, с таким трудом размещенные там, сброшены на пол. Там же и тарелки, и вся посуда из рундуков. Большинство дверец рундуков распахнулись, и их содержимое вывалилось наружу.
От вида таких опустошений у меня начинаются колики в почках. Если бы я мог хоть что-то сделать в этой ужасной неразберихе – прибрать, навести порядок… А мне приходится, извиваясь, протискиваться в корму и видеть такие вот сюрпризы. Чувствую слабость в ногах. Шатает. Теперь лучше не мешать тем, позади, убеждаю себя. Парни заняты по горло!
Непонятно, что означала вся эта сумасшедшая пляска сброшенных на нас бомб. Никакой лебединой песни, никакого перехода из одного состояния в другое. Словно все закончено по сигналу неведомого дирижера: Отбой! Амба! Баста!
Я, одновременно, могу и не могу справиться с тем, что отсутствует финальный аккорд. Неужели нам позволено теперь сматывать удочки? Будучи окруженными и почти уничтоженными? Они же держали нас в своих челюстях. Почему затем наступил внезапный конец этого театрального действа? Почему Томми позволили нам выбраться? Настолько они некомпетентные? Или на их эсминцах тоже были офицеры, которые испугались артбатареи с берега? Но ее там давно нет! Господа артиллеристы теперь в Бресте. Или Томми поверили, что потопили нас? А может быть они просто проходимцы и прекратили наше преследование подготовив и передав сообщение об успехе, не имея на то доказательств?
Старик всегда утверждал, что Томми имеют больше дерьма, чем страха Божьего: На таком нашем корыте, залатанном тысячей лоскутов, Старик сам не хотел бы выйти в море. Но просто выполнил свою работу и выкинул нас? Молодцевато повернулся кругом, чтобы дождаться точного знака о нашей гибели?
В голову, как назло, не приходит никакой стих на то, почему наступил конец представления. Чудо – а для чуда нет никаких стихов!
Фуражка командира! Только ее и хотел бы Старик получить, как верный знак нашего потопления.
«До тех пор пока она не всплывет, вы живы», звучат в ушах его слова. И еще: «В войне на море все возможно – абсолютно все!»
Снова глубина под килем! Никогда в жизни не мог представить себе, что это за приятное чувство жить жизнью полной приключений, насыщенной неожиданностями и сюрпризами. Люди живут беспечно и не знают, что жизнь заключена в приятных ощущениях. Я не знаю глубину под килем, но сейчас, в это самое мгновение, для меня нет ничего более прекрасного… Это как в детстве, когда ждешь подарка к рождеству.
Оглядываюсь украдкой. Мне, пожалуй, следует ожидать такого подарка втайне, ибо лица окружающих меня людей выглядят совершенно иначе теперь, чем раньше. Больших изменений нет, но, тем не менее, можно видеть царящее унылое разочарование.
Видны признаки истощения: глубокие круги под глазами, более острые носогубные складки – но, сказать по правде, никто из них перед этой пыткой тоже не выглядел бодрым и здоровым.
Доносится громкий шепот:
– Раздолбали нас вчистую!
– Можно не сомневаться!
– Хотели поиметь нас по полной!
– Нас, этааа хателиии… как мартышек вздрючить, да промахнулись.
– Что ты несешь, тупица?
– Ага! Да тут как раз подоспело общество защиты природы…
– Забудь об этом!
– С чего бы? Они, мога быть, потому и съебались!
Слушая этот треп, который невольно проникает мне в уши, составляю мысленно список повреждений нанесенных лодке – так, как это сделал бы аварийный комиссар: Один из двух компрессоров больше не работает. Перископы? Оба перископа получили свою долю тоже.
Зенитный перископ, возможно, еще можно отремонтировать, но перископ атаки, по-видимому, ремонту не подлежит. Что в итоге? Об атаке без них можно забыть. Состояние гирокомпаса пока неясно. Можно ли доверять магнитному компасу? А не деформирован ли еще и главный вал привода гребного винта? Самое маленькое повреждение вала и подшипника гребного винта, и дело запахнет керосином…
Что же делать?
Нам остается теперь только прижаться вплотную к побережью и, в крайнем случае, выбросить пострадавшую лодку на мель, либо, в таком состоянии как сейчас, попробовать прошмыгнуть в чистую воду и уйти по большой дуге.
Если только у командира нет какого-нибудь более простого решения.
Курс вплотную под побережьем был бы довольно привлекателен, но тогда нам пришлось бы идти вплотную мимо Lorient и Saint-Nazaire, а там, конечно, такая же плотная зашита, как и здесь. Наши друзья наверняка закрыли подходы ко всем морским базам. Кроме того, они будут рассуждать так – поскольку нет доказательств того, что они уничтожили нашу лодку – это значит, что мы будем спешить и потому не позволим себе движение по большой запасной дуге. Следовательно, в первую очередь они направят патрульные суда прочесывать области с севера на юг вплотную к побережью. Значит нам, чтобы ускользнуть от них, придется сначала сделать большую дугу на запад.








