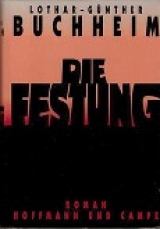
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 111 страниц)
– Вы говорите их надо травануть газом? Да это курам на смех! Видите ли, эти бестии очень хитры. Вы намереваетесь обхитрить их и ставите все четыре ножки кровати в консервные банки, наполненные водой, потому что полагаете, что эти твари не умеют плавать и теперь-то уж точно до вас им не добраться. Но вы глубоко ошибаетесь. Вы знаете, что они делают в этой ситуации?
Вместо того чтобы покончить с этой болтовней, невольно качаю головой: нет, не знаю. Лицо оберфельдфебеля словно освещается изнутри, и я узнаю: – Они забираются по стенам до потолка, затем на потолок и именно в тот момент, когда вы лежите в кровати нагишом, начинают свое десантирование на вас. Потрясенный, лишь лепечу: «Феноменально!» Оберфельдфебель дополняет: «И это точно так, господин лейтенант! Эти твари сыпятся как штукатурка!». Высказавшись, он внезапно вновь принимает строгий вид и говорит: «Но для вас, господин лейтенант, у меня есть кое-что приличное, правда в районе жандармерии». Беру с благодарностью адрес – а кто это стоит за мной? Бог мой! Неужели та самая Густель из Блазевица? Точно! Ирма Кинд-Химнитцерин, учительница танцев. Она здесь просто в командировке, говорит дама, встречает оборудование для одного оборонного предприятия. Оберфельдфебель любуется нашим объятием.
– Номер с двумя кроватями, господин лейтенант?
– Бросьте! Это моя учительница танцев! Оберфельдфебель ухмыляется и произносит:
– А я уже выписал его, ну, ордер на постой. Слегка обернувшись к нему, шепчу:
– Нравы у вас совсем расшатались …
– Делаем, что можем, господин лейтенант. Многое …, – но под моим взглядом он резко смолкает.
– Пока, – обращаюсь, прощаясь, к Ирме. – Около девяти вечера?
И когда она, улыбаясь, кивает – я отчаливаю. Мне нужно в Потсдам – в Потсдам, к Казаку.
– Соединение бомбардировщиков противника приближается к столице рейха … – доносится до меня голос диктора из стоящего у открытого окна приемника.
Воздушный налет днем? В такую-то погоду? Небо серое: вовсе не соответствующее летной погоде. Как интересно справится братишки? Используют ли они радары для захода на цели? В любом случае они делаю быстрые успехи. Дневные налеты стали также часты как и ночные, и «столица рейха» их главная цель. Нет-нет, да и посматриваю невольно то в небо, где серый цвет меняется на бледно-голубой, то на фасады зданий справа и слева от меня, превращающие небо в небольшую полоску. Пытаюсь представить себе пилотов сидящих в своих остекленных кабинах в нижней части фюзеляжа: тепло укутанные в свои лётные комбинезоны, так, что видны лишь глаза, они всматриваются в лежащий под ними город. Пытаюсь подсчитать, какой бомбовый груз тащат в себе эти 500 Боингов или Либераторов. Что-то более 1000 тонн или 1000000 килограммов взрывчатки! Такими жерновами пройтись по Берлину? А пулеметчики, сидящие там же, тоже, наверное, приготовились к стрельбе по наземным целям? Здорово! На ум приходит анекдот, который я слышал за эти два дня дважды: «Между сигналом тревоги и слышимым гудением самолетных моторов проходит столько времени, что одна старушка озабоченно спрашивает: «А не случилось ли чего с самолетами?»» В этот момент, если только слух меня не подводит, в воздухе раздается легкая вибрация и тут же пронзительный вой сирены. Человеку, который слышит завывание сирены, хорошо бы уже иметь опыт слуховых болей: настолько пронзительно и нервозно звучит это завывание. Лишь только сирены отвыли свое, слышу глухое гудение сотен моторов, странными волнами то накатывающееся, то отдаляющееся, и думаю: звучит как большое нападение. Надо бы найти какой-нибудь подвал – какую-нибудь щель в конце-концов, хотя я так ненавижу эту игру в прятки. Мой взгляд упирается в большое, крепко построенное здание. Забраться туда? Но это кажется напрасный труд! Сделать это сейчас довольно затруднительно. Я все еще вблизи вокзала, в квартале, где разрушены практически все жилые дома. Лучше прибавлю-ка шагу и укроюсь в вокзале. Старое правило: они не летят в центр. Самое спокойное место – это глаз циклона. Я как раз и подумал о подземном переходе, по прямой от вокзала до Эксельсиора. Здесь, под землей, можно почувствовать себя более или менее в безопасности. Жаль, конечно, что не догадались построить таких переходов побольше. К примеру, от Потсдамской площади, прямо к кафе «Фатерланд» с его огромным куполом. И далее, к расположенным вблизи Эспланаде, Галерее жемчуга, выставочному залу Союза берлинских художников, Кайзеровской галерее – на Викторияштрассе и Белевюштрассе – ведь все это почти рядом. В подвале Эксельсиора полно людей. Нахожу место в уголке и опускаюсь на корточки. Налет, кажется, братишкам удался. Слышу то и дело повторяющиеся слова: «Поворотный треугольник на станции». Ах, да. Этот треугольник, связывающий железнодорожные пути – лакомая цель, но то же самое можно сказать и о жилых кварталах. С удивлением припоминаю не такую уж и давнюю историю: в середине ноября 1943 года, во время сильного воздушного налета я так же был в Берлине. Тогда в налете приняло участие с полтысячи самолетов, которые разрушили внутреннюю часть города. А в этот раз братишки заявились на своих «летающих крепостях», Боинг B-17G, днем и выискивают точечные цели. Пытаюсь представить себе маршрут этих самолетов с какого-нибудь аэродрома в Южной Англии досюда, а так же то, что на всем пути до Берлина их могли встретить наши истребители и огонь наших зениток. Эти летчики должно быть все отчаянные сорвиголовы, если уж решились днем, на своих усталых Боингах лететь на плотный огонь зениток, с бомбовыми отсеками, заполненными до отказа отнюдь не вафлями и мармеладом. На скорости приблизительно в 300 км в час или чуть больше, и тут навстречу им летят истребители и зенитные снаряды. А это совсем не та встреча, на которую они рассчитывали. Их «Мустанги», сопровождающие это факельное шествие, носятся, наверное, как угорелые. Повезло еще, что успел хоть какое-то барахлишко отправить в Дрезден. Дрезден, скорее всего, уцелеет – так сказать как общечеловеческая собственность. Да и было бы несправедливо потерять уж все. Вот будет весело, если из всех наших вещей только пианино и уцелеет! Пианино, на котором теперь играет всякие опусы своими длинными розовыми пальчиками эта истеричка Гизела и одновременно скользит по нотам своими чувственными, зовущими глазками, а кругленький вишневый ротик так заманчиво приоткрыт…. Хватит, хватит! Лучше осмотрись-ка! – приказываю себе. Сумеречный свет падает на стоящих, словно на картинах старых голландских мастеров, людей. И тут я впервые замечаю, что рядом со мной, на скамейке сидит приятная, плотносбитая, но жестоко потеющая девушка – от страха, что ли ее пот прошиб? К груди она прижимает ребенка. Картина: те, наверху, в холодном воздухе высоты, и этот ребенок, здесь, внизу. Это зашло слишком далеко: ведь как ни крути, а это символы самого плохого в этом мире. Отбой тревоги прозвучал раньше, чем я думал. Налет продолжается где-то на окраине. Там ведь остались еще какие-то предприятия. Снаружи доносятся голоса двух солдат:
– … селедок для моего капитана. А дом-то разрушен.
– А где селедки?
– Я ее подарил.
– Ну, ты и придурок!
– Так они протекли прямо на меня. Вот, понюхай!
– Воняет, как нестиранная портянка! Слушай, парень, я тебе с этим запахом не завидую!
Левой рукой держусь за поручень. Пока поезд громыхает на целой серии стрелок, я, несмотря на крепкую опору раскачиваюсь как пьяный туда-сюда. Стоящие рядом моряки ни за что не держаться, да к тому же и в подпитии, а потому при очередном толчке валятся друг на друга словно мешки. Двое, не удержавшись, валятся на пол. Остальные громко ржут от удовольствия. Их абсолютно не заботит то, что рядом стоят майор и капитан. И майор, и капитан напряженно смотрят в другую сторону. А пьяные моряки орут и куражатся во всю. Господа офицеры молчат, может быть, ожидая, что я что-то сделаю? Только потому, что я в синей форме? Черт его знает, что делать. Гражданские, понятное дело, будут на стороне моряков. Очевидно, каждый из них желает морякам семь футов под килем, прекрасно понимая, что завтра они могут быть в бою. Да, что-то затянулся этот денек. Я чувствую страшную усталость и тупо гляжу на мелькающие мимо бессмысленно торчащие брандмауэры, не сдержавшие пожаров; разбомбленные в пыль рабочие кварталы и темные оконные провалы, что выглядят так, словно пьяный циклоп танцевал свой сумасшедший танец; глубокомысленный, спесивый взгляд трамвайных окон, в которых снова и снова отражаются горы мусора, щебня и развалин. Огромная, поставленная на ребро кровля какого-то склада-навеса, приковывает мой взгляд, т. к. напоминает скорее нелепый черный парус, развевающийся над всем этим морем развалин, словно декорация из сюрреалистического фильма, чем кирпичное здание. И фильм этот мог бы называться «Гибель мира». Наш поезд с грохотом проносится мимо щита, на котором мелом, неуклюжими, косолапыми буквами выведено: «МОЖНО СЛОМАТЬ НАШИ СТЕНЫ, НО НЕ НАШИ СЕРДЦА!». На другом щите – не верю своим глазам – написано: «ФЮРЕР ПРИКАЗАЛ – МЫ ВЫПОЛНИМ!». Это выражение, я ясно это помню, в своем неизмененном виде звучит несколько иначе: «ФЮРЕР ПРИКАЖЕТ – МЫ ПОСЛЕДУЕМ ЗА НИМ!». Если бы я не увидел этого лозунга своими глазами, ни за чтобы не поверил, что в 1944 военном году нашелся кто-то, кто выписал бы мелом огромными буквами этот сумасшедший призыв.
Ну, что-ж! Не думал, не гадал, что мне придется еще раз поехать в Потсдам: Поездкой по городской железной дороге началась для меня война. В Потсдаме меня обмундировали. Наша запасная рота стояла в казармах сразу за городом. В Берлин мы выезжали группами по 5–6 человек, и наше пение было таким же громким, как и у этих моряков. Возвращались мы строго к отбою. Иначе грозило лишение увольнительной в следующий раз.
Как наяву вижу себя с пятью своими товарищами занимающихся приборкой в этом трижды проклятом бараке Потсдамского лагеря в ледяном январе. Послать нас, моряков, в субботу, после обеда на «приборку кубриков» соседней казармы, был особый шик для господина майора. Но мы тоже простаки: нашли крепкий шланг и водяной кран, больше похожий на пожарный гидрант, а затем налили в кубрике столько воды, сколько вообще могло в него вместиться. Ясно помню, что на нас были высокие резиновые сапоги, сразу, после того как мы залили пол водой, мы направили мощную струю на стены и потолок, да так, что смыли всю краску, а потом остатки краски смыли швабрами, пахали так, что пар валил от нас как от паровоза.
В казарме почти два месяца после этого нельзя было жить. Но ведь это была не наша казарма. Нас заставили написать рапорт, в котором мы объяснили, что таким образом всегда убирали корабль: приборка – включить огнетушительную установку, а затем выключить. Думали, что так будет правильно и в этом случае. Ничего другого и в мыслях не было. Больше нас в такие наряды не назначали. Обычаи и традиции ВМФ казались для армейских офицеров довольно экзотическими, и поэтому они их уважали. Дело спустили на тормозах.
Калейдоскоп моих воспоминаний вертится все быстрее. Чувствую себя словно в лихорадке. Мелькают пестрые искры и помимо моего желания выстраиваются в картины воспоминаний.
Царь Петр больше чем просто мой издатель: он для меня Учитель с большой буквы, мой драматург – этакая невообразимая мешанина. «Читайте Конрада!» – это был его любимые слова, и однажды он подарил мне его золотые тома. Едва ли мне в жизни довелось еще когда-либо встретить такого самоотверженного человека. Первый же том подаренных им сочинений изменил всю мою жизнь. Благодаря Конраду я смотрел на корабль и море совершенно другими глазами. Конрад стал для меня тем, кто открыл для меня смысл красоты моря. И сегодня для меня корабельный якорь значит гораздо больше чем просто грубый кусок кованной стали – это совершенный по форме, полновесный пор содержанию инструмент, от надежности которого в случае необходимости могут полностью зависеть как судьба корабля так и жизнь экипажа. В случае, если судно понесет к берегу штормовым ветром, в последнюю минуту появляется он, якорь, и, падая в прибойную волну, изо всех сил натягивает якорную цепь и зачастую спасает корабль от неминуемой гибели.
Как же терзал и мучил меня Зуркамп! Уже тогда мне пришлось расстаться с бумагою для огромного тиража «Охотники в море». Трижды он возвращал мне вступление, и лишь четвертый текст был им одобрен и принят. На мой взгляд, этот четвертый экземпляр был хуже, чем третий, и гораздо хуже, чем второй, но такова уж была практика этого человека, строившего из себя этакого мэтра литературы. А затем мне нужно было еще получить и вступление за подписью Деница.… И надо было принести с собой коньяк: «Вы должны – и я это говорю вам серьезно, произнес Зуркамп, – достать лучший коньяк. В ВМФ так принято. Не для меня и не как товар на обмен. Это для Герхарда Хауптмана. Иначе с полным собранием ваших сочинений ничего не получится.… Так что постарайтесь как можно лучше обтяпать это дельце. Лишь так вы сможете завоевать свое место под солнцем в немецкой литературе…»
А теперь эти свиньи прихлопнули его как муху. Скорее всего, Зуркамп до последнего момента не думал, что так произойдет. В своем «Дневнике зрителя» в новой редакции, он протащил между строк новый раздражитель, т. е. откровенно полез на рожон.
Но нацисты тоже не простаки: у них есть свои «добрые гении» умеющие извлекать информацию, спрятанную между строчек.
В нос ударяет запах гари: где-то пожар. Я, словно собака, начинаю принюхиваться: отчетливо пахнет горелым. Может быть подшипник разогрелся? И тут обнаруживаю источник запаха – это я сам, т. е. моя одежда, провонявшая насквозь чадом пожаров.
Морячкам стало совсем хорошо. Они протяжно поют: «Ро-о-змаа-ри-и! Ро-о-змаа-ри-и! / се-е-мь ле-е-ет страдает мое сердце по тебе-е-е…»
В этот момент поезд останавливается.
Потсдам превратился в пустынное захолустье. Улицы будто вымерли. Однако воронок от бомб что-то не видно. Начинает темнеть.
Казак живет на тихой улице на втором этаже старого городского дома. Квартира производит мрачное впечатление, но лишь оттого, что окна задернуты толстыми шторами и освещается она лишь двумя слабенькими лампочками – одна в настольной лампе на столе, другая же свисает с потолка. Полный беспорядок царит на этажерках и книжных полках. Немногочисленные рюмки отражают слабый свет лампочек. Такого рода комнаты я знал еще со школьных лет в Шнееберге. К тому же здесь висит тяжелый, спертый воздух.
Судя по облику, Казак мог бы быть советником по вопросам образования: тощий, беловолосый, на вид хрупкий человек с совиным взглядом сквозь блестящие от света очки. Голос его звучит так, словно он давно простужен, и уже не осталось сил прибавить громкости. Манера речи Казака слегка напоминает проповедь пастора.
Казак выглядит довольно скверно, чуть насквозь не светится, и вид такой, словно смерть уже поставила на нем свою печать.
– Когда это произошло? Я имею в виду арест.
– Петер Зуркамп уже десять дней под арестом. Измена Родине.
– Но, измена Родине – это же практически невозможно!
– Не возможно…, – произносит Казак. Что вы знаете!? Они завалились к нам прямо в издательство. Они расставили Зуркампу ловушку, когда увидели, что по-другому с ним не справиться. Долго же они искали такую возможность.
– Ловушку? – Я едва могу поверить услышанному. Уж кто-кто, а Зуркамп умел обходить ловушки. – Но Зуркамп не мог попасть в ловушку!
– В этот раз она была очень хорошо замаскирована.
– Как? – я мысленно тороплю Казака: говори же, говори скорее! Этот медленный, вялый голос сводит меня с ума.
– Они заслали к нам своего агента-провокатора. Если хотите знать поточнее, то имя этого господина Доктор Рекце. Так однажды он предстал перед Петером Зуркампом. В самом издательстве. Он утверждал, что является другом Германа Гесса.
– Рекце?! Что за противное имя!
– Не хуже чем какой-либо легавый, по моему мнению. Зуркамп мобилизовал очень много людей на защиту издательства. Людей, имеющих влияние, даже людей из Партии, как вы знаете. Однако и это не помогло.
Я вдруг подумал, что мы же все знаем, с какой хитростью он разыгрывал одних партбоссов против других – и, прежде всего Бормана против Геббельса. Борман – руководитель партийной канцелярии, и опасен в первую очередь из-за своего скудоумия. С Геббельсом можно хоть поговорить. К тому же ходят слухи, что он не совсем ариец… Но, что же дальше милый Герман Казак?
– Да, да, да – говорю нетерпеливо, – так что же дальше с этим Доктором Рекце?
Казак тем же тоном, словно рассказывая наизусть, продолжает:
– Этот Доктор Рекце выказал готовность передать Гессу новости, такие, что нельзя доверить почте, переправив их в Швейцарию. Поскольку он сам, мол, гражданин Швейцарии и легко сможет это устроить…
Казак смолкает, словно углубляя драматизм своего рассказа. О, Господи! Думаю про себя, ну не мог же Зуркамп … и тут Казак вмешивается в ход моих размышлений:
– Однако это было еще не все. Этот Доктор сделал предложение Зуркампу. А именно: войти в тайную связь с якобы существующей в Швейцарии группой Сопротивления, организованной бывшим рейхсканцлером Виртом. И предложил себя в качестве курьера.
– И?
– Конечно же, Зуркамп не согласился! Он не мог довериться совершенно незнакомому человеку.
– Молодец! – вырывается у меня, дыхание мое учащается, словно я загнал себя до смерти.
– Молодец? – эхом подхватывает Казак. – Выговорите «Молодец»? тогда вы абсолютно не представляете себе их методов работы.
Лучше бы я ничего не говорил. Казак молчит, словно воды в рот набрал. Или он задумался над чем-то? Лучше бы он думал не об отвратительных методах нацистов, а продолжал бы свой рассказ.
Наконец, взглянув на меня исподлобья, словно изучая неведомое насекомое, медленно цедя слова, произносит:
– Зуркампа поставили к стенке…
– Зачем??
– Так они рассчитывали сломать его характер и волю.
Бог мой! Проносится у меня в голове. Как разобраться во всем этом потоке слов?
– Сломать характер и волю? – спрашиваю и вздрагиваю от собственного, более чем резкого голоса. Но Казак остается спокоен и лишь тоном врача-психиатра задает мне встречный вопрос:
– Вы, в самом деле, ничего не соображаете? Вы что, не знаете, что должно последовать за всем этим – т. е., что Зуркамп должен был бы сделать?
Я отрицательно мотаю головой. Казак, не изменяя тона, продолжает:
– Он должен был, нет, обязан был, немедленно донести в гестапо на этого человека. Но мог ли Зуркамп донести на человека, который обладал столь большой фантазией?
– О, Боже! Вырывается у меня стон и злая мысль обжигает мозг: так вот как они это сделали!
– А так как он не доверился этому, как он считал, фантазеру, то и в гестапо не сообщил.
Я так потрясен, что просто теряю дар речи. Казак же продолжает:
– В тот самый момент, когда этот господин доктор Рекце вошел в издательство, судьба Зуркампа была решена: «Помощь в заговоре против государства».
– А теперь он находится на Принц Альбрехтштрассе?
– Он был на Принц Альбрехтштрассе. Но оттуда попал уже в концлагерь Равенсбрюк….
– Где это?
– Где-то за Нойстрелицем. Дело действительно очень серьезное, т. к. туда попадают совсем уж в тяжелых случаях. Правда, его забрали не в сам концлагерь, а в гестаповскую тюрьму при этом лагере. В Равенсбрюке имеется отдел для гестапо.
Во время рассказа Казака, я встал и стал ходить по комнате кругами. Но после этих слов остановился в нерешительности и буквально рухнул на стул. Мысли роились в голове, словно потревоженные пчелы: ведь в течение последних нескольких месяцев, все выглядело так, словно Зуркампа должны были призвать на военную службу. Если бы только это произошло! В форме он был бы в большей безопасности.
– Теперь найти бы нам таких друзей, что имели бы связи наверху.… Словно издалека слышу голос Казака. Хотя и им придется здорово поломать голову.
Чувствую себя словно на сцене в какой-то пьесе: Сцена заговора. Это чувство исходит от Казака, от его тихого, почти шепчущего голоса, от нервных жестов его тонких ручек. От его лихорадочно горящих глаз. Но так же и от приглушенного света, едва ли освещающего углы комнаты.
– А где жена Зуркампа, Мираль?
– Она здесь, в Берлине. Я с ней связываюсь почти каждый день. Она делает что может. Бьет во все колокола.
Если бы это только помогло! Мелькает шальная мысль. Слишком много суеты тоже вредит. Будто догадавшись, о чем я думаю, Казак продолжает:
– Она делает все очень хитро, но старается надавить на все рычаги.
Эти слова звучат приятно.
– Даже Брекера втянули в это дело. Его называют «Ухо фюрера»…
Хм. «Ухо фюрера». Бахман говорила «Ухо Геринга». Казак выдерживает глубокомысленную паузу, а затем резко подается вперед и берет быка за рога:
– А ведь вы на хорошем счету у Дёница. Вы даже писали его портрет. И как раз сейчас нам нужен человек не состоящий в партии. Кто-нибудь из вермахта. Из высших кругов. Дёниц как раз то, что надо.
При этих словах я застываю на своем стуле, и лишь одна мысль свербит мозг: как это Казак себе представляет? Видя мою неподвижную фигуру, тот начинает так тараторить, словно хочет убедить меня во что бы то ни стало: – … мы не знаем никого наиболее подходящего, чем Дёниц. О Геринге речь вообще не идет. Дениц ведь солдат, а не политик. А как солдат он более нейтрален…. Вам нужно, вы просто обязаны попытаться! Внезапно в голосе Казака появляются странные нотки:
– В конце концов, Зуркамп был фронтовиком!
– Фронтовиком? В 1-й Мировой? – интересуюсь.
– Да! Командиром ударной группы!
– Зуркамп?!
– Да. Но он никогда этим не козырял.
В следующую долю секунды меня пронзает страшное отвращение к этому Казаку: к его падающим на лоб седым космам, отблескивающим очкам, к этому его странному вязанному пропеллеру, который он носит на шее вместо галстука. Казак смотрит на меня выпученными глазами. И, о чудо! Под этим его взглядом я почему-то быстро успокаиваюсь.
Казак ждет, а затем тихим, бесцветным голосом продолжает:
– Они могут в любой день закрыть наше издательство. Ведь для того, чтобы это сделать они и подстроили Зуркампу эту ловушку, а затем арестовали.
Произнеся это, он скользит по мне взглядом, а затем тихим, вкрадчивым голосом продолжает:
– Никак нельзя допустить, чтобы издательство умерло. С ним очень много связано. Зуркамп боролся за него изо всех сил, до последнего. Он никогда не простит нам нашей бездеятельности.
– Переиздание «Охотники в море» обязательно состоится. Это гарантировано, – говорю в ответ. – Перепечатка будет в Норвегии.
– С этим не поспоришь, произносит Казак, и в его голосе звучит неприкрытая мольба. – Нам нужна новая книга, а именно такая, под которой Дёниц вновь поставит свою подпись.
Эти его слова сбивают меня с толку: возмущает то, что о Зуркампе речь более не ведется. Но что я хочу? Ведь Казак теперь шеф издательства. Теперь ему надо думать так, как думал Зуркамп: издательство прежде всего. И это естественно, ведь если издательство более не будут считать военной необходимостью, а к этому все идет, его просто закроют.
– У меня есть задумка насчет этакого документального романа… – доносится, словно из далека, голос Казака.
Романа?! От меня? Я уже давно работаю над ним. Но не теперь же! Мне для этого нужна тишина и прикрытые тылы. Я словно онемел, хотя в голове бьется мысль: у меня есть наброски, даже частично готовый текст… Казак пристально смотрит на меня. Должно быть, в этом виноваты его очки, но взгляд, кажется, пронизывает меня насквозь.
Упав духом, произношу:
– Но я работаю над ним…. Казак тут же перебивает меня:
– Понимаю, на такую книгу надо время. Но даже и такая, «в верстке», могла бы нам помочь. Нам надо использовать все возможности.
Как это Казак все детально продумал в своей Потсдамской келье! Совушка в клетушке. Но за новой книгой мне нужно ехать во флотилию, к Старику – теперь уже в Брест. А если Масленок узнает, что мне надо в Брест, то наверняка зашлет меня куда-нибудь в другую сторону. В Нарвик или в Салоники, или в Ла Спецу. У нас даже в Пенанге есть флотилия!
Однако, прежде всего, мне надо окончательно обговорить с Масленком портрет Деница. И Казаку следует знать, что за задание я уже получил.
– Прежде всего, мне надо написать портрет командующего! – заявляю в открытую.
– Деница?!
– Да. Для Дома Германского искусства. Для следующей выставки.
– Ах, черт! – вырывается у Казака. – Вот именно! Напишите его портрет! Лучшего способа подойти к Денницу у вас не будет. Если вы добьетесь того, что он будет позировать вам лично…. Если при этом Дениц узнает как страдает фронтовик, солдат 1 Мировой войны – это будет шанс…. Вам обязательно надо попытаться это сделать!
Когда я вновь бреду по разрушенным улицам Берлина, голову свербит мысль о провокаторе по имени Рекце: намотать бы его кишки на лебедку! Яйца бы этой суке положить меж двух кирпичей и медленно сдавливать….
Ой-ой! Как же это я забыл об Ирме! Ноги несут меня к ней.
Ирма сидит очень прямо, положив ногу на ногу, на стуле в номере гостиницы и смеется. Красиво нарезаны ломтики закуски, бутылка вина и два стакана – все это живописно расположилось на кофейном столике. Проходит немного времени и в проем окна проникает ночная мгла. Раньше на улице горели фонари, светились рекламы, смеялись фары машин. Где весь этот свет? Бог знает!
Свет в комнате зажечь нельзя, т. к. светомаскировочная бумага состоит лишь из каких-то клочков. В темноте этой чужой комнаты все гораздо проще: Ирма Кинд, волшебница, внезапно обнажается и без всяких церемоний садится ко мне на колени и своим мелодичным «одноцветным» саксонским голоском начинает щебетать, как она любила все это делать раньше. Мы ложимся. Я – лошадь. Она садится на меня, я же должен спокойно лежать и слушать. Она так любит. Но я не могу более сдерживаться. Прочь одежду! А затем скорее погрузиться, вогнать в нее свой штопор, без всякого волнения, быстрые толчки во влажных горячих, как она выразилась, «опилках». Небольшие ласки, а затем вновь погружаюсь и несусь галопом по этим горячим «опилкам».
Внезапно за окном вспыхивает в небо длинный, острый луч прожектора. Глупцы! Они этим прожектором сами призовут на свои головы бомбардировщики! А почему те, наверху, не затемняют свои самолеты? Тоже могут получить добрую порцию шрапнели.
То тут то там стали раздаваться завывание сирен. Одна завыла совсем рядом и полдюжины откликнулись со всех сторон. Симфонический оркестр!
Ирма молчит. Из-за сирен я даже не слышу ее дыхания. И теперь окна комнаты напоминают мне окна суфлерской будки на театральной сцене. Я – зритель, сидящий перед театром марионеток. Бомбардировщики и зенитки лупят друг по другу без передышки. Наша комната то внезапно освещается, то вновь резко погружается в темноту. Ирма лежит на животе и голые ее ягодицы то вспыхивают белым светом, то исчезают во тьме. Отблескивают и исчезают. Мне приходит на ум: у косули это называется цветы.
Берлин. Третий день.
В правительственном квартале чувствую себя чужим: Лейпцигерштрассе, угол Вильгельмштрассе – вотчина Министерства Авиации Рейха. Здесь размещается министр авиации. Иду по Вильгельмштрассе дальше, в направлении Унтерденлинден, слева ее пересекает Фосштрассе. Угол Вильгельмштрассе и Фосштрассе ограничивают здание Рейхсканцелярии. Напротив Канцелярии расположена большая площадь Вильгельмплац с расположенной на ней гостиницей Кайзерхоф.
А вот, справа от Вильгельмштрассе, располагается здание Министерства пропаганды. Министерство Геббельса. Одной стороной оно примыкает к площади Вильгельмплац. Стоя перед зданием, вижу наискосок от меня Рейхсканцелярию, а прямо передо мной Министерство иностранных дел. И все здания совершенно целехоньки! Почти нет следов бомбежки. В это трудно поверить. Может быть, союзники сберегают этот квартал для себя? Что-то подобное уже произошло. А именно то, что на здания промышленного комплекса ИГ-Фарбен во Франкфурте-на-Майне, несмотря на их гигантские размеры не упала ни одна бомба!
Мне приходится постоянно напрягаться, чтобы все делать правильно и четко, т. к. каждую минуту приходится прикладывать правую руку к козырьку фуражки: здесь чертовски много старших офицеров.
Как я все это ненавижу: болтающийся кортик на левом бедре, молодцеватая выправка, прогибы в пояснице и эти нескончаемые механические броски руки к фуражке.
Постоянное приглядывание к погонам и нашивкам – и лишь только одного пердуна провожу, глядь, новый маячит на горизонте. Поворот головы, клешню вверх, губы поджаты, лицо – кремень, снова голову прямо, клешню вниз. И в следующий миг опять: клешню вверх, голову то налево, то направо. Эти приветствия так часты, что мне хочется уже две ладони приставить к фуражке с двух сторон, и строго смотря перед собой двигаться через поток этих нашивок и эполет, крестов и патрулей.
Бедные мои ноги словно окостенели в суставах. «Как аист в салате» – так часто говорили мы в учебке, когда видели военных вышагивающих так же как и я сейчас негнущимися ногами. Проклятье! Как же нужно собраться человеку, когда он, словно дрессированная обезьяна – как обученная держать стойку, вызывающая жалость обезьяна – беспрестанно должна все-таки считать себя человеком. Если бы все это оказалось лишь шуткой!
Над одетой в форму обезьянкой, которую один шарманщик в Вероне водил на цепочке, заливисто смеялись все стоящие вокруг, в то время как сама обезьянка то натягивала на голову, то стаскивала с нее и опять натягивала на самые уши военную фуражку, при этом не забывая лихо козырять сумасшедшими руками по десять раз кряду. Смеясь в душе над собой, представляю себя со стороны. Никто другой не может этого себе позволить в мой адрес. Здесь царят ожесточенные выражения лиц и взгляды выпученных глаз: прусский дух. Мы даже не обезьяны, а заводные автоматы. Люди или куклы из ярмарочного балагана, не имевшие ранее конкуренции, а теперь сотнями тысяч раз продублированные на улицах городов.
Светло-голубые отвороты шинели впереди. Внимание: адмирал! При такой погоде и в шинели – что за глупость! Но и это очевидная часть ритуала этого квартала. Итак, вновь собраться и приветствовать! Адмирал отвечает небрежно – старый человек с мешками под глазами. За ним выныривают белые полосы на брюках: штаб-офицер люфтваффе. Вот эти уж точно должны посыпать голову пеплом, вместо того чтобы выпендриваться здесь.
Эти слюнтяи предыдущего поколения втянули нас силком во все эти тяжкие. Всякие там владельцы печатной продукции. Усохшие, бессердечные евнухи, для которых лишь власть доставляет истинное наслаждение. Психопаты. Совершенно сумасшедшие садисты! Господи! Рука уже онемела от ежеминутных приветствий. Здесь воистину настоящий рассадник чинов и званий.








