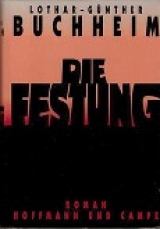
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 111 страниц)
– Практические люди, эти парни из организации Тодта.
Я могу лишь гадать, что он мог бы подразумевать, говоря мне это. Я думаю о свиных полутушах и беконе с черного рынка, но тут он мне полушепотом сообщает информацию, которая звучит совсем иначе:
– Они установили в укрытия перед военно-морской школой сверхштатные перископы для наблюдения за окружающей местностью, чтобы никому больше не пришлось высовывать голову, если нужно было посмотреть, что делается снаружи… Более чем практично, нет?
Не знаю, с чего мне начать. Это прозвучало довольно цинично. Считает ли он использование не по назначению перископов хорошим делом или чистым идиотизмом? Чтобы ничем не рисковать, я только и говорю:
– Чудненько, чудненько.
* * *
Полное дерьмо: Крупнокалиберные зенитные орудия, врытые вокруг Бреста, будет, пожалуй, единственным, что нам придется предложить для решающего боя. Но что, если все огневые позиции зенитной артиллерии будут уничтожены? Тогда нам останется только лишь спрятаться в укрытия и наглухо задраить люки…
– Я как раз пишу докладную записку, – говорит Старик на следующее утро. – Послушай-ка, что я тут набросал: «Блокада и изоляция нас от Родины из-за действий американцев и внезапного прорыва при Avranches и расширение флангов прорыва в Бретани с востока, резко изменили всю деятельность и мышление в Бресте: никаких сомнений, что гавань и большой защищенный рейд Бреста являются для американского Военно-морского Флота самым лакомым куском и поэтому требуется распоряжение на более длительное сопротивление.»
– И кто должен радоваться, разрешите спросить, этому рапорту? – недоуменно интересуюсь, когда Старик замолкает и бросает на меня вопросительный взгляд. Старик выслушивает это и продолжает читать:
– «Для флотилий подлодок следует рассмотреть, как первостепенно важное задание, не оставлять противнику подлодки в Бресте. Поэтому им необходим, возможно, более полный ремонт для применения на фронте, а, в крайнем случае, и аккумуляторные подлодки и вспомогательные суда необходимо переместить временно в южную точку передовой базы. Весь становящийся излишним персонал – кадровый резерв и персонал базы – делится на группу для круговой обороны территории флотилии, и остальных, которые передаются командирам в крепости для присоединения к защите переднего края и распределения между привычными к военным действиям на суше остаточным подразделениям.»
Так как фраза «остаточные подразделения» будит во мне представление о солдатах без рук и ног, я невольно хмыкаю. Старик стягивает брови домиком и всматривается в меня наполовину недоверчиво, наполовину зло.
– «Остаточные подразделения» – звучит довольно странно! – быстро говорю.
– Так скажи лучше!
– Я бы сказал «привычные к ведению боевых действий на суше подразделения».
Там Старик театрально повышает голос:
– Подразделения! Это были однажды подразделения. То, что к нам сюда пробилось, все лишь остатки подразделений.
– Почему же ты не пишешь тогда «остатки»? – спрашиваю, сгорая от нетерпения.
– Потому что это звучало бы слишком пораженчески – вот почему.
– Ну, тогда пусть будут «остаточные подразделения», – говорю вполголоса. – А какое продолжение?
Старик выпрямляется и продолжает:
– «Личный состав в Бресте: Число не поддается оценке. Имеются небольшие подразделения артиллеристов без пушек и пехоты – от береговой обороны – из местных ресурсов – гарнизоны – комендатуры – внутри крепости. Включены в так называемый «Полк крепости» – полковника Мозеля. Костяк образует Вторая парашютная дивизия – предположительно остаток от двух полков – которые пока еще на подступах, и сильно задерживаются установленными французским подпольем заграждениями и минами на дороге.»
– Но, вот же, теперь ты употребляешь слово «остаток»: «остаток от двух полков», – указываю осторожно.
– Здесь иначе звучит, – заявляет Старик и выдерживает паузу. Чтобы не затягивать, говорю:
– Я уже понял…
– Неужто?
– Да, что все сплошная наебка, например.
– Типа, ты еще этого не знал? – бормочет Старик озадаченно. – Дальше еще забавнее, если тебе это интересно….
Я лишь кивнул, а он уже снова читает:
– «Их прибытие», то есть «Второй парашютной дивизии» – убедило нас в том, что по дороге из Бреста больше проехать нельзя. Основной состав солдат имеет опыт ведения войны на суше в России…»
Поскольку Старик снова смотрит на меня вопросительно, я говорю:
– Ну, тогда все находится под контролем. – и добавляю:
– А почему ты не пишешь, что не имеется надежных сообщений – нет данных разведки, нет самолетов?
– Здесь указано! – возражает Старик. – «Эскадрилья самолетов из Брест-Север была отозвана. Она максимально редко находилась в распоряжении для защиты подлодок, для их сопровождения!»
– Мягко сказано, я бы сказал.
– Ты так думаешь?
– Кто должен это прочитать и понять, что мы здесь совершенно sine sine? Никаких подлодок больше…, – бормочу, – зато есть два шноркеля…
Старик молча выслушивает мое причитание и зачитывает дальше:
– «Жилые помещения Девятой флотилии: три здания, новостройка Новый госпиталь. Бомбардировку не предполагаю, так как никаких значительных военных объектов для наступающего противника здесь нет. Два больших Бункера, достаточных к принятию остающегося персонала, оборудованы операционным помещением и необходимым для врачей оборудованием, медикаментами, одеялами, продовольствием и боеприпасами. Территория окружена стеной. В местах часовых по углам стены установлены противоосколочные заграждения, вырыты траншеи, установлены оборудованные пулеметные площадки. Около главного входа, вне стены, с направлением выстрела на подъездные дороги и свободную площадь перед входом, установлена полуавтоматическая зенитная пушка калибром 3,7 сантиметра для решающего боя. Вместе с тем, значительное сопротивление хорошо вооруженному противнику оказать не сможем. В частности, в случае массированного нападения.»
Старик высоко вздергивает головой, как будто бы кто-то ударил его промеж лопаток, откашливается и дает, наконец, нечто вроде официального резюме:
– «Прошу принять во внимание вышесказанное.»
– Выразительно! – изображаю мимикой признание, но не могу удержаться и подкалываю:
– А также очень пораженчески.
Старик слегка втягивает голову. Смотрит на меня с любопытством, с нетерпеливым ожиданием, однако не произносит ни слова. Я жду. Но уже в следующее мгновение изменяю тактику и, подражая тону Старика, который беспрерывно слышу от него, говорю:
– Все же, я, при всем желании, не могу представить себе, что Фюрер мог бросить на произвол судьбы своих подводников. Он их очень ценит. И еще эти опорные базы – они же имеют решающее значение в Битве за Атлантику! Полагаю, нам не следует волноваться: Ведь Фюрер не покинет своих оказавшихся в дерьме парней. Он пошлет танки…
– … и самолеты, – тут же подхватывает Старик.
– Танки и самолеты – это же, само собой разумеется! Подлец и мерзавец тот, кто сомневается в этом!
Конец представления! – готово сорваться у меня с языка. Я недооценил, как уже часто бывало, актерские способности Старика. Взяв свои инструменты, направляюсь в сторону Арсенала, чтобы нарисовать старую подлодку-ловушку для борьбы с самолетами. В конце пути вяло шлепаю мимо унылых и печальных фронтонов: серые дома со слепыми стеклами, и такими же серыми как и стены. Повсюду штукатурка осыпается большими участками, напоминающими коровьи лепешки: Дома словно паршой покрыты. Мой планшет уже становится тяжелым для меня. Не следовало отсылать машину. Но на машине здесь было бы сложно проехать: всюду валяются тросы, кабеля, всякие технические принадлежности и приспособления. Лодка, которую я ищу, лежит не в Бункере, а в глубокой балке: Она снята с эксплуатации, но, несмотря на это, скрыта маскировочными сетями против наблюдения с воздуха. Это одна из немногих лодок, у которых были успехи против самолетов: Две сбитых воздушных цели. Ценой полудюжины тяжелораненых членов экипажа. Надо собраться. Хочу изобразить ее настолько точно, насколько только возможно пером и тушью, и в любом случае используя сепию из разбавленной туши. Нужно суметь выписать каждый узел, каждое пятно в маскировочной сети. Вернувшись во флотилию, наталкиваюсь на Старика, который хочет видеть мой рисунок. Он долго всматривается в него. Затем бормочет:
– Эту подлодку U– 256 еще можно склепать. Отверстия торпедных аппаратов заварить плотным швом, нарастить обшивку двойной толщины над вмятинами – это все-таки возможно – и именно теперь, когда у верфи так мало заданий. И к тому же у нас есть шноркель….
Монолог? Или эта речь предназначается именно мне? Не знаю, к чему это мне? Циркулируют скверные слухи: На сторожевом корабле несущем боевую вахту, два человека взбунтовались и подбили экипаж на террор: Они распилили своего командира и бросили куски тела в огонь судового котла. Мятежников одолели и расстреляли прямо на борту. Потом опять сообщают, что пол-экипажа взбунтовались и попытались убежать в направлении Родины. Сторожевик преследовали, и мятеж был подавлен. Не хочу спрашивать Старика о том, есть ли в этих слухах хоть доля истины. Словно озлобленный охотник он то и дело бродит по территории флотилии и ведет себя так, как если бы был в состоянии войны и с Богом и всем миром. Как бы я хотел заглянуть за эту маску озлобленности! Какие мысли носятся в его голове? Он же не может всерьез рассчитывать на деблокирование? Вечером мы сидим в павильоне Старика, и наша беседа вращается вокруг солдатской этики.
– Все же, вот вопрос, на который я бы хотел получить ответ, – решаюсь, наконец, спросить Старика, – Как солдатская этика совместима с тем, что происходит сегодня в стране?
– И что же происходит в стране?
Этим риторическим вопросом он приводит меня в бешенство, и хотя я знаю, что задеваю его за живое, все же говорю:
– Все видели желтые звезды Давида – они есть даже в Париже. Надписи на скамьях в парках и скверах тоже каждый может увидеть. И вывески в витринах ресторанов. Все должны знать, что евреям, тем, кто еще не попал в лагерь, поход за покупками разрешен только по определенным дневным часам, что они фактически объявлены вне закона. И эти факты нельзя выдать за оплаченную пропаганду для солдатской радиостанции. Во всяком случае, я очень точно помню о «хрустальной ночи» и следующим за ней дне. Я как раз был в Дрездене в Академии художеств – получал государственный грант.
Старик сидит, словно окаменел.
– Все эти годы я вытеснял воспоминание об этом – не вытеснил – лишь подавил. Но картины остались. И со временем они не поблекли. Я вижу все так отчетливо, как будто это произошло вчера. Академия на Brehlischen Terrasse. Тяжелая дверь, которую открывали с огромным трудом… И еще евреи в длинных сюртуках абсолютно черного цвета, со странными локонами подвитых пейсов вокруг клочковатых бород падающими на уши, брюках заправленных в носки и черных долгополых шляпах – бледные как смерть. Несколько удерживаемых в руках перед животом Скрижалей Завета с высеченными на них Десятью Заповедями из синагоги – довольно тяжелые, высокие – с которыми они должны были совершить торжественный марш и тому подобное. А потом они падали и другие вокруг тоже.
Потому что затем был шквал камней. Какой-то жирный штурмовик проорал команду, и заорал шумный хор: «Долой! Долой! – Мы сыты по горло!» И сразу – кровь! Я убежал назад в Академию и там блевал так, как никогда еще в жизни не блевал. Итак, Я видел это! Но никогда об этом не рассказывал. Это в первый раз. Теперь ты это знаешь! Старик сидит в кресле прямо, словно аршин проглотил. Он даже не двигает руками на подлокотниках кресла. Когда молчание становится невыносимым, продолжаю:
– А однажды нечто странное произошло со мной в Хемнице: Я возвращался из аптекарского магазина Отто Х. Крача. Топал по темному переходу, и тут вижу идущие мне навстречу склонившиеся фигуры. Я немного смог различить, только силуэты. Мы должны были пройти довольно близко друг к другу, и я сказал: «Бог в помощь!» так как я, все же, находился в Баварии. Я уже отучился несколько семестров в Академии художеств в Мюнхене, а там обычно здороваются именно фразой «Бог в помощь!». Я едва ли понял, что пробормотала одна тень: «Сердечный привет», а за ней другая и все остальные: «Сердечный привет!». Скажу тебе честно, эти слова буквально пронзали меня. И какое-то время все мелькали и мелькали желтые звезды.
– И? И что? Ты что-нибудь сделал?
– Нет, я не был готов к самоубийству.
– Вот видишь: я был прав! – говорит Старик. – Но к чему ты, собственно, клонишь?
– Я хочу только знать, что происходит с человеком, когда ему официально предписано Ничегоневедение? – какие чувства у него тогда возникают. За недостатком информации или так как просто ничего не хотят знать – из, так сказать, активного невежества? Вот ты постоянно упрекаешь меня во всезнайстве или пытаешься постоянно подколоть меня таким образом: «Я бы лучше сказал, Я бы это обошел, по сравнению с теми, кто рядом».
Говорю это как можно равнодушнее. Старик лишь молчит в ответ.
– Все это сплошная показуха: Только делается таким образом, будто бы оружие подлодок совсем ничего не имеет с нацистами, будто бы подводный флот даже стоит в явной оппозиции к партийным лозунгам – этакий «Добровольческий корпус Деница» – а сам ГПФ мутирует в фанатичного нациста, сначала под шумок, а затем явно. В День поминовения Героев в марте, он даже произнес речь, которую всегда произносил Фюрер.
Теперь Старик сильно откашливается. Это не звучит так, словно он хотел бы откашлявшись прочистить горло, а как протест. Но он все еще молчит.
– «Куда бы мы пришли, если бы каждый начал задумываться», – продолжаю я, – Ты говорил именно так. Но это не означает ничего другого, как оставаться упрямым в случае малейшего сомнения, и ничего иного, как действовать скорее ошибочно, зато благоразумно….
– Легко тебе рассуждать! Как всегда в своем ключе! – ворчит Старик. Затем глубоко вздыхает и начинает:
– Вероятно, однажды наступит время тебе задуматься – объективно задуматься: Если некто, допустим, некий командир роты отдаст приказ своим людям о продвижении вперед, в этом случае, для какого-нибудь рядового Майера, это может выглядеть как злоупотребление властью. И тогда он, ничтоже сумняшеся, может задаться вопросом, почему, собственно, он должен выполнять этот, по его мнению, ошибочный приказ или даже просто какую-то команду… И когда ему прикажут, чтобы он удерживал определенную позицию любой ценой, он может, согласно твоим рассуждениям, почесать свою маковку и съебаться – просто потому, он не понимает важности вот этой самой позиции в бою… Вот что я должен тебе сказать!
– Значит, ты думаешь так: Только тот может делать выводы, кто имеет необходимое понимание на основании своей занимаемой должности?
– Да.
– И если простой солдат, незадолго до того, как такой вот проницательный армейский мыслитель решится на капитуляцию, переметнется к врагу, потому что такая проницательность осенила его немного ранее, то такое не приемлемо, и этот перебежчик, если его поймают, станет покойником.
Старик крепко сплетает пальцы рук и театрально закатывает глаза, устремив взгляд в потолок, что, пожалуй, должно выражать его полную безнадегу о таких узколобиках.
– Хотел бы я знать, как ты считаешь следует поддерживать дисциплину в подразделении, – наконец, подчеркнуто спокойно, говорит Старик. – Интересно было бы ознакомиться и с твоим рецептом на все случаи жизни. Судя по всему, тебе по плечу решать такие неразрешимые задачи.
– Во всяком случае, не такую, как провозглашенный тобой моральный облик: Если твой законный глава государства превращает жизнь в безумие, если происходит злоупотребление властью – тогда твои традиционные прусские правила не могут более иметь значение. Признай, они слишком просты… Но это именно та простота, что помогает всем так чудесно выпутываться из затруднительного положения – из морального в первую очередь, – вот что я имею в виду … – и затем упрямо продолжаю: – При условии, что это вообще возможно.
– Тебе следовало бы стать исследователем душ, пси-хо-ло-гом, – говорит Старик в растяжку, – По-видимому, ты всегда думаешь только о людях своего склада – интеллигентах в тапочках. В Военно-морском Флоте царит, слава Богу, ясная обстановка.
– Когда в бой посылают совершенно неопытных командиров, например…
– Это – твое мнение! – перебивает меня Старик резко и грубо. Но я смог отчетливо почувствовать, что его бастионы имеют давние глубокие трещины.
Дни снова потекли ровно. Сенсации каждый день – это уж слишком.
Мне следовало бы, наконец, сходить когда-нибудь к бассейну, лечь там, на солнышке, и попробовать хоть разок, проплыть под маскировочными сетями несколько кругов. Вместо этого сижу в своей нагретой солнцем каморке, словно наседка, высиживающая яйца, а передо мной на столе мой блокнот.
Странно: образ Симоны больше не является передо мной так, каким был раньше, и если я все-таки пытаюсь вызывать его, остается бледным и неясным: Я вижу Симону, словно покрытую колеблющейся дымкой – то отчетливее, то затем снова почти совершенно размытой. Неужели наступит момент, когда я совершенно забуду Симону?
Выясняется, что ручное огнестрельное оружие, и прежде всего, автоматы, отсутствует. Я уже не раз удивлялся пукалкам у часовых внизу в порту: экзотические модели вместо боевых карабинов. Как я слышал, к ним даже боеприпасы подходят только в редких случаях.
Радуюсь, что своевременно побеспокоился о выделении мне автомата. С этим автоматом и пистолетом Вальтера кажусь себе вооруженным до зубов. Но я должен однажды попробовать, смогу ли быстро разобрать и собрать их снова, не глядя или в темноте. И одновременно спрашиваю себя: На кой черт мне это надо? Только не по собственной воле! У меня на всех курсах было обыкновением основательно портить отношения с оружием.
Многие штабники во флотилии, все эти штабные крысы, которые в течение долгих лет сами сделали себя на этом этапе службы важными и значимыми, теперь готовятся нюхнуть пороху. Теперь им не удастся ни убежать, ни воспользоваться своими связями. Запасные выходы забиты наглухо. Даже господа интенданты и всякие прочие серебропогонники, которыми кишит Брест, находятся в Bredouille. И это чувствуется во всем.
Все проблемы наваливаются как-то разом. Такое ощущение, будто сильный ветер разжег скрытый тлеющий огонь. Неотложные решения не дают Старику расслабиться: создать поле обстрела, усилить внешние караулы, отбуксировать подлодку-ловушку воздушных целей из расщелины и проверить стоящую на приколе подлодку, возможно ли ее отремонтировать в установленные сроки…
Разыскивая зампотылу, вижу бойцов трудящихся над вещмешками моряков. Узнаю зампотылу: поддерживает дисциплину!
– Ботсмаат! – окликаю человека, который в этот момент затягивает один вещмешок.
– Слушаю, господин лейтенант?
– Экипажу какой лодки принадлежат все эти вещмешки? – интересуюсь у него и делаю короткое движение рукой в направлении груды вещмешков.
– U-810, господин лейтенант. Господина капитан-лейтенанта Айзенманна, – отвечает ботсмаат. – Никто не спасся, господин лейтенант!
Один за другим… Никто не прошел.
– И что теперь будет с этими вещмешками?
– Ничего, господин лейтенант: Они остаются здесь. Мы должны сложить их. И больше ничего.
– Но почему вы их еще и обыскиваете?
– Это приказ, господин лейтенант. Приказ зампотылу!
Пока осматриваюсь, подходит зампотылу и сразу же начинает объяснять:
– Мы еще, в целом, не завершили четыре лодки. Всего около двухсот вещмешков, приблизительно.
– Янки заявились слишком рано, – говорю с иронией, – не слишком-то предупредительны эти ковбои.
Однако зампотылу не понял иронии: В ответ зарабатываю лишь ожесточенный взгляд.
– В конце концов, мы же не можем просто все сжечь! – выкрикивает мне в лицо зампотылу.
– Вероятно, янки это сделают быстрее, – отвечаю резко.
– Это будет уже другое, – отвечает зампотылу совершенно серьезно. – Это было бы следствие войны! Но у меня есть восемьдесят еще не прибывших для отправки вещмешков и потому вообще еще не ликвидированных. Приблизительно двести всего, как я уже сказал.
Думаю: Если он еще раз скажет «ликвидированных», у меня сдадут нервы.
– Кстати, Вы могли бы оказаться полезным, – теперь зампотылу говорит с хитринкой, – Ведь при досмотре вещей, безусловно, должен находиться офицер. Это слишком щекотливая тема для людей, и мы не можем оставить их одних…
Пока я тупо молчу, зампотылу продолжает:
– Сейчас мы должны отобрать лишь то, что принадлежит флотилии. Все форменное обмундирование. Оно будет вычищено и снова размещено на складе. Вот смотрите, эти рукописные записи будут размножены на пишущей машинке. Один экземпляр пойдет в архив по наследственным делам, один останется здесь. У женатых требуется особая осторожность. Там следует убрать все, что могло бы указывать на внебрачные связи. С письмами тоже не так все просто. Ведь кто может знать наверняка – прекрасная Элеонора кузина или что-нибудь еще? Люди невероятно легкомысленны… То, что уйдет отсюда, безусловно, должно быть абсолютно чистым.
Зампотылу смотрит на меня взглядом полным надежды. Я словно стал меньше ростом от стыда, с которым все это выслушиваю, и молча принимаю.
Стоя вот так перед этим пространством с вещмешками, хочу влепить себе пощечину: Я даже кивал, и это могло быть воспринято зампотылу как согласие с его идиотским манерничаньем.
Кипя от ярости, спускаюсь по Rue de Siam. Перед пока еще существующими витринами либо опущены жалюзи, либо закрыты ставни. Мебельный магазинчик открыт, но кто нуждается сегодня в мебели?
Навстречу мне идет группа моряков. В брюках «единообразных» и этих дурацких пилотках на головах они напоминают карикатурные персонажи. И вскоре проходят мимо меня, приветствуя, с поднятыми, словно в благословлении, руками. Затем появляются гражданские, по виду которых понимаешь их предназначения: какой-нибудь персонал верфи, может быть, доверенные лица фирм, работающих на ОТ; несколько девушек в форме – военнослужащие вспомогательной службы ВМС. Как шикарно они выступали раньше, и какой же испуганный вид у них сейчас.
Но где же форма СС? Ни одного мудака с двойной серебряной руной в петлицах не видно. Неужто они все уже напялили гражданское шмотье?
Почти автоматически забредаю в Арсенал. Как всегда, наслаждаюсь богатым тоном ржавчины, покрывающим металлоконструкции смелых, изогнутых и рифленых форм, массивностью кабельных барабанов и орудий, стоящих на своих тумбовых поворотных лафетах и смотрящих на пирс.… В наступающих сумерках, формы мощных блоков принимают причудливые очертания, проступает мелкозернистая структура на больших поверхностях, а цвета становятся более интенсивными, чем в ярком свете дня.
Медленно подкрадывается вечер. Рабочий шум уже смолк.
От воды поднимается туман. Он так легок, что не может задушить желтые огни, а делает их даже ярче. Мои шаги звенят одиноко и слишком громко. Притом, что у меня уже давно нет подковок на каблуках. Вот бы сейчас грохот стоял!
Где-то стучит одинокий ставень. Кроме этого слышу глухое громыхание, в котором безуспешно пытаюсь найти хоть какой-то смысл. От этого необъяснимого шума я даже съеживаюсь. Что же это: Кто же там так тяжело ступает? Не подкрадываются ли там, чтобы схватить меня? Напрягаю слух и очень медленно поворачиваю голову слева направо. Но все, что я улавливаю в этих шумах, является лишь повторяющимися с почти регулярными интервалами ахами и стонами. Где-то трется древесина по кранцам: движение воды переводится в звук.
На завтраке Старик снова жалуется на «компетенцию путаницы».
– Скоро больше никто не поймет, кто, за что отвечает и кто, что должен определять. Нельзя даже понять, кто сегодня играет здесь важную роль!
Никто не осмеливается произнести хоть слово. В конце концов, молчание за столом становится гнетущим. Но вот откашливается зубной врач и, сделав внезапно хитрое лицо, и дождавшись, когда несколько пар глаз устремили на него взгляд полный надежды, объявляет свою находку:
– Это всего лишь маневр, – сказала лисица, когда с нее стягивали шкуру через уши – чисто по приколу!
Несколько человек за столом решаются на ухмылку, адъютант напускает глупо-вопросительное выражение на свою кислую рожу. Очевидно, он не может представить себе какой-либо прикол над этой лисицей.
Старик сидевший опустив голову, теперь поднимает ее и гремит:
– Скоро сюда придут танки, господа! И тогда дело быстро примет другой оборот.
Дантист задерживает чашку на полпути ко рту.
– Или Вы, например, в этом сомневаетесь? – Старик спрашивает его так резко, что я не могу даже сразу понять, звучит ли его голос цинично или зловеще и коварно. Дантист сильно сжимает губы, рот его из-за этого становится таким широким, что он напоминает жабу.
Хоть бы он сказал, какую-либо, пусть незначительную пустую фразу, но нет: Он сидит со своей широкой лягушачьей пастью и только становится красным как свекла и лишь стреляет негодующим взглядом вокруг себя. Неужто дантист до сих пор не изучил своего командира флотилии?
– Любительский театр! – бормочу, когда сразу после этого выхожу из столовой за Стариком. Старик должен был услышать мои слова, однако, не реагирует.
– А кому мы действительно подчиняемся? – спрашиваю Старика, когда приходим в его кабинет.
– Начальнику военно-морского района! Я уже говорил об этом однажды! Ему также подчинена гавань, артиллерия береговой обороны и береговые зенитные батареи. И, кроме того, вся полоса обеспечения.
Повторяю для себя: военно-морские силы во Франции и Бельгии подчиняются командованию группой военно-морских сил «Вест», то есть, адмиралу Кранке. А за оборону побережья все еще отвечает Роммель? думаю тут же. Но он же ранен… Вся оборона лежит на главнокомандующем группы «Вест»: генерал-фельдмаршале Рундштедте.
Старик встряхивает головой, словно желая продемонстрировать свое неудовольствие, и продолжает:
– Собственно мы подчиняемся Начальнику военно-морского района только в вопросах гарнизонного значения – но не в дисциплинарном порядке. Для этого у нас есть наш КПФ. Он является также и нашим Верховным Судьей.
Старик вновь замолкает и морщины на его лбу становятся глубже. Но затем внезапно насмешливо улыбается и говорит:
– А если ты снова хочешь – и абсолютно точно – все знать: У нас есть еще и 2-ой адмирал, вице-адмирал Ширмер. Он опять отвечает за военно-морской арсенал и верфь, и хорошо в этом разбирается. Однако в гавани имеется еще и собственная командная власть – это начальник порта. Все, что касается обеспечения и безопасности гавани, подразделений охраны, противолодочных сетевых и боновых заграждений, наконец, это относится к его компетенции: все это головная боль начальника порта.
Мне остается только удивляться, как Старик во всем этом разбирается. На секунду остановившись, он делает глубокий вдох и продолжает:
– Но вместе с тем этого еще недостаточно: Мы имеем над нами еще также кучу господ от армии. Господин плацмайор, например, или по-другому штандорткомендант. Ему подчиняется Глава гражданской администрации. Канцелярия бургомистра также является областью его компетенции, так сказать. И он должен к тому же заботиться еще и о французских рабочих!
Судя по его тону, Старик все еще не добрался до конца всей этой канители.
– Кроме того, еще имеется Управление военно-морской базы гарнизона, – продолжает он, – со своей сворой маркитантов и интендантов, более или менее исключительно для придирок к нашим людям. И затем мы имеем, конечно же, еще и коменданта Крепости, пехотного полковника Мозеля, который был раньше командиром полка.
– Мне кажется, все же, что именно комендант Крепости должен был бы отвечать за всю полосу обеспечения, а не Начальник военно-морского района. Это, наверное, скорее подходит для пехоты – или нет?
– Вот в этом-то и весь вопрос – отвечает Старик.
Дни нанизываются на ось времени без особенных событий: временная прострация. Я почти страдаю по отсутствию спешки последних месяцев. Только не эта стагнацию…
Сообщения вермахта мы не только регулярно слушаем, но и получаем в письменном виде, они лежат распечатками – для ознакомления всего личного состава, но едва ли хоть кто-нибудь берет их с собой. Безразличие? Время от времени наблюдаю, как кто-нибудь берет листок и так долго держит его в руках, будто хочет заучить текст наизусть – и это всегда после того, как по радио передадут о так называемом «террористическом налете» и перечисляют города, над которыми прошел дождь из бомб. Кажется, что единственное, что люди хотят знать: был ли их город в этом списке.
Теперь извращенный образ жизни становится нормой – и давно уже больше не является ужасным исключением. Когда я размышляю об этом, то с трудом могу представить себе жизнь без войны. Эта война стала полностью нашим существованием.
Лежу у бассейна под огромной маскировочной сетью на тонком полотенце. Маскировочная сеть рисует на моем теле невообразимые пятна. Когда я как раз обдумываю, скольких процентов солнечного облучения лишает меня эта сеть, различаю далекие раскаты разрывов. Однако господа не позволяют расслабиться! Какой-либо придурковатый разведчик в небе, и тут же какой-нибудь зенитный расчет с важностью заявляет о себе. При этом летают братишки так высоко, что зенитки вовсе не могут нанести им какой-либо ущерб. Спустя некоторое время коллеги этой тяжелой зенитной пушки смолкают: снова царит тишина. Браво!
Вытягиваюсь во всю длину и расслабляюсь. Рассматриваю травинки, прилипшие мне на живот, затем делаю отжимы в упоре лежа и приседания, и наконец, вытягиваюсь снова и погружаюсь в дремоту. В полусне улетаю мыслями прочь из Бреста…
Глухие хлопки будят меня. Сразу же устремляю взгляд в небо. Но как ни напряжено ищу серебряные молнии самолетов и облака разрывов зенитных снарядов – ничего! И вдруг глухой взрыв раздается снова – сильнее, чем прежде.
Проклятье! Теперь он раздается высоко под крышей. Как-то не очень охота схлопотать пару-тройку осколков на неприкрытое тело. Против падающих осколков эта придурошная сеть не поможет. Но только не показывать никакой спешки, просто небрежно смахнуть руками полотенце: упорядоченный отход. Уходя, я опять рыскаю глазами по небу, разыскивая привычные глазу серые облачка разрывов. Поскольку не нахожу ни одного, то останавливаюсь: Следует более внимательно осмотреться. И правда, я слышу новые выстрелы – но вновь не нахожу облака взрывов. Хотя должен был бы увидеть их незадолго до взрывов. Это как при молнии и громе: сначала оптические феномены, и только после этого акустические – установленная последовательность. Но сейчас иное?








