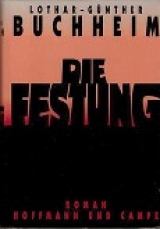
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 111 страниц)
– Итак, поехать автобусом и просто спросить? Как ты это себе представляешь?
– Попытка не пытка! – бросает Старик кратко и добавляет: – Выезд завтра утром, в пять. На первом перегоне должно быть светло. Минимум двадцать транспортов. По существу, все это уже организовано.
Я так растерялся, что могу лишь пролепетать запинаясь:
– … немного неожиданно все это.
– Ладно. Не забудь уложить свой хлам! – решительно произносит Старик.
Хочет ли он облегчить свою совесть, посылая меня с этим автобусом? Добивается ли он этим двойного эффекта: вытащить меня из Бреста, где уже скоро запахнет жаренным и одновременно сделать хоть что-то для Симоны?
– Может быть, было бы лучше, если бы я тотчас же отправился дальше в Берлин, – говорю наобум.
– Я бы так не делал. Самое лучшее для тебя – это сразу же вернуться сюда – что бы ты там не узнал. Здесь для тебя самое надежное место.
На лице Старика отражается работа его мысли. Внезапно я начал размышлять обо всех слухах за последнее время, о том, чего здесь все ожидают – и очень скоро – потому что Брест из-за своего огромного защищенного рейда является для союзников целью наивысшей важности. Старик должно быть уже давно размышляет о плане, как меня сюда вытащить. Он хочет, чтобы я, безразлично как зацепился за него. Для кого он так старается? Для Симоны? Для себя? Для меня?
– Ты должен очень осторожно прозондировать всю обстановку, – слышу вновь Старика. – Тебе надо что-нибудь придумать… Ты мог бы притвориться, например, что хочешь написать сообщение для роты пропаганды о данных по делу о предателях германской нации – ну, что-то в этом роде. Или еще какие весомые для тебя доводы. Любому другому это сделать было бы довольно затруднительно…
– Париж…, – бормочу рассеянно. Я не могу смотреть в лицо Старику. Поэтому цепляюсь взглядом за плинтус под окном. В моей голове звучат напыщенные строки: «Где расположен Париж? / Париж вот в этом самом месте / Руки по швам! Смирно!/ Нам он подходит!»
Меня так и подмывает спросить Старика о том, как все устроить: Как розыскать Симону без хотя бы самой незначительной протекции в СД или гестапо и имея на рукаве всего лишь одну круговую нашивку? Но вместо этого я только спрашиваю:
– Где должна толпа собраться?
– Перед вокзалом. – Там достаточно места. И после паузы: – Твои документы уже готовятся.
– Тогда, пожалуй, я лучше пойду и упорядочу мой хлам, – говорю и на этот раз подчеркнуто по-военному прикладываю руку к козырьку фуражки.
Блуждаю взглядом по комнате: с трудом верится, сколько же у меня накопилось всего! Где бы я ни бросил свои кости, в течение короткого времени возникает настоящий склад из связок рукописей, рулонов бумаги, папок с рисунками, книг, больших конвертов с вырезанными газетными статьями и bric-;-brac, которые я нахожу где-нибудь или которые просто прилипают ко мне, как муха к липкой ленте. И еще мое имущество из La Baule… Я расстилаю мои рисунки на полу, и испытываю счастье, что мне удалось спасти так много старых страниц с рисунками. Вот гавань Saint-Nazaire, два писаных акварелью рисунка из Pillau. Тогда во время работы над ними я почти отморозил пальцы. Небольшое количество этой акварельной краски, сразу кристаллизовалось на ледяной бумаге. Даже сейчас я могу узнать формы кристалликов льда в широких акварельных мазках: интересно. Вот акварели из Cete Sauvage. Он кажется дальше отсюда, чем луна. Туда я уже никогда больше не попаду. Какое счастье, что там я написал так много рисунков. Делаю три стопки из рисунков: хорошие, важные, ненужные. Затем уже сортирую эти три стопки, перекладывая рисунки туда-сюда. Это занимает добрых полчаса. Наконец, свертываю выбранные рисунки вопреки всем правилам так плотно, что они почти сплющиваются. Я не могу позволить себе вставить картонную гильзу как стержень, потому что должен все вжать в цинковую трубу, которую к счастью, будто в предчувствии, смог раздобыть неделю назад как водонепроницаемый футляр в мастерской жестянщика на верфи. Надо бы свернуть большие портретные рисунки, а позже снова разгладить – но отвергаю этот план: Будет слишком толсто. Стоит подумать, прежде всего, о фотопленках. Проявленные, проэкспонированные и неэкспонированные фотопленки: три категории, которые нельзя смешивать. Ведь я больше нигде не смогу достать неэкспонированные фотопленки. Я должен беречь свой небольшой запас. Чищу фотоаппарат, сдуваю пыль, дела идут хорошо, ловлю себя на мысли, как нежно я тружусь над аппаратом: старый добрый Contax. Снимаю объектив, натягиваю замок, отпускаю, снова тяну, прислушиваюсь, чтобы проконтролировать жужжащий звук при спуске: все в порядке.
Я знаю каждый винтик в этом фотоаппарате. На лодке U-96 я дважды разобрал его вместе с инжмехом на все его составные части. С тех пор я с ним на короткой ноге.
Внезапно во мне ключом бьет злой смех: А кто должен что-то сделать из моих запасов картин и рисунков? Кто должен поинтересоваться чемоданами на Нордендштрассе, если случай так повернется, что для меня не будет дороги назад? Кто вообще может выносить приговор о том, что можно увидеть на картинах, если он не имеет никакого понятия, как и где они были созданы? Фотографии без текста стоят немного. Зрители по большей части слишком тупы. Только немногие способны к активному видению. Нужно все объяснять… То же и с журналами боевых действий. Эти сухие тексты, которые действуют мне на нервы, совсем ничего не говорят невежде… Я могу накопить еще столько же или даже больше материала – но сам по себе он никогда ничего не расскажет. Что это за неудержимый инстинкт, что подстегивает меня снова и снова рисовать, фотографировать и писать? Менее всего это походит на давление.
А собрание книг! Я ставлю их к Старику в кубрик и туда же отношу бретонскую резьбу. А изделия из фаянса? Тоже в кубрик Старика. Образцы довольно странных высушенных морских водорослей, коллекцию предметов, выброшенных морем на берег – все это – по большому счету просто хлам… Но о чем я думаю? Кубрик Старика тоже пойдет к черту! Незачем себя обманывать: Здесь рано или поздно все пойдет прахом, не сегодня так завтра…
На этот раз у нас будет плохое прощание – навсегда. Похоже, шансы на то, что мы сможем снова увидеться равны нулю. Взвешиваю в руках набор керамических тарелок и мисок с изображенными на них бигуденами – старая посуда с прекрасной живописью. Затем по очереди: старую глубокую кастрюлю, дверцу шкафчика, богато украшенную декоративными резными элементами, два широких бретонских пояса. Все тщательно заворачиваю в овечью шерсть и укладываю в матросский чемодан… Теперь я должен со всем этим попрощаться: Ничего не могу взять с собой.
– Очковтирательство, куда ни посмотри! – возмущается наш доктор, когда встречаю его во дворе флотилии.
– Ничего плохого не вижу, – говорю осторожно.
– Да ладно Вам – здесь повсюду ложь и обман. Все давно превратилось в одну большую фирму обмана.
– Но Вы же сами в этом участвуете, – подначиваю его.
– Участвую? Что Вы имеете в виду? Я участвую в этом обмане? Но не Я же пишу статьи полные ликования.
Снова не узнаю доктора: Что это нашло на него? Этот человек просто кипит от ярости.
Мне не приходится долго ждать, того момента как я узнаю, что его так достало: Ему нужны кислородные баллоны для военного госпиталя, а он не может их получить. Какой-то более высокий рангом офицер верфи их все реквизировал.
Как будто здесь что-то зависит от собранного для сварки кислорода! Ради Бога, что здесь еще они хотят сваривать? За ужином Старик ворчалив и неподступен.
– Ты собрал весь свой хлам – ну, рукописи и тому подобное? – все же спрашивает он.
– Так точно! – давно… Однако кое-что я хотел бы оставить у тебя, если тебя это устраивает.
Старик только кивает в ответ.
– Ты вернешься, – произносит он помолчав. – Впрочем, с ранеными будет только один автобус.
– Мне это больше нравится.
Старейший командир флотилии, Робель, останавливает меня, когда я позже спешу к моему павильону, посреди темного двора, так что я сначала даже пугаюсь.
– Я непременно должен говорить с Вами! – говорит Робель. При этом он сильно пыхтит. Ему приходится спешить за мной через весь двор скорым шагом.
– Прямо здесь и сейчас? – спрашиваю растерянно.
– Да, пожалуйста!
Пока идем по темному двору я слышу:
– Шеф серьезно угрожал мне…
И затем Робель выдает всю его историю тоном конспиратора: Он выразил в разговоре со Стариком – сегодня после обеда – всего лишь обеспокоенность в отношении нашей окончательной победы. – Вот на этом самом месте. Тут Старик внезапно остановился и сказал ему: «Если ты и дальше будешь распространять такие пораженческие речи, то ему придется сообщить куда следует и как можно быстрее.» А мы же, при все при этом члены одного экипажа! – плачется Робель. Я бы охотно сказал Робелю «Идиот!». Но вместо этого делаю над собой усилие, и позволяю всего лишь одну фразу: «Вы виноваты сами!». Робель останавливается как вкопанный и, запинаясь, восклицает:
– Я? Почему же я?
Всей душой желаю, чтобы этот перевозбужденный человек оставил бы меня в покое. Тема мне максимально претит, да и двор флотилии – это не то место, клянусь Богом, где следует обсуждать этот вопрос: Кто знает, как далеко разносится возбужденный голос Робеля.
Пока я делаю пару глубоких вдохов, и при этом громко пыхчу, меня осеняет, и я говорю – наклонившись к Робелю:
– Чтобы мне понять суть Вашего вопроса я должен во всем тщательно разобраться и уточнить кое-что у Вас, – и, вероятно, также у Старика…
Совершенно не представляю, как мне следует взяться за это дело, но тут замечаю, что это может мне удастся в полутьме двора и при таком же мерном движении:
– Мой издатель, Вам следует это знать, сидит в настоящее время в концлагере. А что это значит, Вы, пожалуй, можете себе представить…
– А почему? – вскрикивает Робель.
– Да, почему? – мой голос звенит как эхо. – Все просто: Потому что он вел себя не так, как Вам шеф посоветовал. У него служил один человек, который говорил так же как и Вы, и он его не выдал. А он обязан был это сделать. Дело в том, что тот человек был закрепленным за ним агентом провокатором – и потому для моего издателя песенка была спета.
– Но шеф и я – мы ведь члены одного экипажа! Мы – друзья! – слишком уж громко возмущается Робель.
Чтобы как-то смягчать его, говорю тихим шепотом:
– Побойтесь Бога! Я тоже не вижу Вас в роли агента провокатора – но все-таки могу представить себе, что Вы когда-нибудь, где-нибудь однажды проболтаетесь…
– Я? – хрипит Робель словно ворона. – Как же я…?
– Ну, например, когда Вы поделитесь с кем-нибудь, кого Вы, как Вы думаете, хорошо знаете, тем, что Вы однажды высказали Старику свои сомнения относительно нашей окончательной победы. И тут Ваши слова попадут не только в уши Вашего знакомого, но и в еще чьи-то уши, и Старику мало не покажется, ему сильнее, чем Вам достанется, потому что он, в конце концов, здесь – шеф. И, кроме того, Вы должны знать – или, по крайней мере, предвидеть – что у нас здесь все делается подобным образом. Так сказать, в тихом омуте…
Проклятое дерьмо! думаю я при этом. Уже дошло до того, что мне приходится устраивать головомойку давно выросшему из коротких штанишек капитану третьего ранга, чтобы снова привести его на правильный курс. За что мне такое?
– Впрочем, он все же, даже в мыслях не допускает сообщить о Вас, но почему же?
– Так я…
– Если только у Вас нет…
Робель останавливается как вкопанный. Я делаю несколько шагов. Но Робель не движется.
– Чего у меня нет? – спрашивает он ошарашено.
– Уверенности в том, что война проиграна. Вы же все это не всерьез говорили! Иначе, это было бы слишком большая глупость!
Я широко улыбаюсь Робелю, полуобернувшись к нему. В слабом лунном свете могу видеть, что у него широко открыт рот, а верхняя губа так задралась, что видны все его лошадиные зубы. Эти большие зубы особенно отчетливо видны. А еще уши-лопухи: У мужика должно быть мозги совершенно пошли кувырком!
– Этим разговором, я полагаю тема исчерпана. Могу ли я пригласить Вас на бутылочку пива? – спрашиваю ласково.
– Пожалуйста – спасибо – пожалуйста, не теперь…, – заикается Робель. – Я должен собраться и преодолеть весь этот стресс, а потому я больше нуждаюсь в водке – и побольше.
И когда я уходя салютую, Робель запинаясь добавляет:
– Прошу Вас, никому не говорите о нашем разговоре!
Автобус.
Уже смеркается, когда подъезжает автобус. Быстрый взгляд на часы: четыре с небольшим. Автобус полностью забит ранеными. Только рядом с водителем сиденье еще свободно: мое место.
– А мои шмотки? – спрашиваю водителя.
– Я их уже разместил, господин лейтенант.
Мой автомат размещаю между нами. Старик появляется в купальном халате перед своим павильоном. Хочу попрощаться с ним, но он останавливает меня:
– Я прибуду позже на вокзал – на грузовике – чуть позже. Пока все организую…. Это, конечно, потребует времени…
Оберштабсарц подходит ко мне и пробует тут же раззадорить меня:
– Ну, как дела, Аника-воин?
Однако затем быстро переходит на служебный тон:
– Водитель был мной проинформирован, куда идет транспорт. Здесь в конверте адреса нескольких военных госпиталей – на всякий случай, если вас где-то не примут.
Поскольку я пристально, молча, смотрю на него, оберштабсарц добавляет:
– Я не думаю, что что-то пойдет не так. Все более или менее легкораненые. Я их уже наблюдал.
Забираюсь на свое место и повернувшись спиной к ветровому стеклу, говорю в автобус не смотря ни на кого отдельно:
– Доброе утро, парни!
– Доброе утро, господин лейтенант! – возвращается многоголосое эхо. Теперь мне, пожалуй, следует изобразить радость… Все глаза устремлены на меня, о, Господи! И я – в этом случае их Господь…
Пытаюсь смотреть в глаза одному за другим, и действую при этом так, словно хочу подсчитать находящихся в автобусе. Уже после четвертого, пятого ряда сдаюсь. Дальше позади я вижу только лишь белые поплавки голов: Перевязочные бинты, свежие повязки на головах. А еще и повязки из серых платков через грудь – перевязи для рук. Резко пахнет больницей, хотя несколько окон полуоткрыты.
Мне же, пожалуй, не нужно ничего говорить? Или, все же надо сказать пар слов? Но неожиданно для себя начинаю:
– Товарищи! Мы едем в Париж! Поэтому некоторые будут нам завидовать. Мы будем делать по пути небольшие остановки. Я знаю, как вам приходится стискивать зубы от боли… Но уже скоро все закончится! Если у кого-то есть вопросы, то давайте сейчас их решим… Мы едем в конвое, из-за бешенных партизан. Это проще – это значит: большая уверенность для нас. Спецрейс! Да еще в сопровождении. Нам больше пока ничего и не нужно, конечно!
Некоторые судорожно смеются. Я чувствую себя страшно тупым. Поэтому пытаюсь перейти к заключению:
– Сначала мы поедем на вокзал, там собирается конвой. А потом начинается наше путешествие! Ни пуха нам ни пера!
Пока несколько человек пытаются хлопать в ладоши, я обращаюсь к водителю: – Вы знаете дорогу?
– Так точно, господин лейтенант!
– С Богом!
Слава Богу: Водитель производит на меня впечатление приветливого и умелого человека.
– Справимся! – добавляю я, и водитель, всем своим покрасневшим лицом, ухмыляется в подтверждение.
Мы съезжаем с Rue de Siam, а я обдумываю, как организовать поездку в конвое: Надо попытаться получить место для нашего автобуса в конце конвоя. За нами должен ехать, по возможности, только грузовик – для подстраховки и прикрытия сзади… Эти свои мысли высказываю водителю:
– Мы должны попытаться стать в колонне как можно дальше – к корме поближе.
Так как водитель непонимающе косится на меня, я объясняю ему:
– Может так случиться, что нам придется останавливаться чаще, чем другим…
А затем объясняю ему тихо, чтобы не услышали сидящие за нами, мой настоящий план:
– Если придется горячо, мы становимся независимыми… Я не уверен в неуязвимости нашей колонны.
– Вы правы, господин лейтенант, – отвечает водитель и смотрит на меня благодарным взглядом.
Когда прибываем на вокзал, конвой уже собрался на площади перед ним, в целом добрых два десятка транспортов. Солдаты охраны сидят на своих грузовиках как «спартаковцы» с высокоподнятыми на плечах карабинами. На кабинах, между мешков с песком, укреплены пулеметы: Не хватает лишь пары трепещущих на ветру красных знамен… Давненько не бывал я на этой привокзальной площади. Толстые стволы безжалостно обезглавленных платанов выглядят так, как будто их разрисовали в тот же маскировочный цвет, что и грузовики. Этот вокзал олицетворяет собой идеал всего печального вокзального бытия: покрытый черной сажей, грязный, с оспинами выщербленной осколками бомб мостовой. Часы над главным входом, вероятно, стоят уже испокон века. Ветер носит грязь и пыль из воронок от бомб и руин, лежащих выше по склону. Прежде чем осознаю это, чувствую на зубах мелкий песок. Группы вояк, со своими перевязанными картонными чемоданами и коробками, лежащими в нагромождении тут и там на мостовой, пирамиды винтовок, несколько жестикулирующих и орущих унтер-офицеров – все это создает странное настроение: Полевой бивак в утренний час. Тут я обнаруживаю тучного капитана в бритвенно-остро отглаженных бриджах, который размахивает обеими руками в воздухе, напоминая шамана дикарей.
– Ведет себя, будто чокнутый! – раздается за спиной. Эти слова успокаивают мои нервы словно бальзам. Парни в автобусе, очевидно, потеряли все свое спокойствие или, по крайней мере, они просто дурачатся.
Разгорается спор о праве на руководство. Капитан стал свекольно-красного цвета и отчитывает какого-то обер-лейтенанта. Кто-то позади меня комментирует:
– Он же только мешает!
Два мотоциклиста несутся, словно на слаломе, между легковушкой и грузовиком. Грохот их двигателей на секунды заглушает рычание капитана.
– Тупой хвастун! – слышу сзади.
А это что такое? Вижу толпу спешащих, будто в панике, девушек, в руках картонные чемоданы и коробки. Маринехельферин! Сразу со всех сторон раздаются слова приветствий, свист, шуточки. Если бы не чемоданы и выемки, девушки-молнии напоминали бы галдящий пансионат для девочек. Девушки поднимаются и рассаживаются по обоим бортам кузова одного из грузовиков.
– Что за кавардак! – говорит наш водитель.
– Просто упрямо стой на своем месте в колонне, когда все наладится, – советую ему.
– Ну, я все еще там…
В это время появляется Старик со старпомом, и я снова выбираюсь из кабины.
– Как самочувствие? – интересуется Старик.
– Скверное! – отвечаю тут же. – Взгляни на все это!
Старик слушает меня вполуха: Он наслаждается царящей вокруг неразберихой. С грузовика, на котором разместились маринехельферин, раздается визг, они словно курицы сидят за водительской кабиной и визжат. Судя по всему, водитель грузовика, к их удовольствию, рассказал им сальный анекдот.
– Славная будет поездка! – слышу, как Старик говорит старпому.
Наконец, начинаем движение. Старик протягивает мне для прощания свою правую руку, когда я уже снова сижу в кабине. Сильное рукопожатие и вместо нацистского приветствия, рука в салюте у козырька фуражки. Вот так-то! На черепашьей скорости объезжаем кругами первые кварталы. Мы фактические в корме колонны. Водителю то и дело приходится резко тормозить, а потом опять трогаться. Снова внезапно останавливаемся – и снова вперед. Некоторые из раненых громко стонут за моей спиной. Наконец, водитель упрямо остается на первой передаче. Оберштабсарц хорошо сказал: более или менее легкие случаи! Наверное, для него тяжелым случаем может быть лишь тело без головы. Дьявольски плохое начало. Эти армейские братишки даже в колонне ездить не умеют. Мотоциклисты мчатся мимо нас как бешенные. Можно видеть, как важно и импозантно они сидят на своих мотоциклах. Очевидно, они чувствуют себя как овчарки сбивающие стадо тупых овец. Я уже неоднократно проезжал этой дорогой от Daoulas до Le Faou. Я нашел бы дорогу даже в темноте, но теперь смотрю на все новыми глазами: Впереди у меня небольшое поле зрения, так как мы едем на довольно близком расстоянии к движущемуся впереди транспорту, а потому я пристально всматриваюсь в территорию справа, в отдельные дома и уличные постройки, и время от времени перевожу взгляд налево над руками водителя на рулевом колесе. Когда мы движемся посредине дороги, я вижу дома по своему борту аж до самых крыш. Невольно скольжу взглядом по окнам. Особенно по окнам полузакрытым Volets. Daoulas – это местность пользующаяся дурной славой. У меня снова звучит в ушах наполовину скрытое предупреждение Старика. Возьму-ка я лучше в руки свой автомат и положу к себе на колени. Да и их лучше тоже подтянуть. Так отвратительно как в этой чертовой колымаге я давненько себя не чувствовал. Я сижу в ней как сардина в консервной банке. Или как в заднице! У меня перед глазами, как наяву, стоят большие машины ППС Хемницкой полиции: Они были практичны – сдвоенные подножки по обе стороны машины по всей ее длине и никаких дверей, только бойницы в боковых стенках. Пять десятков шупо со своим длинными резиновыми дубинками вылетали на улицу из машины так быстро, словно ковбои на мустангах. А у нас здесь? Как нам выскочить из этой жестяной тюрьмы, если дела пойдут слишком быстро и горячо? Две тесные дверцы: Даже когда этот проклятый кузов вспыхнет, бедняги позади меня не успеют выскочить. Они все преданы и проданы, если наша поездка закончится неудачей. «За компанию и монах женился!» Что за глупая поговорка! Мы как раз в этом чертовом автобусе, чтобы нас со смертью не оженили.
– Вы выбрали правильный маршрут в направлении Родины, смельчаки! – звучит в ушах возглас одного из бойцов на вокзале, когда мы отправлялись. Но для возвращения на Родину, мне любая списанная в металлолом тележка была бы дороже, чем эта банка сардин.
Подвеска тоже никуда не годится. Автобус! Звучит великолепно. Но в чем его преимущество для больных и раненых перед открытым грузовиком? Когда проезжаем по Le Faou, водителю приходится внезапно резко остановиться. И тут же перед нами раздаются пять-шесть хлестких выстрелов. Вызвал ли я своими размышлениями такую судьбу? Уже даже нельзя больше думать?
– Что случилось? – ору из открытой двери на мотоциклиста. Но тот спешит вперед. Оттуда тоже доносятся крики. Затем снова слышу несколько выстрелов.
– Вот дерьмо! – ругается водитель.
– Позже все устаканится, – отвечаю ему. – Нам надо всего лишь выбраться из этой местности.
– Все будет в порядке, господин лейтенант! – произносит водитель и смотрит на меня ясным взглядом: хороший человек.
Но уже вскоре дела далеко впереди, очевидно, пошли под лозунгом: «Спасайся, кто может!» А мы оказались зажаты в этом капкане – зажаты и дьявольски беспомощны. Снаружи раздаются страшные вопли и крики боли, а позади меня стоны нескольких человек. Из стоящего перед нами грузовика выпрыгивают солдаты и стоя стреляют веером направо и налево. Поскольку все происходит внезапно, то выглядит неправдоподобно, напоминая скорее фильм-боевик, а не реальность: двое раненых, которые крутятся и извиваются на дороге, на какое-то мгновение напоминают плохо играющих статистов. От сильного испуга я не знаю, что должен делать. Святый Боже, это становится чистой резней! Прижавшись к стене дома, сгибается один боец и держится руками за живот. Кишки вылезают у него между пальцев. Выглядит так, как будто он крепко держит две горсти корма для собак. Должно быть, нападающие скоты используют миномет. Или это звуки разрывов ручных гранат? Может они забрасывают нас ручными гранатами с верхних этажей зданий? Короткими вспышками, посекундно вырываю происходящее как короткие врезки: Полная сумятица. Вот один солдат стреляет с автомата с бедра, несколько других падают как изломанные складные метры. Далеко впереди, в окнах верхнего этажа темно-серого здания сверкают, вспыхивая всполохи дульного пламени. Проклятье: Неужто никто не видит, что происходит там наверху? А сейчас – оттуда сверху действительно бросают гранаты. Вот говно! Если бы только мы смогли занять такую же позицию на крыше – но об этом нечего и думать!
Мы – в целом почти сотня человек и стоим здесь совершенно беззащитные. И мой автобус – битком набитый, тоже стоит неподвижно. В засаду въехали! Проклятое дерьмо! Жалкий корпус нашего автобуса слишком длинный чтобы здесь развернуться. Но даже если бы мы смогли развернуться на этом пятачке, мы едва ли выбрались бы целыми отсюда.
Внезапно беспорядочная стрельба стихает – ее как отрубило. Только впереди раздаются короткие автоматные очереди, бой продолжается. Но тишины не наступает. Я слышу, как громко кричат раненые. Несколько девушек тоже ранены. Они кричат, взывая к состраданию Бога. Кто-то кричит:
– Санитар, санитар!
Этот вопль звучит в моих ушах странно старомодно. Если бы я только смог увидеть больше в конвое и на дороге, чем несколько машин перед нами и группу бойцов вокруг тяжелораненого. Далеко спереди, это мне хорошо видно, транспортные средства конвоя стоят вдоль и поперек на улице. Очевидно, некоторые хотели развернуться. Теперь слышу крики петухов, лай собак. Они звучат как насмешка. Дикое желание расстрелять этих петухов и собак, нападает на меня. Хочу отправиться вперед и узнать, что решили капитан и его визирь, но в то же время не хочу покидать автобус. Тут я вижу, как стрелок-мотоциклист приближается к автобусу и спрыгиваю на улицу, чтобы разузнать обстановку.
– Что случилось? – кричу громко, стараясь перекричать шум его мотоцикла.
– Вам следует немедленно вернуться в Брест! Проезда нет! Дорога впереди взорвана и обстреливается, господин лейтенант! У них минометы!
– А как нам здесь развернуться? – кричу слишком громко.
– Двигайтесь задом – до перекрестка!
Впереди снова слышны отдельные выстрелы. В правом борту автобуса насчитываю с полдесятка пробоин. И при этом никаких новых ранений, никаких попаданий в колеса, никаких серьезных пробоин – чистое чудо! Хорошо, что мы были в хвосте колонны далеко позади. Тошнит от мысли, что не могли раньше разведать эту дорогу. Улица в этом тесном месте между жалкими домишками оказалась превосходной засадой. Оба водителя за нами тоже оказались не пальцем деланные. Они спешно отъезжают назад.
– Давай назад! – кричу водителю, когда залезаю на свое место. Теперь он должен показать все свое умение.
Люди позади меня стонут. Я слышу, как один жалобным голосом спрашивает:
– Где же мы?
– В заднице пророка, – раздается в ответ.
Итак, назад в Брест! И я спрашиваю себя: Если теперь начнется большой маневр разворота, а господа террористы все еще будут поблизости, тогда «Каски долой и помянем погибших!» станет самой уместной песней? То, что вопреки нашим долгим поворотам – разворотам все прошло без ущерба для нас и нашего автобуса, я отмечаю как новое чудо. Однако мне пришлось изрядно наглотаться при этом пыли. Весь автобус словно припудренный пылью. Во время обратной поездки я ощущаю необыкновенное спокойствие. Ощущаю себя униженным, выдохшимся и полностью дезориентированным. Все! Баста! – бормочу себе под нос. Смотрю пристально прямо перед собой через ветровое стекло, но не вижу расстилающуюся передо мной улицу. Мне следует собраться, нельзя раскисать! Проклятье: за нами, наверное, опять наблюдают! Невольно снова и снова изучаю дома, наилучшим образом подходящие для нападений. Скорее всего, это предприятие было с самого начала обречено на неудачу. Дилетанты до невозможности! Во мне ключом бьет ярость. Вверху, в горле она становится толстой как пельмень: просто цирк!
– Говно! – вырывается у меня невольно.
Мне следовало бы воздержаться от этого высказывания: Водитель недоуменно смотрит на меня. Сзади в автобусе кто-то нервно всхлипывает. Бедняги! Они уже видели себя дома или, по меньшей мере, в приличном военном госпитале. А теперь? Все надежды рассыпались прахом! Почему они не послали вперед разведмашину, чтобы все разведать? Почему никто не подумал разведать улицу перед нашим конвоем? Почему никто не поинтересовался этими домами, которые прямо-таки созданы для засады? Почему не установили четырехствольную пулеметную установку с защитными щитами на средний грузовик, если уж нельзя было послать с нами танкетку? Эти гребанные носители отутюженных бриджей, это же не солдаты – а просто статисты, Жигало! В то время как мы катим дальше в западном направлении, в моей голове проносится масса беспорядочных мыслей о хвастливой болтовне о вундерваффе, об опустошительных последствиях Фау-I, о новых подводных лодках с двигателем Вальтера! А вот здесь, конкретно, у нас не было одного единственного танка! Грофац, Юпп, туша Геринг – этот вообще – наш геральдический имперский егермейстер! Они только раскрывают свои пасти, но так дело не делается… А мы вот сейчас везем – и это уже злая шутка! – гораздо больше раненых, чем было запланировано в Бресте. Они кровоточат свежими ранами и плохо перевязаны и как животные жалобно скулят постанывая. Я чувствую себя усталым и вымотанным, хотя при этом я не устал, а странно перевозбужден. Пот течет у меня из подмышек по ребрам вниз.
Все это выглядит явно не таким триумфальным, как предполагал Старик!
Когда мы проезжаем ворота флотилии, я слышу, как кто-то позади меня ревет из окна автобуса:
– Ну, вот мы снова здесь!
Другой в тон ему громко улюлюкает. Он не единственный, у кого сдали нервы. Часовой у ворот удивленно пялится на них.
Тут мое терпение лопается, и я кричу ему:
– Предупредите оберштабсарца! И быстрее!
А теперь по двору к Старику. Я громко стучу в дверь, и затем подчеркнуто молодцевато рапортую:
– Наше предприятие потерпело неудачу. На нас напали маки;. Автобус с ранеными прибыл назад. – И затем добавляю: – Полное дерьмо! Это была катастрофическая неудача, как пишут в книгах.
А чтобы еще более усугубить меру моего унижения, в кабинете Старика, во время моего доклада находится и зампотылу. И ухмыляется. Ярость вскипает во мне: Старику следовало бы еще и адъютанта вызывать, чтобы представление удалось.
Тут слышу голос Старика:
– Бедолаги! Оберштабсарц уже в курсе?
– Так точно – я вызвал его при въезде во флотилию.
И смолкаю.
Наконец, Старик приходит мне на помощь и говорит:
– Вот черт, тут ничего не поделаешь.
Зампотылу больше не ухмыляется. Вид такой, словно я пнул его коленом в живот.
Теперь мы втроем стоим перед большой настенной картой Бретани.
– Где это все произошло? – спрашивает Старик.
– Сразу перед выездом из населенного пункта Le Faou.
– Ну конечно!
В то время пока Старик скользит пристальным взглядом по карте, в моей голове мелькает: А почему, собственно, я чувствую себя этаким виноватым неудачником? Разве я потерпел неудачу?
– А как все в целом происходило? – Старик хочет знать теперь подробности.








