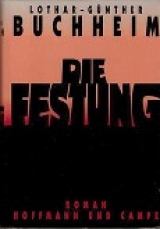
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 111 страниц)
Золотая и серебряная вязь на предплечье – а именно здесь центральная точка композиции – на Денице: одна широкая и четыре узкие полосы. У других персонажей я не могу нарисовать руки полностью, поэтому руки их либо за спиной, либо согнуты. Не забыть об орлах на правой стороне груди. Деницу нужно на левой стороне груди добавить значок подводного флота и, конечно же, золотой значок члена нацистской партии!
В полный рост! Проклятье! Как мне их всех разместить на низких стендах этой крохотной комнатушки? Ноги я им обрежу: они будут скрыты за столом с картами. Одна из карт свисает, образуя равнобедренный треугольник с передней стороны стола. Это сделать просто. Голландцы здорово потрудились над написанием своих многоперсонажных картин с расположением всяких высочеств в эпизодических сценах. Но чего им, на мой взгляд, надо было бы избегать, это узости пространства картины. Однако я тоже хочу этого достичь. И вместо театра, этакий оцепенелый паноптикум, обостренная умственная работа – застывший Дениц, заставляющий застыть все вокруг.
Меня так и подмывает нарисовать Деница в качестве глашатая смерти в манере гравюры на дереве Ретельшена или в танце смерти под Базена: как дико жестикулирующего скелета с гигантским шлейфом цепляющихся друг за друга утопленников и шлейфом из вытянутых, уродливых человеческих тел в оставленных повсюду, уходящих вдаль, следов его костлявых ног.
«Cui bono?» – свербит вопрос голову. Что значит вся эта чепуха? Но может мне удастся отложить эту работу? До конца? Делать промежуточные рисунки и отправлять их в Берлин, с тем, чтобы они видели успехи в работе, а также и некоторые недочеты, над которыми я работаю. За пару-тройку дней надо подготовить объем работы и тем выиграть время для собственных нужд: было бы здорово, если бы мне это удалось.
Окунемся-ка в суровую действительность: для начала мне нужна большая рама для натяжки холста, а именно крепкая, клиновидная рама с широким средником без перекосов. Эту раму надо разместить на узкой лестничной клетке, не заворачивая за угол, но прикрепить ее на фронтоне, над балконом было бы чистым безумием. Столяр Флоссман мог бы изготовить ее за полдня: военный заказ! Придется потерпеть. Отсутствует и плотная бумага нужной ширины для рисования – примерно в 150 сантиметров. Для того, чтобы ее раздобыть мне надо выехать в Мюнхен. Там у меня есть поставщик, живет прямо напротив академии, и его не разбомбили. Это значит, что его дом на углу потерял лишь крышу, но все еще стоит, высокий и солидный, и магазин на первом этаже также работает по-прежнему. Подытожим. Уголь, черный и белый мел, болюс красный у меня есть. Есть портретные наброски Эндрасса и Топпа, которые я, слава Богу, прихватил с собой из Академии, с другими персонажами труднее: у меня есть лишь их фотографии. Придется здорово попотеть над ними. В случае необходимости отдельные лица придется поместить в полутьму, либо обойтись изображением их в профиль.
Если бы я работал лишь болюсом красным, черным и белым мелом, то быстро продвинулся бы вперед. Для того, чтобы обозначить определенные места белым мелом, мне потребуется серый фон. Такой фон могу подготовить широкими мазками разведенной туши: просто мазок за мазком покрыть всю поверхность бумаги. Я уже несколько раз применял этот способ. Если бы меня подгоняли какими-либо приказами или сроками, я сотворил бы этакую покоробленную поверхность для настоящего рисунка маслом – и, если набросок удался, то уже у короткое время сумел бы выдать требуемый результат.
Каждый день забит до отказа ручной работой и приведением в порядок десятков мелочей, так что вечером я едва ли помню, как провел этот день.
Каждый день добавляет мне и хозяйственные хлопоты: нужен огонь в плите и тогда туча сажи взметается из печной трубы на камбузе. Трубы забиты и в этом причина того, что в камине нет тяги. Все, что сжигает старая ведьма у себя внизу, обволакивает вонью весь дом, т. к. чад не может найти выход.
Поэтому остается лишь радоваться тому, что до наступления сумерек, мне удается набросать несколько рисунков. Самостоятельное ведение дома отнимает от работы львиную долю времени. Симоны нет. Насколько все было бы проще, если бы Симона была здесь.
Получаю еще одно письмо от господина Доктора Бюнемана, и оно полностью отрывает меня от работы: Доктор Бюнеман, искусствовед и богатый коллекционер, которого я случайно встретил в Мюнхене при покупке материалов, пишет, что он имеет точные сведения, о том, что выполненная в полный рост скульптурная группа из шести жителей Кале, в еще довоенной отливке из Бельгии, была вывезена и сокрыта в одном немецком замковом парке. Об этом почти никто не знает. Замок расположен между Аммерзее и Ландсбергом. Туда можно добраться только на машине или теперь только на велосипеде. Через два дня они приезжает в Фельдафинг и мне необходимо его встретить, после чего мы сразу же потопаем в то место. Случай исключительный. Никогда в жизни он более не подвернется.
Значит надо доставать из сарая свой старенький велосипед. Последний раз я доставал его года четыре тому назад. Купил я его уже тогда, когда ему исполнилось 12 лет, за 10 марок у своего учителя истории в Шнееберге. У него есть муфта свободного хода. Спицы совсем проржавели, кожаное седло стало как камень. Не известно и то, действует ли динамо.
На вокзал я приезжаю тогда, когда Доктор Бюнеман, который значительно старше меня, вытаскивал из багажного вагона свой велик. Он уже даже защемил снизу брючные зажимы.
– Попьем чай или сразу в путь? – интересуюсь, подъезжая к нему.
– В путь! – решительно произносит Бюнеман. – Туда долго ехать, и все время по горам.
У Бюнемана на ногах высокие черные ботинки на шнуровке. Он выглядит слегка постаревшим. Но лицо по-прежнему сохраняет детское выражение.
Езда на велосипеде с тяжелыми колесами – я ласково называю его «спотыкающийся ослик» – довольно непривычна на дороге в Диссен: приходится то опускаться, то подниматься по вздымающейся и опускающейся среди гор дороге – и так утомительна, что расчетное время абсолютно не вписывается в график Бюнемана.
Когда мы, наконец, приближаемся к основной горной дороге и она, круто взмывает вверх, двигаться на велосипедах становится еще более проблематично, поскольку дорога представляет собой нагромождение каких-то ям, провалов и насыпей.
Внезапно вижу несколько человек в полевой форме с карабинами на плече – а затем, за небольшим поворотом, в траншее – странную группу из фигур в раскрашенных вертикальными черно-белыми полосами робах. На долю секунды я оцепенел. Затем до меня дошло: это заключенные концлагеря, впервые увиденные мною наяву – лагерники! Безо всяких сомнений, эти изможденные, страшно истощенные люди могут быть лишь заключенными из концлагеря. Они должны, судя по всему, копать эту траншею, но едва ли хоть один из всей группы, человек в 20, может это делать.
До меня доносится, словно шелест ветра, их шепот: «Сигарету!». И опять: «Сигарету!». И тут до меня доходит весь ужас моего положения: у меня нет сигарет! Взглядом спрашиваю Бюнемана – у него тоже нет. Стою, опершись на велосипед, и пытаюсь жестами показать, что мы оба некурящие. При этом я готов сквозь землю провалиться от стыда.
Один из часовых, уже довольно пожилой человек, направляется к нам и, остановившись метрах в десяти от нас, качает головой: «Проезжайте дальше! Не разговаривать!»
Некоторое время стою, как вкопанный, но Бюнеман хватает меня за рукав и тянет дальше.
Когда выходим на свободный от препятствий участок дороги, вновь садимся на велосипеды. Бюнеман бледен как лист бумаги. Слышу его приглушенный голос: «На вас нет формы! Вы, что, забыли ее одеть?»
У меня же перед глазами стоит лицо одного из увиденных лагерников: лихорадочно горящие глаза в глубоких глазницах, запавшие щеки, тощая шея.
– Они, наверное, из Дахау! – произносит Бюнеман.
С тоской вспоминаю свой домишко: с удовольствием вернулся бы! Но не могу предложить это Бюнеману.
Увиденная мною картина полуголодных заключенных настолько взволновала меня, что пару раз, в глубокой задумчивости, сваливаюсь с велосипеда, а один раз, словно во сне врезался в придорожное дерево, после чего долго приводил в порядок и себя и велосипед. В конце концов установил руль в правильное положение по отношению к переднему колесу, и динамо вернул в исходное положение. При этом параллельно с установкой ругаюсь как сапожник и говорю: «Не так-то уж много и проехали, а дела совсем неважнецкие!»
Только во второй половине дня Бюнеману удается, наконец, найти тот самый парк. Ворота открыты, и мы просто проталкиваем велосипеды и быстро выходим из тени деревьев на свет. Какой-то момент я думаю: «Мы похожи на пасущихся косуль, которых в следующий миг прихлопнет какой-нибудь браконьер» – и представив эту картину, усмехаюсь. Бюнеман тут же вздрагивает. Он стоит, одна рука посреди руля, другая на седле, и недоверчиво поглядывает на меня.
В эту же секунду замечаю в кустах темные силуэты, словно готовых к нападению людей. Молниеносно соображаю: вот они, бронзовые фигуры Родена, и тут же испуганно вздрагиваю. Испуг, удивление, восхищение открывшегося чуда – все в одном: группа из шести человек, в рубищах, каждого узнаю сразу по виденным ранее иллюстрациям, фактически в полный рост. Могу дотронуться до них, но не осмеливаюсь. Надо сначала поставить велосипеды. Прислоняем их к стоящим рядом тоненьким деревцам.
Наступает черед Бюнемана, который получил ученую степень Доктора на этих крестьянах из Кале. Он знает о них все: вторжение англичан, нужда в городе Кале. Аркебузьеры, алебардисты, копьеносцы, полевые укрепления …. Год 1347. Шесть патрициев, желающих в духе христианского самопожертвования защитить свой город от грабежа….
Сидим на поваленном дереве, и Бюнеман читает мне лекцию, словно на семинаре:
«Хроника столетней войны между Англией и Францией была источником вдохновения для Родена. Полное название этой композиции: ««Как король Франции Филипп не мог больше освобождать город Кале, и как король Англии этот город завоевал»».
Искусствовед Бюнеман знал даже то, как звали бургомистра Кале: мессир Жан Д’вьенн. И самого богатого горожанина, который самым первым захотел принести себя в жертву: Осташ Д’Санпьер. Это было поэтическое вдохновение, которое, как я слышал, так глубоко захватило и осчастливило Родена, что он далеко возвысился над пошлой условностью почетного художника. Никакой героизации – хотя элементы его присутствуют, т. к. Роден работал над монументальным символизмом, в духе своего времени, такого решительного самопожертвования. К тому же это попытка непосредственного представления немого языка фигур в жертв принесенных на алтарь свободы своего города. Мысли уносят меня к Эрнесту Пенцольду, лежащему в больнице Штарнберга. У меня есть этюдник с фототипиями издательства Мюльхаузен Браун. Я размещу их у него в палате по стенам, и расскажу содержание этого вечернего урока по истории искусства: она развернется перед ним как сценическая постановка.
Что за мир! Как он закручен! Дрожащие от холода и голода заключенные в своих полосатых робах и здесь же бронзовые фигуры с веревками на шеях, с жалкими, пустыми глазницами. А в моей комнатушке, на раме, Дениц со своими ассами….
Кошка старой ведьмы убила 8 зайчат. Они лежат на перекосившейся поленице дров. Черная кошка, с сонным взглядом блестящих глаз: убийца зайчат!
Мне нужна модель. Не могу больше работать без модели. С почты звоню в Мюнхен офицеру связи ВМФ при Генеральном штабе на Шенфельдштрассе. Хорошо знаю его и поэтому нам не нужно нести по телефону всякую официальную чепуху. Он живо интересуется, куда это я пропал.
– Мне нужна модель, мужчина, ефрейтор какой-нибудь, но не слишком глупый. Хотя все равно. Если получится, то на одну неделю, каждое утро, часов в 9 у меня в Фельдафинге. Провизию пусть берет с собой. Так, а теперь даю точное описание маршрута…
Заканчивая разговор, добавляю:
– У меня здесь есть настоящая морская форма на человека нормальной комплекции.
В Академии я разжился одетыми в форму манекенами в человеческий рост. Куклы стоят тихонько и ни один мускул не дрогнет на их бесстрашных лицах. Однако кроме них мне нужен и живой человек.
На следующее утро на пороге возникает некто в сапогах, на голове – пилотка, за плечами вещмешок. Хитрое лицо. Говорит, что вообще-то он инженер и проживает в Мюнхене, у себя дома. Прикомандирован ко мне, т. к. состоит на учебных курсах. Однажды он уже служил моделью – но это было в далекой молодости – у одного скульптора.
Даю ему свою синюю форму. Он одевает ее на балконе, а затем становится, безо всяких знаков отличия, главкомом ВМФ. Моя модель получает свой стол, чтобы опереться на него правой рукой с растопыренными пальцами, а в левую даю ему пару листов бумаги.
– Так, а теперь замрите, взгляд устремите в бесконечность…
Он не представлял себе, что это будет все так просто, замечает ефрейтор, которого зовут Шуман.
– Через два часа вы заговорите по-другому! – отвечаю, и начинаю творить. Но уже скоро замечаю, что для героев стоящих на заднем плане у меня может не хватить места. Здорово повезет, если удастся совместить все пропорции.
Дождь льет как из ведра целую ночь. Низкие луговины превратились в озера. Этот ливень вовсе е напоминает мягкий майский дождик. Tant pis! Но что поделаешь? Надо тянуть свою лямку!
Испытываю дикое желание проехать на велосипеде под дождем в Штарнберг. заворачиваю этюдник с рисунками, которые хочу показать Пенцольду, в старый плащ. Надев зюйдвестку и непромокаемую одежду, выезжаю: моряк в Верхней Баварии.
В комнате Пенцольда на стене висит целая выставка роденовских «Горожан»: каждый лист я заботливо прикрепил кусочками пластыря к картону.
Когда, закончив, присаживаюсь на стул возле «Папаши» и обвожу взглядом висящие оп стенам рисунки, меня осеняет сумасшедшая мысль: слишком уж символичны все эти рисунки – веревки на шеях слишком ясно напоминают нашу собственную ситуацию. Но какое дело до нас господину Родену?
Погода все еще плохая. На лугу Хайнцельмайера, за прожекторной установкой, пасутся под дождем коровы. Дует восточный ветер. Он так ясно доносит до меня звуки колокольчиков, что, кажется, будто коровы ежеминутно отбивают склянки. Где-то в глубине у меня закрепляются образы: уголь, дрова, шумит вода, от крестьян из Вилинга приносят молоко, каминный веник. Кстати, нужно добыть хотя бы один веник, чтобы почистить камин, т. к. он абсолютно запущен. Вероятно, надо попробовать разжечь камин. На правую руку Деница накладываю углем морщинки – дело идет неплохо. Но как мне удастся изобразить в полный рост фигуру, служащую ядром картины, так, чтобы она вышла в фас, не представляю. У моего Деница пока еще нет головы, поскольку я еще не справился с этим костлявым лицом и выпирающим лбом.
Пытаюсь выписать глаза с твердым металлическим блеском, но никак не могу добиться «стальной твердости». Папаша Шульц на заднем плане не вышел похожим на оригинал. Его голову тоже надо переделать.
Не могу ли я одолжить ему на время «Букварь», попросил меня на второй день ефрейтор и показал на полку, где он его высмотрел.
– Говорите шепотом, когда вам надо что-нибудь почитать или посмотреть…
В полдень заявился карлик Хёршельман, балтийский барон, клеветник и доносчик. Он не хочет признаться мне, откуда ему стало известно о моем приезде. Он до коликов в животе рассмеялся, увидев моего безликого Деница в окружении ассов подводного флота.
На четвертый день мой ефрейтор не явился. Вместо этого меня посетила очень худая, высокая блондинка – его жена. Ее муж, объяснила моя фея, должен быть на курсах, поэтому, если я хочу, то она будет заменять его. Только, уж извините, она не смогла заранее созвониться со мной. Кстати, муж много хорошего рассказывал о своем художнике. Вот книга, которую вы ему одолжили…. Смогла ли она позвонить в Генштаб на Шенфельдштрассе и договориться о замене? Увы, ее телефон не работает.
Спокойно! – командую себе. Чего это ты так разволновался? Если уж тебя посетила на дому гостья, то нужно хотя бы чай предложить – в конце-концов, у меня есть еще чудесный, настоящий чай.
Исчезаю в расположенном напротив камбузе и занимаюсь плиткой подключенной к газовому баллону. Обе двери оставляю открытыми и говорю, обращаясь к гостье:
– Нет, сейчас у меня все получится и без модели. Большое спасибо! Сейчас все будет готово… Торт и сливки попозже.
Моя гостья появляется в проеме дверей и нежно подает мне в руку чайную чашку.
– Я уже все сделала, – долетает мягкий голос.
Хочу объяснить, где находится то да это, но моя дама полагает, что она уже справилась. Ее очень смешит, что у меня нет водопровода. Как же я обхожусь зимой?
– Зима, – отвечаю, – не проблема. Цистерна еще никогда не замерзала, а вот жарким, сухим летом воды часто не хватает.
Могу ей говорить просто «Хельга» вместо «госпожа Шуман».
Хельга много смеется. Она находит, что я не только живу на природе, но именно в ней. Кажется, Хельге это очень нравится.
Моим прежним подружкам тоже здесь всегда нравилось. Бретонские керамические сосуды и румынские гобелены на стенах, турецкий ковер на дощатом полу: чем не кунсткамера…. Ум Хельги вероятно более, чем у других моих подружек, практического склада. Позволяю себе спокойно присесть на балконе, поскольку Хельга начала хлопотать в комнате…
Проходит немного времени и Хельга показывает свои блестящие способности и в качестве стенографистки: мне нужно было только сказать, что она должна написать, как она немедленно это исполняла.
В какой-то степени я даже немного смущен, у меня тяжело на сердце. Но на оттенок более близких отношений надеялся напрасно. Установившееся в моей комнате настроение более всего похоже на послеобеденный полдник. Вполне ladylike! Высмеиваю исподтишка свою гостью, и говорю себе: эта худощавая блондинка, более похожая на хворостинку, с легкими, скользящими движениями, вовсе не мой тип женщины. А что вообще значит мой тип женщины? Что-то материнское, что-то домашнее? Женщина, стремящаяся к чему-то высокому? Никогда не встречал таких.
Как и обещала, Хельга приезжает и на следующий день и серой мышкой скользит по комнатке. Не чувствую себя ущемленным ее присутствием, и тем, что она хочет взглянуть на мою работу. Уже 10 часов. Хельга живет в Швабинге, центральном районе Мюнхена, значит, ей пришлось вставать довольно рано.
Она привезла с собой немного съестного, прежде всего картофель и половину испеченной ею Ром-бабы. Во второй половине дня ей надо спешить: она должна быть в Мюнхене до вечера.
Неплохо, говорит мой внутренний голос. Никаких осложнений, иначе другая дама нескоро появится у меня.
Хельга уже давно наводит порядок. Набор подушек на кушетке в моем кабинете, судя по всему, ей не очень понравился. Обнаруженная ею какая-то часть женского белья оставляет ее безмолвной, и она просто убирает его в мою спальню.
Хельга, которую я втайне называю «модельная супруга», говорит, что хотела бы проверить в действии мою пишущую машинку. То, что я обычно всегда писал от руки, она охотно перевела бы в аккуратные страницы рукописи.
Я уже готов капитулировать перед этой необычной женщиной. Нужно переписать на пишущей машинке бесчисленное количество страниц. Показываю Хельге, где лежат бумаги, тонкие листы копирки и вручаю ей одну папку с парой, с мучениями напечатанными мною одним пальцем, листков и множеством других написанных от руки. Сможет ли она их прочесть? Хельга отвечает, что она просто ас в чтении рукописных текстов и приступает к работе без долгих разговоров.
Проходит немного времени и замечаю, что пулеметный стрекот машинки смолкает только тогда, когда Хельга меняет очередной лист. Сам я занят в это время рисунками.
Когда вижу Хельгу, сидящую за маленьким столиком, на котором стоит машинка, в виде силуэта на фоне светлого неба, а на переднем плане затянутая холстом рама – словно Repoussoir quasi – я смеюсь: чистая манера голландцев – просто идиллия в духе жанровых картин голландской художественной мастерской.
Счастье еще, что звуки тамтамов не успели собрать всех моих подруг из Туцинга и Штарнберга. Что было бы, если бы они все именно сейчас завалились бы ко мне и встретили незнакомую им Хельгу?
Не могу сдержать внутреннюю издевку на «маркитанткой» Хельгой, хотя мне доставляет истинное удовольствие ее забота обо мне. Как-то вдруг во мне возникло странное чувство доверия к этой женщине. Живется мне вполне удобно. Ощущаю происходящие во мне изменения и просто купаюсь в этом, уже непреходящем чувстве самодовольства.
Все же я здорово удивлен тем, как легко допустил эту нежданную гостью в свое хозяйство – ей разрешено даже подниматься по лестнице на чердак – и предложил ей возможность проживать здесь, если воздушные налеты станут совсем уж тяжелыми. Теперь, в мае, окружающая дом природа гораздо красивее, чем в городе. Показываю ей также место, где обычно прячу ключ от двери. При всем при том, во мне поднимается волна тщеславного великодушия: все это, конечно же, распространяется и на ее мужа.
Я здорово простудился. Даже немного лихорадит. Смеюсь над своим отражением в зеркале: у меня красные скулы – будто намалеваны свеклой. Теперь-то уже с нетерпением ожидаю приезда Хельги. Она начинает суетиться, бежит в аптеку за требуемым настоем или еще за чем, что может, по ее мнению, помочь мне. Несмотря на кашель и текущий нос, чувствую в себе силы к работе. Мне кажется, даже стало немного лучше, и я осмеливаюсь написать пару набросков, на что еще вчера не осмелился бы.
На обед у нас наваристый суп и через каждый час горячий чай. Хельга привела в порядок и расставила кучу книг и теперь едва держится на ногах. Когда ей приходит время отъезда, она говорит, что лучше бы осталась здесь. Но как же она может это сделать, не предупредив своих? По-деловому сухо, Хельга говорит на это:
– Я уже это сделала. Я позвонила с почты, когда ходила в аптеку. Бабушка позаботится обо всем.
Меня охватывает чувство неловкости. Как мне связаться с Корнелией, которая тоже хотела посетить меня? Здесь будет немного тесновато.
Хельга снова приносит чай. Мне просто необходимо немедленно выйти на свежий воздух, предлагает Хельга, немного прогуляться.
Против изнуряющего кашля – прогулка? Почему бы и нет!
Когда мы уже на середине северной части луга, у ручья, мне приходит в голову одна коварная мысль. Говорю Хельге, что мне надо заглянуть к соседу, при этом держу в голове, что у Доктора Раймерса есть телефон. Мне кажется, меня можно простить – ведь в конце-концов я же простужен.
– К тому же очень легко, – говорю Корнелии по телефону, – хотя мне уже лучше.
Когда, позже, лежу без сна, насмешливо издеваюсь над собой:
«Чистота и скромность лица того,
кого ты ищешь и найдя полюбишь,
вдруг появившись пред тобой
тебя захватит как волна морская…»
Да, ребята, я – точно болен!
В полудреме слышу звук самолетов. Это всего лишь гудение генераторов в прожекторной установке, но как же я перепугался! Выхожу на балкон, ноги босы, чтобы посмотреть, не на Мюнхен ли совершается нападение, и точно, на севере участок неба окрашен в красный цвет – сектор более 90°! Мерцающие огоньки в нем не несут ничего хорошего: это падают бомбы в пожарища домов.
Однако прожекторная установка стоит черным бугром.
Трудно поверить: я видел всего лишь раз, как прожектор направил в небо, строго вертикально, свою молочно-белую платформу и с тех пор так и стоит. А может быть вся эта установка будет задействована, когда воздушная армада союзников будет отходить на юг или пробиваться с юга.
С балкона мне видно окно комнаты Хельги. У нее горит маленький ночничок. Сделав шаг поближе к ограждению балкона, вижу, как она лежит под моим пестрым, румынским одеялом, в изголовье две подушки, и читает – картина, достойная лирики Кароссы.
Лишь наступает утро, а Хельга уже на кухне. Она хочет поехать в город, чтобы посмотреть, что там произошло ночью.
Моя комната с ее отъездом становится какой-то пустой. Пробую еще одну попытку со «стариком» Деницем. В этот раз дело идет лучше, но недостаточно хорошо. Испытываю голод и иду на камбуз, чтобы найти, чего пожевать. И тут вижу, что Хельга позаботилась и об этом: мне надо всего лишь подогреть кастрюлю.
Ближе к вечеру возвращается Хельга, все в порядке. Она привезла с собой фартук – чтобы не испачкаться на кухне при готовке еды.
Новый день так красив, как ни один другой весенний денек в Фельдафинге: все блестит в лучах утреннего солнца. Слева направо по небу растянулась цепочка следующих друг за другом облаков. Старая ведьма сидит на своей скамейке, а у ног примостился Чазарли. Оба греются на солнышке.
Хельга отоварила мои продуктовые марки. Получила хлеб, масло и колбасу. Скоро приходится убирать масло в тень моего большого чайника, так сильно припекает солнце.
Появляется рассыльный с телеграммой. Едва увидев этого человека, вздрагиваю от испуга. И не без оснований: мне приказано «незамедлительно» прибыть в Берлин.
Смотрю на печать: почта здорово припозднилась с вручением срочной телеграммы. Я должен был выехать еще вчера. Теперь же нужно спешить.
– А что же будет с вашей работой? – спрашивает Хельга.
– Могу лишь оставить все как есть. Возможно я скоро вернусь, – говорю как можно мягче. При этом знаю: произошло нечто непредвиденное. Навряд ли Масленок захотел, чтобы я просто прокатился на поезде туда-сюда.
Пытаюсь убедить Хельгу остаться, но она хочет выехать в Мюнхен и остаться в нем.
– А что же с едой делать? – интересуется Хельга.
– Вино и еду возьмите с собой в Мюнхен. В Берлине у меня все будет. Все, что нужно.
Мой поезд отправляется точно по расписанию. Надеюсь, что в этот раз все пройдет без сучка и задоринки. Как я устал уже от этих ночных поездок, убеждаю себя и ищу возможность дневного переезда через Нюрнберг. Еще до полуночи мне необходимо прибыть в Берлин, если там не будет очередного авианалета.
Купе не очень полно, у окна, напротив меня, сидит молодая большеглазая женщина, которая, судя по всему, и заняла обе багажные сетки: в одной сумка, в другой – довольно объемный пакет, больше напоминающий тюк: упаковка – чистая мешковина. С любопытством перевожу взгляд с одной полки на другую, и когда поезд, наконец, трогается, мое любопытство уже удовлетворено: это вовсе не ее багаж, объясняет моя попутчица беззаботным тоном, она лишь сопровождает его до Берлина. Узнаю, что в тюке важная «специальная деталь» для генератора.
Красотка оказывается настоящей веселушкой. Готова болтать всю дорогу. Но в этот раз я хочу почитать.








