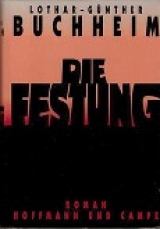
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 83 (всего у книги 111 страниц)
Командир не отвечая, лишь согласно кивает головой.
Начинается ритуал монтажа: Первый помощник поднимается в башню и выводит перископ, Второй помощник приказывает лодке подвсплыть. Теперь мачта шноркеля должна была бы быть высоко выдвинута гидравлически – но этот номер исключен из программы. Все как обычно…
Когда люк уже открыт, медленно протискиваюсь под него, чтобы получить представление о том, как там наверху все выглядит.
К сожалению, туман, кажется, становится тоньше. Бог мой! Либо пан, либо пропал! Теперь еще и гонки устроим между наплывами тумана и сборкой головки шноркеля: дьявольски оригинально. Хоть бы раз что-то иное…
Пелена тумана, насколько могу судить, составляет всего лишь несколько ничтожных метров. Если глаза меня не обманывают, могу уже даже различить в круглом люке башни несколько звездочек. Может быть и так, но в такие провалы в тумане нас тоже можно увидеть. Скорее всего, так и есть: в клубах тумана зияют настоящие отверстия и разрывы.
Пытаюсь представить себе, как могло бы выглядеть перед глазами пилота ночное море с расстилающимися, петляющими клубами тумана, и в следующий миг должен убраться с моего места, так как сейчас морякам предстоит снова поднимать головку шноркеля.
Едва-едва слышу донесения из рубки акустика. По грубым наводкам пеленга наше местоположение совершенно неопределяемо: Командир никак не может взять их в вычисления. Он сидит на банке рулевых как неприкаянный и наблюдает, как громоздкая металлическая штуковина поднимается наверх.
И вот свершилось: Головка проходит чисто через кольцо люка!
У меня руки чешутся аплодировать команде. Командиру кажется тоже: Он встает и как завороженный смотрит вверх. Затем опускает взгляд и осматривается в ЦП – так, будто это он выполнил всю работу и требует за это теперь одобрения.
Но в следующий миг опять садится и внимательно вслушивается скосив голову набок в раздающиеся сверху звуки.
Делаю тоже самое.
Ждать! Сейчас не остается ничего другого как ждать и посылать наверх оптимистичные мысли: У вас все получится, парни! Все должно получиться! Всемилостивый Бог не оставит своих верных в беде… Какой-то моряк опускается сверху и безмолвно исчезает в корме. Затем возвращается и снова влезает наверх с прижатой к груди курткой. Там она для чего-то нужна, того, что, очевидно, нельзя было потребовать громко – иначе я смог бы принести ее из кормы.
Надо было его спросить, вот я бестолочь. Да и командир тоже мог бы спросить этого моряка о ситуации наверху. Но, пожалуй, что мог бы ответить спешащий наверх парень?
За все это время командир не сказал ни слова. Такое впечатление, что его больше нет на борту.
Так проходит четверть часа и затем еще одна…
Сверху, время от времени, до меня долетают сдавленные проклятия. Но вот отчетливо раздается:
– Села!! Воздух пошел!!
Инженер-механик! Орет как фельдфебель-каптерщик при выдаче формы, словно миллион выиграл.
Значит удалось!
Еще несколько пугающих секунд, и затем первый человек уже спускается, держа перед собой инструменты. Делаю пару шагов, быстро принимаю у него из рук инструменты и передаю их в темноту дальше.
Затем тали, за ними четырехугольные брусы-упоры…
И, наконец, процедура входа людей с верхней палубы повторяется еще раз – как повторение номера, разученного в цирке: Последним появляется инжмех, и плотно задраивает люк. Почти одновременно включается полный свет, и его столько, что я отчетливо вижу, как он с широко вздымающейся грудью, но подчеркнуто сдержано делает свой доклад командиру.
Бутылка яблочного сока! Инжмех быстро хватает ее и опустошает до последнего глотка.
А затем командир приказывает испытать шноркель, и для этого уйти на глубину. Могу понять, почему: слишком много толкотни в центральном посту. Эта команда должна положить конец толчее…
Настолько сумасшедшим образом как теперь, вообще еще никогда не происходило погружение. Приходится быть чертовски внимательным, чтобы не споткнуться о деревянные брусы и инструмент. Со всей осторожностью направляюсь на свое место рядом с люком передней переборки и вслушиваюсь оттуда в кажущуюся неразбериху докладов и команд.
Постепенно суета улеглась, и все снова становится на свои места. Лодка теперь управляется четко и слажено, как по писанному: Командир забирается в башню, шноркель переключается, и с электродвигателей мы переходим на дизеля – все идет как по маслу! Мы снова являемся боевой подлодкой идущей под шноркелем, и Томми вновь смогут засечь нас своими радиолокаторами.
Но что это с оберштурманом?
У него такое выражение лица, какое бывает у ребенка получившего рождественский подарок. Узнаю: Оберштурман был наверху короткое время и успел сориентироваться по звездам. Теперь он имеет точный пеленг нашего корабля. А я даже и не заметил, когда он достал секстант из футляра и выбрался наверх…
Мне радостно за оберштурмана, и это продолжается, пока не замечаю, что в первую очередь радуюсь за себя: Дорога ложка к обеду…
Унтер-офицер-дизелист первой вахты почти расплющил себе правый указательный палец при монтаже головки шноркеля. Унтер-офицер-санитар оказывает ему врачебную помощь в жилом отсеке. Он толсто обмотал расплющенный палец бинтом и теперь педантично, медленно, оклеивает его липким пластырем.
– Думаешь, палец приживется? – осведомляется старшина лодки, уроженец Берлина, у унтер-офицера-дизелиста.
– Смотри за своим здоровьем! – яростно бросает тот.
Проходит бачковый. Берлинец вынужден убрать ноги и поэтому зло произносит:
– Опять своим дерьмом кормить нас будешь?
– Не таким уж и дерьмом, к тому же и не своим – возвращает бачковый беззлобно.
– Ты бы хоть помыл жратву-то, прежде чем подавать.
– Зачем так грубо? – говорит унтер-офицер-дизелист.
– Да, ладно тебе!
Внезапно берлинец бьет правым кулаком по столу и орет:
– Хорошо бы, Франц, если бы ты его заморозил. Вот тогда было бы совсем здорово!
В кают-компании на столе стоит тарелка с салями и еще одна с сардинками в масле. Инжмех появляется замызганным как никогда, и всматривается в сардинки в масле, словно контролер продуктов. Затем бормочет:
– Приятели с внешнего борта! – Вы ли это?
Сардинки в своем желтом масле, кажется, не совсем по вкусу и командиру, поскольку тот делает серьезное лицо и кричит:
– Кок! Подать еще огурцов!
Один из наших высокопоставленных серебрянопогонников снова объявился. Инжмех пододвигает толстой шишке с верфи жирные сардинки, и тот немедленно начинает их пожирать. Второй помощник, освободившийся от вахты, невыразительно кивает, тянется к сардинкам и накладывает их себе в тарелку, поливая еще и желтым маслом из банки. Сделав это, говорит:
– Хороши! – отчего командир театрально закатывает глаза вверх.
Желая подразнить серебрянопогонника, он добавляет, обращаясь ко Второму помощнику:
– Только ради Бога, будьте внимательны: на хлебе может быть плесень!
Но толстый серебрянопогонник жрет и не давится. Интересно, а не симулянт ли этот толстобрюхий моллюск с верфи, получивший здесь удобное местечко? От поноса он уже совершенно оправился, во всяком случае.
– Да они просто умом сдвинулись! – доносится из кают-компании чей-то полный возмущения голос.
«Умом сдвинулись» – точно такое выражение было в употреблении у моей саксонской бабушки. На этот раз, кажется, подразумеваются серебрянопогонники, находящиеся в помещении носового отсека.
Другой голос ругается, не сдерживаясь:
– Вот же свиньи! И они еще хотят быть елочками пушистыми!
– Откуда ты это взял, про елочек пушистых?
– Шеф сказал инженеру: Двое из этих корабелов – елочки пушистые.
– И что он этим подразумевал?
– Черт его знает!
Незадолго до конца хода под шноркелем поступает радиограмма. Радист передает ее в блокноте в офицерскую кают-компанию. Командир прочитывает сообщение и бормочет:
– Еще одна головоломка…, – а затем пристально смотрит, так же как раньше на деревянную узорчатость обложки, на раскрытую страницу блокнота радиосообщений.
– Не для нас, – выдает он, наконец.
Но ведь должна же быть радиограмма и для нас?! Меня давно обуревает чувство того, что с нашим существованием больше уже никто вовсе не считается.
– В радиограмме даны указания для операции – наверное, для лодок на побережье Вторжения…, – поясняет командир, – однако, до них эти указания, судя по всему, не дошли…
Побережье Вторжения! Страшно представить, сколько прошло уже времени со времени Вторжения и моего блуждания по Нормандии! В начале хода на электромоторах пробираюсь в корму, в дизельный отсек. Выглядит так, будто хочу подстраховать, что все находится на своих местах и функционирует в правильном режиме. В дизельном отсеке опять стоит большой чан для блевотины и дерьма. Но он больше не воняет так невыносимо, совершенно по-адски. В кормовой части дизеля правого борта трудится вахтенный дизелист. Осушает клапаны выхлопной трубы? Определенно требуется осушительная продувка между внутренним и внешним клапанами выхлопной трубы… Бульон, вытекающий оттуда, он просто сливает в поддизельное пространство трюма. Взглядом брожу от маховичков внутренних клапанов выхлопного газа расположенных на потолке, к приводной тяге масляного насоса. От нее к висящему надо мной динамику и радиотелефону в середине потолка.
Рассматриваю все так придирчиво, будто действительно должен проверить в полной мере: Справа и слева от меня располагаются дополнительные вентиляторы наддува, которые включаются на среднем ходу и подают дизелю дополнительный воздух. Вахтенный дизелист смазывает сейчас клапанный рычаг.
Приходится отодвинуться в сторону, так как маат-дизелист хочет пройти. Он продвигается на несколько шагов и затем затягивает клапан выхлопного газа правого борта. Иду как на ходулях дальше в корму к электродвигателям: Рубильники положены на средний ход вперед. На плитках пола лежат четверо бугров с верфи. Перешагиваю через них и продолжаю бродить взглядом по агрегатам и инструментам: Повсюду вспомогательные механизмы и трубопроводы. Вот амперметр, а вот еще один и еще один. Рядом указатель числа оборотов и машинный телеграф. Бросаю взгляд и в отсек кормовых торпедных аппаратов. Здесь также все настолько плотно заполнено, что могу видеть лишь крышку торпедного аппарата. Осматриваюсь – взгляд бродит по электрической распределительной коробке и воздушном компрессоре. Дизель-компрессор Юнкерса на своем обычном месте. Здесь совершенно нет места для лишнего человека. И тут же вижу бесформенный мешок, обвившийся вокруг воздушного компрессора. Без сомнения там лежит человек, защищенный от холода металлических плиток пола одним только тонким одеялом. Серебрянопогонник или свободный от вахты моряк? Еще один полусидит в тонкой щели между генератором сжатого воздуха и бортом, голова бессильно опущена на руки.
До сих пор я едва ли хоть с одним из серебрянопогонников обмолвился словом. Они, для меня, могли бы вполне быть всего лишь огромными личинками или гусеницами вместо людей. Время от времени упрекаю себя, что ни разу не попробовал войти с ними в беседу, чтобы узнать их мнение о верфи и нашем крахе. Но что я должен выведать у серебрянопогонников – что из того, чего я уже не знаю? И, кроме того, я вполне сыт и своими размышлениями.
Присаживаюсь в ЦП на рундук с картами и позволяю обрушиться на меня событиям последних дней. Когда пытаюсь перечислить все, что случилось со мной, понимаю, как часто со мной происходили странные события: Были такие минуты, и даже часы, о которых я ничто не мог бы сказать вовсе. Только при сильном напряжении ума и попытках ощупью двигаться в обратном направлении я наполовину справляюсь с этим наваждением. У меня появляется такое чувство, словно вместе с этим я переживаю и телесные, физические ощущения. Сумасшествие!
Что касается моего состояния после случившегося страшного поноса и рвоты, то не могу жаловаться. Все то, что мне довелось испытать до этой минуты, представляю себе так, будто принял участие в неповторимом психологическом эксперименте. То, что здесь происходило и происходит, никто и никогда еще не описывал. Поэтому для меня это звучит так: Держать клюзы открытыми, запоминать глазами и ушами каждую мелочь! Как я сам все переношу – тоже имеет значение в моих наблюдениях и описаниях.
Инжмех сидит на кожаном диване в кают-компании. Должно быть, его совершенно вымотал ремонт шноркеля: Он не произносит ни слова сквозь сомкнутые губы.
Серебрянопогонник опять исчез куда-то: как провалился.
В кают-компании меня охватывает чувство неосведомленности: Хорошо – с серебрянопогонниками я не смог наладить отношения…, но и в экипаже подлодки я знаю тоже не более полудюжины человек. Лица других появляются передо мной как призрачные полумаски и вновь исчезают…
Ловлю себя при этом на том, что бормочу слова, словно в полубреду. Слава богу, инжмех кажется, этого не замечает: Не хотел бы я прослыть долбанутым… Инжмех спит.
Не стоит мне сидеть здесь так долго, утонув в своих мыслях. Со стороны это может выглядеть как легкое помешательство…
– Схожу-ка в центральный пост, посмотрю как там дела, – произношу хриплым голосом.
И в то время как ставлю одну ногу перед другой в проходе, словно кукла-автомат, думаю: Точно, спятил!
Дьявол его разберет, как все пойдет дальше…
В центральном посту буквально остолбеваю от вида лежащих, изогнутых в странных позах спящих на плитках пола тел. Где я уже однажды видел эту картину?
Вспомнил: Они лежат здесь как трупы в траншее под Верденом. Но при чем здесь Верден? Я ведь едва лишь появился на свет, когда произошли события под Верденом… Может ли быть так, например, что в моей голове просто застряли картины из какого-то фильма?
Я видел много фильмов о войне, это точно. Также много прочел военных книг. Вероятно, такие же искривленные в муках тела я мог однажды видеть в одной из книг. Но в какой?
К чему мне такие выверты мыслей? Наверное, будет лучше, если я переберусь через следующее кольцо переборки и завалюсь на свою койку. Поспать про запас – всегда, когда случай предлагает такой подарок! – Вот было правило на U-96. И Старик руководствовался этим неукоснительно.
Что, интересно, теперь делает Старик? Навряд ли после нашего выхода янки продолжали свои долгие обстрелы. Вполне возможно, что они между тем захватили всю территорию к северу от флотилии, а саму флотилию укатали в ноль. Вероятно, Старик уже мертв! Для меня же всего лишь предусмотрена небольшая отсрочка… По-французски: le sursis. Странное слово звучит в моих ушах…
– Ну, так вот, я и дал той девке 400 франков, а затем заснул – просто пьян был в стельку, – слышу голос какого-то маата. – Понятно, что следующим утром я, конечно же, захотел вернуть обратно свои 400 франков. А также увидеть эту девку…
– Ну, ты даешь!
– Точно, говорю тебе. И она возвратила их мне.
После долгого молчания раздается:
– И вот есть же люди, которые трепят, что французы не имеют никакой морали!
Снова молчание. Наконец, кто-то пытается отрыгнуть, однако, удовлетворяется лишь четвертым звуком гаммы. Вместо пятого он громко выпускает ветры. Тут же слышен возмущенный голос соседа:
– Если ты еще раз при мне начнешь пердеть, я тебе в очко швабру засуну. Чтобы прочистить твои гнилые кишки!
– Да тут и так от пердежа не продохнуть! – говорит третий. – Не чувствуешь, что ли?
– Ааа…, ты еще не знаешь? Этот засранец всегда пердит, когда отрыгивает. Соображаешь теперь ты, тупое полено? У него, мол, слишком короткий пищевод, и отрыжка вызывает пердежь, по его словам – ну, не засранец ли?
Некоторое время дремлю, а затем слышу, в своем полусне:
– Не расскажешь ли, как же ты все-таки мандавошек поймал?
– Эй, заткни-ка свое ****о!
– Зная тебя, думаю, что ты скорее об пальму членом потерся, чем на бордель раскошелился…
– Да ты глупая свинья, раз говоришь такое: Палец в говне, а не пацан…
– Во всяком случае, я еще не сношался с лейкой как ты… Но это, наверное, того стоило?
– Браво! – получает он поддержку слушателей, и еще раз: – Браво!
– Отодвинься и подальше! – слышу примирительный голос и не сразу понимаю, о чем идет речь – наверное, о слегка пердящем на параше парне. Этот пердеж тоже достал меня чрезвычайно: Но, понос заканчивается, и я могу уже погрузиться в сон.
И в полусне слышу:
– …лучше всего, ты берешь газету и вырезаешь в ней отверстие.
– Отверстие в газете?
– Точно, парень! Это самое лучшее против мандавошек. Затем просто вставляешь свой хрен в это отверстие и прямо в ****у!
– А где же я возьму газету, осмелюсь спросить?
– Аааа, ну ты и мудило! – получает спрашивающий неожиданно грубый ответ. – Придумай что-нибудь – или оставайся при своих мандавохах!
Спустя немного времени достаю из-под головы какую-то книжку: Долго не могу сконцентрироваться на тексте и, прочитав несколько страниц, снова засыпаю, под приглушенный писк музыки радиопозывных.
Довольно далеко выгибаюсь из койки, пытаясь достать висящий на потолке, над изголовьем койки, динамик и уменьшить его звук. Некоторое время борюсь с решением приподняться в кровати, наконец, уговариваю себя: Ну, давай же! Попытайся хотя бы!
Ловлю рычажок и поворачиваю его назад. Но мне не удается заставить замолчать музыку. Она только становится несколько слабее.
Следовало бы уже знать, что бортовые динамики нельзя выключить совершенно, ведь они служат также и для передачи команд на лодке. Я должен был бы научиться выключать мой слух, чтобы обретать покой. Но таким образом мне все равно не удается защитить мозг от этого страшного музыкального пюре.
60 метров воды над головой: Когда-то одно только представление этого могло бы свести меня с ума. Что же это за ужасная поездка! Ужасная поездка в ужасной трубе! Мне нравится фраза «ужасная труба». Или я уже где-то слышал эти слова?
Проклятье! Это чертово выражение «ужасная труба» шумит и звенит теперь в моей голове. Внезапно, как и всегда, я все больше запутываюсь, погружаясь в возникшее вдруг словосочетание, пока, наконец, мне не приходит на ум: Ужасная труба похожа на шляпу-цилиндр! Могу дать руку на отсечение: Конечно же – спорим на что угодно: Это именно шляпа-цилиндр, которую в детстве мы и называли «ужасная труба»!
Мой дедушка имел две такие «Страшные трубы», хранившиеся в контейнерах особой формы.
Плоские как тарелки выходили они из контейнеров наружу, а затем нужно было проделать один трюк: Ударить полями по свободной руке – и… опа! Цилиндр возникал из ниоткуда.
Колдовское представление! Дедушка не мог повторять этот трюк слишком часто для меня, потому что я, каждый раз, воодушевленно хлопал в ладоши, когда цилиндр внезапно выпрыгивал вплотную перед моим лицом.
Мой дедушка был вообще довольно странным типом! Белая окладистая борода, не длиннее граммофонной иглы, всегда одет в темное: в целом вид вполне достойный. Он также владел трактиром. Но все предпочитали молчать об этом. Что-то с этим бизнесом, должно быть, было не в порядке. Говорили, правда, что дедушка, вроде как самый первый в стране, занялся таким своеобразным варьете, где выступали дрессированные козлы, показывавшие свое умение выступать как большие пьяньчужки, но там имелась также и своя тайна – думаю, в этом трактире происходило и нечто более оскорбительное для порядочного бюргера… Вероятно, связанное со слишком веселыми дамами, выступавшими на его сцене.
Ясно вижу тот момент, когда дедушка пришел с зелеными клецками в кастрюле, в то время, как мы, два мальчика, мой брат и я, были заперты Управлением по делам молодежи в доме для сирот в Бернсдорфе, потому что наша мама была снова в полной замоте. «Изъять из надзора» – так это тогда называлось. С тех пор я больше не могу есть зеленые клецки без мысли о дедушке и без чувства умиления о тех временах.
При этом в памяти всегда возникают и деревянные кубики в большой жестяной коробке. И даже сейчас в ушах все еще звучит их перестук, который получался, когда я использовал эту коробку вместо барабана. Это должно быть нравилось дедушке, потому что позже он принес мне барабан. Я играл на нем сначала в спальне бабушки – барабан был там поставлен косо на стул – а позже во дворе, где я учился маршировать с ним. Это было трудно, поскольку барабан на моем левом бедре качался в такт каждого шага.
Едва закрываю глаза, отчетливо вижу перед глазами бело-красные ленты, обтягивающие тот барабан, его желтую, блестящую латунь и бледную охру. И даже могу ощутить, как мой дед, склонившись надо мной сзади, управляет моими руками, барабаня «Повестку». Но затем я, все же забросил барабан: Преподаватель, которого привел дед, был слишком жесток.
Годы спустя дедушка полностью исчез из моей памяти. Почему же он явился мне теперь – на широте Saint-Nazaire при движении на электродвигателях, на 60-метровой глубине?
Позывы к мочеиспусканию заставляют меня слезть с койки. Но я не уступаю, держусь некоторое время, погружаясь в размышления: Сколько мочи может содержать в себе мочевой пузырь человека? Имеется, если мне не изменяет память, значительное различие между мужским и женственным мочевым пузырем. Один литр для мужского пузыря, и три литра для женского – так, что ли? Женский мочевой пузырь не больше чем мужской, но он имеет больше места, чтобы растянуться – а именно внутрь, в брюшную полость. Для нас же природа, к сожалению, не предусмотрела такие резервы. Один литр объема, и затем – финиш. После чего «вентиль» просто не выдерживает давления. Взгляну-ка на командира, говорю себе, когда помочившись снова прячу свою вонючую пиписку в брюки. Наверное, опять сидит в офицерской кают-компании в своем углу. Едва пробираюсь через люк переборки, в глаза бросается, что зеленый занавес перед командирской выгородкой плотно задернут. Наконец-то он, кажется, заснул. Подойдя ближе, не вижу даже лучика пробивающегося через занавеску света: Слава Богу, аллилуйя!
В офицерской кают-компании все места заняты. Оба серебрянопогонника снова там и напоминают своими откинутыми назад головами и открытыми пастями повешенных, которых только что вздернули.
К счастью, никто не занял мой складной стул. Усаживаюсь наполовину в кают-компании, наполовину в проходе и устало кладу руки на стол. Со своего места могу видеть, как каждый, проходящий мимо командирской выгородки, приподнимается, будто автоматически на кончики пальцев, и если несет что-либо в руках, то тщательно следит за тем, чтобы не коснуться занавеса перед Их Святейшеством: Абсолютно правильное решение!
Не знаю, как могло распространиться по лодке сообщение о том, что командир спит.
Надо полагать, никому из серебрянопогонников не придет на ум помешать ему – какими-либо своими слабоумными желаниями или жалобами. Нужно было выставить вахтенного, который охранял бы сон командира, словно Святой Грааль. В данный момент Я – такой сторож сна командира. Но как сильно не верчу полускрученной шеей в центральный коридор, никто больше не проходит мимо. Впечатление такое, будто я в дозоре, перекрывшем дорогу в центральный пост, так как никто больше не пытается пройти вперед.
Закрыв глаза, внимательно вслушиваюсь в тонкий, дальний зуммер электродвигателей. Я буквально погружаюсь с головой и тону в этом зуммере. Что за странное спокойствие царит на подлодке: Она везет здесь, под этим пластом воды, сотню живых людей, но в лодке господствует кладбищенское спокойствие. Никакого движения.
Маат-радист уже некоторое время больше не крутит диск настройки. Отдыхает, наверное!
Располагаю свои письменные принадлежности на столе и пытаюсь работать. И тут вижу, как у более старого из двух серебрянопогонников внезапно высоко вздымается правая рука, и он, пальцами сложенными словно когти хищной птицы, скребет свою грудь. При этом издает задыхающиеся стоны.
Позвать командира? Ах да, он же спит, командир. Надо срочно позвать маата-санитара. Что за ****ство, что у нас на борту нет врача!
Маат-санитар распластался на койке и похрюкивает во сне. Приходится постараться, чтобы привести его к жизни.
– Дела плохи у шишки с верфи – он в офицерской кают-компании…
Маат-санитар укоризненно смотрит на меня в тупом недоумении: Конечно – я виноват, что он более не может сладостно хрюкать.
– Думаю, у него проблемы с сердцем! – говорю дальше.
– Проблемы с сердцем, – повторяет маат-санитар.
И пока он передвигается в направлении центрального поста, говорит в сторону:
– Положить в длину – воротник расстегнуть – обеспечить подачу свежего воздуха!
И голос его при этом звучит с явной усмешкой.
Маат-санитар несет с собой что-то из бортовой аптечки, а я спрашиваю себя о том, не должен ли я, все же, предупредить командира? Но что он может сделать? Если самый старый из этих шишкарей собрался уйти в небытие – значит, так тому и быть.
Удивляюсь, как решительно действует маат-санитар: Срывает галстук с серебрянопогонника, рубашку разрывает до пояса.
– Вытяните руки вверх! – приказывает маат-санитар и помогает лечь тому в горизонтальном положении. Затем подносит ему под нос комок ваты и командует:
– Вдохните! Глубже, глубже дышите!
Вроде как пахнет арникой? Но помогает ли арника в таких случаях? Проблемы с сердцем, конечно, не были предусмотрены при комплектации бортовой аптечки, как и то, что на борту будут такие вот старые мешки говна перевозиться. Наш маат-санитар в любом случае делает все правильно: Толстому шишкарю кажется, заметно полегчало.
Второй шишкарь косо уселся на мой стул и положил руки на мои листы с записями.
Маат-санитар смотрит на меня, будто желая сказать: Ну, видишь: Все в порядке!
Мне не остается ничего другого, как признательно кивнуть за то, что опасность того, что шишка с верфи в следующий час нас покинет, миновала.
Волнение снова активировало все мои пять чувств, и я в состоянии убрать второго шишкаря с моего места: Пусть важничать себе на диване – а там он обязательно помешает инжмеху.
Едва лишь серебрянопогонник усаживается, с кормы, в самом деле, прибывает инжмех. Однако увидев серебрянопогонника на своем месте, он лишь закатывает глаза. Затем поворачивает назад: Мол, здесь не слишком подходящее для него общество. Вытянув шею, вижу: Занавеска командирской выгородки открыта. Командир, с уверенностью можно сказать, снова в централе. Нет, что-что, а небрежным этого человека назвать нельзя. Резко поднимаюсь и на негнущихся конечностях топаю в ЦП. Прежде всего, вижу там командира. Он, судя по выражению лица, хочет продемонстрировать мне свою любезность, но она сводится к странной, ехидной ухмылке, выглядящей как оскал. В следующий момент он приподнимает плечи, будто желая попросить прощения. Я киваю ему – настолько понимающе, как только могу, и думаю: Что за дурацкая форма общения! Мы не обмениваемся ни словом, но понимаем друг друга. В центральном посту в нос опять бьет такая вонь, что у меня живот сводит. Присмотревшись, вижу: В углу кто-то сидит на ведре-параше и умело стреляет пердящими салютами в воздух.
– У ранней пташки вся задница пылает! – раздается голос вахтенного центрального поста.
Значит уже утро! Бортовое время все еще путает меня.
В центральном посту теперь лежат еще также и мешки с отбросами, наряду с запрудившими все пространство ящиками. Если так и дальше пойдет, то мы превратимся в плавающую кучу мусора. Еще пару дней в море и мусор нас задушит!
В целом – все это некий феномен: Едва съешь чего-то, и практически тут же все превращается в огромное количество плохо пахнущих отбросов. Говно, моча, соляра, смазочное масло, блевотина – и сверх этого еще и смрад из этих мешков пищевых отбросов – все теперь здесь до кучи. И все это, сложенное вместе, дает в итоге гремучую смесь, которой мы должны дышать.
Я бы охотно предложил господам в Коралле хоть однажды подышать такой смесью. Вот бы штабники удивились, если бы им внезапно пришлось вдыхать вместо свежего соснового бальзама это зловоние. А Дениц получил бы, конечно, самую сильную дозу. Как раз в тот момент, когда бы истерически визжал и по обыкновению сделал глубокий вдох, в этот самый момент и забил бы ему кол в глотку этот смрад и вонище. Вкусил бы в полной мере этого дерьма! А сверху забросать его мешками с отбросами: До самых глаз…
В общем-то, поддерживать на борту порядок является обязанностью боцмана. Но неразбериха на лодке настолько выбивает его из колеи, что при всем своем старании он еле-еле успевает со всем обращаться. Он борется с грязью, как только может. Но грязь, кажется, расширяется в геометрической прогрессии лишь от одного: Слишком много людей на борту и, кроме того, нет никакой возможности освободиться от мусора. Мы могли бы, правда, выбросить его через так называемую трубу № 6, трубу для «Больда». Но это рискованно.
В то время как я все еще тупо пялюсь на мешки отбросов, подходит, склонившись в три погибели один из серебрянопогонников, и блюет, всего в метре от меня, в трюм. И опять это кислое рвотное пюре летит в трюм! Там уже и так полно блевотины. Но именно там она быстро и надежно распределяется и может долго болтаться, отравляя зловонием всю лодку, пока однажды все это дерьмо не откачают.
Если командиру никак не удается заснуть, то я, по крайней мере, должен хотя бы попробовать сделать это.
Снова вытягиваюсь в полный рост на своей койке. Чтобы погрузиться в сон, выдумываю себе приятные запахи: утренний бриз на Штарнбергском озере с его легким запахом снега и рыбы, йодистый воздух над полями утесов у Brignogan, когда еще происходит глубокий отлив… Буковый лес за домом в Фельдафинге, и его приглушенный запах гнили, исходящий от гумуса миллионов гниющих листов. Аромат окрашенных в желтовато-коричневое лугов, более густой у болот в тугом полуденном солнце, и странно теплый и одновременно острый запах едва тронутых осенью окрестностей…
А в ущелье, ведущем вниз, к озеру, совершенно другие запахи – нюансы запахов, которые я сохранил в себе: аромат воды реки Штарценбах с плещущимися по чистому гравию туда и обратно зелеными знаменами волн, запах болота, висящего над берегами, тонкий аромат скипидара исходящего от немногих сосен растущих меж могущественных, ветвистых буков…
Очень долго не могу заснуть, когда слышу:
– Завтрак подан.
По моим приблизительным подсчетам мы в пути уже четвертые сутки. Но по царящей в лодке раздражительности, которую я повсюду ощущаю, это должны были бы уже быть как минимум четырнадцатые сутки: У всех довольно отвратительное настроение. Некоторые, когда с ними заговаривают их приятели, вообще не произносят ни слова.
Когда я, вслед за инжмехом, прибываю в кают-компанию, вижу как Первый помощник уже вытирает рот, словно налупившись от пуза, хотя места на столе, если сейчас все соберутся и еще оба больных серебрянопогонника появятся, не сможет всех удовлетворить. Но где, собственно говоря, эти оба? Никак не услежу за ними!








