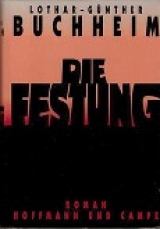
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 111 страниц)
ОТРЕЗАНЫ
Дни с моросящим дождем сменяются днями с синим, безоблачным небом. Воздушные налеты бывают, но их удивительно мало. Однако, именно отсутствие вражеских действий и беспокоит меня. Меня охватывает мучительное ощущение того, что земля вокруг нас как бы бесшумно минируется. Для солдат-окопников во время войны не может быть спокойной жизни, если они ничего иного не могут делать, как быть в постоянном ожидании, что до них доберутся вражеские саперы и взорвут к чертовой бабушке. Постоянно докладывают, что французские судостроительные рабочие становятся все нахальнее. Возрастает опасность диверсии. Но что может Старик с этим поделать? Даже если он разрешит закрыть территорию верфи, он вынужден будет все же оставлять рабочих в Бункере. Мы от них зависим. Держу пари, что среди них давно имеются хорошо организованные боевые группы и некоторые даже точно знают, что они должны делать, когда поступит команда к действию. Для нашей непосредственной защиты организовано удивительно мало, и эта малость, как мне кажется, сделана излишне робко. Такое чувство, будто бы все поражены странным параличом. И только Старик вертится юлой среди всего этого. То он требует расставлять дополнительных часовых вне стены, как только начинает темнеть, то снова и снова обходит территорию флотилии, чтобы обнаружить уязвимые места. После такого обхода он жалуется мне:
– Если бы они только захотели, то стерли бы нас в ноль с лица земли.
Судя по всему, нам предоставлено нечто вроде отсрочки. Инжмех флотилии говорит более определенно:
– Они разрешают нам тушиться в собственном соку.
От Maquis трудно укрыться: каждую ночь в городе то тут, то там вспыхивает яростная перестрелка, но это уже не новость.
– Ни два ни полтора, – произносит Старик и это звучит так, что кажется, ему было бы лучше, если бы, наконец, это началось.
Что за парадокс: Мы окружены, и, все же, я внезапно чувствую себя свободным – вопреки всему беспокойству – впервые за долгое время. Не досягаем для главарей в Берлине и Париже. Будь, что будет – во всяком случае «откомандировать» меня никто больше не может. Кажется, у Старика дела тоже идут по-прежнему: Он явно оживает: Его жизненные силы пробудились. Старик даже рядится в образ, напоминающий манеры ландскнехта, и появляется теперь в галифе и высоких сапогах. Возникла проблема с боцмаатом по имени Мертенс.
– Один из лучших людей старого корабля-ловушки, – поясняет Старик, – но с ним просто не могу больше ничего поделать: он все время попадает в новые трудности… А у него уже десять боевых походов.
Мертенс сцепился с «парнями из штолен», конечно будучи пьяным в дымину. Он якобы пристал к одной из «остановившихся там» дам и сцепился по крупному с каким-то обер-лейтенантом. И очевидно не только на словах. Когда его хотели арестовать, Мертенс, который судя по всему, обладает силой Берсерка, проявил упрямство и трёх человек, приблизившихся к нему, уложил на землю. Существует версия выдвинутая Мертенсом и подтвержденная двумя матросами, согласно которой он делал даме только учтивые комплименты, но, очевидно, на языке, который не был знаком ни ей, ни выскочившему ей на помощь обер-лейтенанту. Старик вздыхает:
– Это мне начинает уже надоедать, и я больше не знаю, что должен делать. Если рапорту дадут ход, то мы лишимся одного из наших лучших людей…
Я размышляю: Тебя заботит скорее мысль, а не сорвется ли этот человек еще раз… Спустя несколько часов, Старик сообщает мне:
– Опять новости! – и ждет, пока я не поднимаю напряженный взгляд. – Драма ревности в борделе! А это значит: На волосок от трагедии оказались. Полное безумие!
Узнаю: Какой-то матрос нашел за диваном в комнате проститутки фотографию своего приятеля, в нем взыграл зверь, и тогда он подстерег своего друга и выстрелил в него. К счастью, и вследствие своего опьянения не попал.
Из радио звучит:
«– Верховное главнокомандование Вермахта объявляет: К югу от Caen были укреплены отбитые вчера у врага наши позиции и наши войска сдерживали возобновленные атаки противника. Исходные позиции танков к востоку от Caen были разбиты массированным артиллерийским огнем.
В районе западнее Caumont противник проник несколькими клиньями, которые были блокированы брошенными в бой нашими сорока пятью танками… Американские подразделения продолжали наступление западнее Saint-Le всеми силами. Вражеской группе в двадцать танков с пехотой на броне удалось нанести атакующий удар и прорваться вплоть до Canisy. В ходе этого рейда пять танков были подбиты. Здесь и у Marigny завязались ожесточенные бои. Севернее Periers наши войска прочно удерживали позиции, отражая все атаки противника… Активные действия нашей боевой авиации были направлены минувшей ночью по исходным позициям противника у Caen и по морским целям северо-восточнее Cherbourg … Противник потерял в воздушных боях одиннадцать самолетов. На территории Франции за это период было уничтожено в боях сорок террористов.
Огонь возмездия по Лондону продолжается.»
Старик выключает радио. Повисает долгое молчание.
– Звучит не слишком торжественно, – говорю вполголоса.
Старик лишь яростно мотает головой.
– … в боях уничтожены… активные действия нашей боевой авиации, – произносит он наконец и повернувшись ко мне усмехаясь язвит:
– Твои люди!
В эту минуту появляется адъютант и с довольно важным видом. Он кладет Старику чуть не под нос несколько папок для бумаг и раскрывает верхнюю. Старику следует немедля прочитать находящееся внутри. Не приходится долго ждать, как я тоже узнаю: Несмотря на наше трудное положение и на то, что едва ли придут еще подлодки, опять возникает старая проблема: Должно ли быть возвращено на продсклад все неизрасходованное продовольствие вернувшимися лодками или нет? Зампотылу настаивает на имеющихся инструкциях, но матросы не хотят понимать, что продовольствие, которое они сэкономили, как они утверждают, «своими недоеданиями в походе», снова должно быть сдано на склад. Они пытались вынести банки консервов с борта, чтобы послать полевой почтой в бандеролях домой. Еще недавно экипажи так не поступали.
«– Мы здесь катаемся как сыр в масле, а там, дома нашим нечего есть. Что можно купить на эти чертовы марки?»
«– У нас прыщи от жирной жратвы – а они дома трясутся над каждой крошкой…», – бунтуют мариманы.
Тут сам черт не разберется, почему эта проблема сегодня снова стала так резко. От Старика ожидают Соломонова решения, но он сидит словно в ступоре. Если он захочет поддержать мариманов, то ему придется принять решение, противоречащее зампотылу и инструкциям. Поэтому он принимает озабоченный вид и отсрочивает решение. Адъютант смотрит с тоской на бумагу.
– Тормозишь! А у нас очередная проблема! – ликующе восклицает Старик, когда вхожу на утро в его кабинет, а затем поясняет в ответ на мой вопросительный взгляд:
– Запрещено пользоваться полевой почтой. Больше ничего не проходит.
Меня вначале озадачивает веселый голос Старика. Но затем мне на помощь приходит пословица:
– Что одному сова орет – другому соловей поет!
– Подходит! – Старик широко улыбается.
Запрещено пользоваться полевой почтой! Как это все достало! Для меня написание писем уже давно стало надоедливым делом. А кому вообще я мог бы все же написать? Когда я получил последнее письмо? Возможно, мне кто-нибудь и написал. Но как такое письмо могло бы достичь меня? Я шатаюсь как неприкаянный, без четкого адреса. Кто знает о том, что я сейчас в Бресте? Позабыт – позаброшен. Сгорел в хаосе войны… Как-то вдруг начался разгар лета. Двор флотилии сверкает под ярким солнцем. Кроме часового перед его выкрашенной в черно-бело-красный цвет будкой у ворот никого не видно. И все же недавно у меня появилось чувство, что за мной, когда пересекаю эту слишком большую сцену, наблюдает много глаз. Припоминаю, что Бартль охотнее всего приказал бы снести все старые серые дома по ту сторону стены. Мне, как-то раз даже показалось, что за ставнями этих домов как будто бы стояли люди с биноклями. Однажды нас обстреляют из этих домов. Пока же еще никто не решается стрелять в нас – из страха перед жестокими репрессиями: 50 заложников за 1 военного – таково соотношение. Останавливаюсь посреди двора и брожу взглядом по рядам закрытых серых жалюзей. Пара ставень косо висит в углах, перед несколькими окнами их нет вовсе: Обнаженные стекла слепы, словно заклеены темной бумагой. При таком осмотре теряется чувство угрозы: Французы, которые еще остались в городе, уже привыкли к нашему существованию и ничем не угрожают. Ясновидец! Подтруниваю безмолвно над собой и продолжаю свой путь. Подлодка без шноркеля покидает надежную пещеру Бункера. Прощание на пристани Бункера угнетает. И если бы сейчас кто-нибудь все же осмелился крикнуть: «Спастись, победить и жира добыть!», то он рисковал бы быть сброшенным в маслянисто-черную солоноватую воду. Командир лодки выходит на мостик и приказывает:
– Приготовиться к выходу в море!
На верхней палубе раздается топот: Моряки занимают свои посты. Через несколько минут доносится с мостика:
– Отдать швартовы!
Раздается сигнал тифона, его глухой солидный басовитый звук многократно отдается эхом. Беззвучно лодка медленно выдвигается из Бункера сквозь нависшее облако синего чада в розовую портовую воду. Мне видно, как мимо темной массы проходит минный тральщик, а затем подлодка выделяется на фоне пастельных тонов противоположной пристани длинной темно-серой вытянутой тенью. Однако вскоре, ее форма растворяется на фоне сильно дымящегося, скошенного плавучего крана. Все происходит слаженно, словно на бойне. Механизм уничтожения работает как по часам: laudos, без сучка, без задоринки. Смерть целых экипажей – это превосходная смерть для чиновников. Нет ни дымящейся крови, ни следов, ни омерзительно пахнущих трупов. Никаких шансов ни для мародеров, грабящих трупы, ни для коллекционеров личных опознавательных знаков. Никаких объявлений о розыске и списках разыскиваемых лиц, никаких дознаний и освидетельствований, никаких улик, никаких синяков или отпечатков пальцев: Лучше и быть не может. Никто не требует отчет, ни одна женщина не спросит, как утонул ее муж, ни одна мать – как утонул ее сын. Никто не хочет знать, не было ли вот это последнее использование этого экипажа ужасным безумием. Система функционирует. Бог войны носит лысый череп гросс-адмирала как защитную маску. Будучи ребенком, я однажды видел, как в мешке с двумя кирпичами для веса, утопили котят, в пруду гравийного карьера. Несколько воздушных пузырей, еще долго расширяющиеся и расходящиеся круги на воде – и все закончилось. Помню свои чувства: Я мог бы убить мальчика, бросившего тот мешок на середину пруда. Не решаюсь спросить, как дела у подлодки, что мы проводили три дня назад. Старик этого тоже не будет знать. Никогда еще ситуация с лодкой не была так неясна. На прошлой неделе в соседней флотилии тихо вернулась лодка, которая была давно списана как потерянная… Мало лодок, вернувшихся домой два, а то и три раза – как вот Ульмер, например. Больше не могут пробиться. Их обстреливают с самолетов бортовым оружием, специальные противолодочные отряды подвергают бомбардировкам: Делают из них котлету. Без вымпела, без пустой болтовни, они молча двигаются в соленой морской воде сюда. У людей испуганные, изможденные лица. Хоть волком вой. Повторение сцены прощания мучительно и для тех, кто на борту и для стоящих на причале. Старик молчит. Я тоже молчу. Человек привыкает ко всему… Когда во мне поднимается ужас и рот уже готов раскрыться, с силой сжимаю губы. Если бы мне предстояло пережить такое, я бы выбрал одно: Уж, коль нам суждено погибнуть, то лучше от пуль врага, а не расстрельной команды собственной фирмы.
– А что там с саботажем? – интересуюсь у Старика, когда мы снова сидим в его кабинете.
– Скажу так: Я бы больше не доверял никому из французов на верфи.
– А если бы ты был один из них – я имею в виду французов – и должен был бы надрываться на немцев?
– Тогда бы я, естественно, знал, что мне следовало бы сделать, – отвечает Старик не медля ни секунды и при этом хитро щурится. Однако затем снова делает серьезное выражение лица и говорит:
– Там надо быть предельно внимательным. Хороший главный механик тот, который совсем не сходит на берег во время нахождения корабля на верфи. Дышит в затылок каждому работнику верфи – вот это мудрость! Когда он следит за ними как черт….
– … за душами праведников, – дополняю быстро.
– Да, приблизительно так. Но почему это ты так волнуешься об этом? Сейчас мы располагаем лишь старой подводной лодкой-ловушкой, и та, так или иначе требует ремонта. Кроме того, едва ли французы заняты в Бункере. Ясные отношения….
– …тоже дорогого стоят, – отвечаю ему.
Незадолго до обеда почти сталкиваюсь на входе в столовую со Стариком.
– Пришел приказ убрать побережье. Даже аккумуляторные батареи собрать назад, – сообщает он, задыхаясь от быстрого подъема по лестнице.
– То-то я удивляюсь, откуда вдруг прибыло столько много артиллеристов и саперов.
– Все они теперь направлены к нам. Кажется, скоро здесь будет весело!
Мы вместе входим в столовую. Я должен постараться, чтобы поспеть за Стариком: Он делает слишком широкие шаги. Хлебая суп, Старик говорит:
– Мы должны, наконец, продвинуться вперед с маскировкой бассейна и заменить на верфи деревянные столбы на железные опоры – иначе скоро будет не до этого…
Под вечер наблюдаю, как по краям бассейна действительно устанавливают железные опоры. Старик небрежно приближается, руки засунуты глубоко в карманы брюк.
– Чистая работа – как всегда! Мы не можем позволить себе халтуру!
Он в таком приподнятом состоянии духа, что я даже решаюсь приколоться над ним:
– Что же подумает Фюрер, считая, что от нас тут кожа да кости остались, а на самом деле увидев всю эту байду…
– Аэропорт Брест-Север – аэродром уничтожен, – ворчливо отвечает Старик.
– Так ведь там его никогда и не было прежде, – возражаю упорно.
– Эскадрилья истребителей стояла, но они улетели, только пятки засверкали, когда пришли янки. Они же такие быстрые. Но до тех пор, пока еще аэродром там, мы не теряем надежду однажды увидеть самолеты также и собственной фирмы.
– А Брест-Юг? – скромно интересуюсь.
– О, Господи! Да там всего-то несколько хромых спасательных гидросамолетов базировались. Но они уже давно исчезли. А янки перепахали бомбами всю взлетно-посадочную полосу.
Старик уставился на свою трубку. А потом внезапно выдает:
– Я уже могу представить себе, почему теперь все идет насмарку: Они лгут, и прежде всего, сами себе – зовутся ли они фон Рундштедт или фон Клюге. И в первую очередь врут там, в своем Вольфсшанце…
Он вдруг запинается – но, судя по всему, еще не закончил.
– Роммель был, конечно, исключением. Он знал свое дело. Не то, что все эти пузыри, которые важничали здесь на побережье…! А теперь извольте радоваться – теперь мы расплачиваемся за то, что они заварили. Но так у нас всегда – я уже давно к этому привык….
Все ясно: Старик хочет выговорить свою ярость и успокоиться. Но это удается ему лишь наполовину. Не проходит и минуты, как он снова шумит:
– То, что Брест, если дело дойдет до крайности, не будет взят с моря, должно быть ясно, собственно говоря, каждому. Наконец, мы не на войне Семидесятых. Я бы дорого дал за то, чтобы мы могли здесь повернуть все на 180 градусов. С тыла, я все время это утверждал, именно с тыла заявится к нам злой дух, когда однажды здесь начнется смертельная молотьба.
Звучит не очень оптимистично, – мелькает мысль, – менее оптимистично, чем я ожидал от Старика.
– У Бреста есть, по крайней мере, одно преимущество, – продолжает он, кажется, уже более спокойным тоном, – Его не так легко можно обстреливать корабельной артиллерией, как побережье Нормандии. Им просто не удастся войти в его узкие гавани.
Старик произносит эти слова довольно осторожно и «не слишком уверенно». Сколько времени будет длиться это ожидание, пока нас не атакуют всеми силами и средствами: с воздуха, с земли и с моря? Проходя по двору флотилии, думаю про себя: Вероятно, Бартль все же здорово прав: Здания вблизи главных ворот флотилии следовало бы снести под ноль, лучше всего весь этот квартал, это открыло бы нам, в случае нужды, широкое поле обстрела. Жаль только, что это коснулось бы не только старых хибар. Без гаража Ситроена Брест будет как на ладони, в этом можно не сомневаться. Наш морской госпиталь тогда образует своими широкими помещениями нечто вроде форта-заставы. Никаких сомнений, что здесь будут ожесточенные бои. А это значит, что базу нам долго не удержать. Для активной обороны мы располагаем, в конце концов, всего-то двумя Бункерами за главным корпусом. Старик прав: Все укрепления смотрят, как и во времена Вобана в море. Огневые точки и командные пункты смотрят только в море. Никто, в течение всех этих последних лет строительства крепости, очевидно, не озаботился мыслью, что Брест может подвергнуться атаке со стороны суши. В прекрасном единодушии все ответственные лица вперили свои взоры в море – скорее в направлении моря, так как из крепостных укреплений Бреста даже нельзя увидеть открытое море! За обедом Старик кажется в лучшем настроении.
– Мы должны быть уже довольны тем, – объявляет он на всю столовую, – что при сложившихся обстоятельствах нас не так просто сбить с ног. Поэтому теперь, в первую очередь, для нас важны наши активные действия против возможного саботажа или диверсии.
Старик смотрит, что для него характерно, опустив голову и стянув брови домиком на сидящих вокруг. И так как из зала не поступает никакая реакция, он добавляет:
– Я, во всяком случае, не хотел бы проснуться от ручной гранаты под койкой…
Тут напряжение прерывается покашливающим смехом. Когда толпа офицеров выплывает после обеда из столовой, Старик говорит мне:
– Нам следует отказаться от наших с тобой павильонов, в это слишком тревожное время. Предлагаю перейти в скромные комнатки, но подальше от дороги. Я урегулирую это с зампотылу. Свободных помещений достаточно. Переедем под вечер. Бартль сможет выделить пару человек для помощи… Ну, а теперь мне нужно позаботиться о кислородных баллонах на верфи. Оберштабсарц постоянно плачется об этом.
– Старик и его пудель! – случайно слышу, как кто-то произносит в клубе. Пудель – это я.
Пусть будет так: В конце концов, хоть что-то о себе узнал. Ясное отношение ко мне!
Ответы Старика на мои вечные расспросы больше не так кратки, как были недавно или дают информации больше, чем в первые дни. Со временем они стали точнее и более детальными – медленно, но верно. Старик больше не уклоняется от моих расспросов и иногда показывает, что он действительно думает. Однако могу ли я быть в этом совершенно уверен? Привокзальная площадь буквально забита беглецами из пригорода. Среди высоконагруженных колымаг различаю двухколесные тачки, реквизированные у крестьян. Там же серые, перекособоченные фургоны, в большинстве своем газогенераторы на древесном сырье, раздолбанные будто фургоны ярмарочных торговцев. Среди людей в форме много гражданских лиц. Интересно, они же все не могут быть немецкими гражданскими служащими? Разве что коллаборационистами, для которых теперь удачный побег – это вопрос жизни и смерти? С того места, где я стою, всматриваюсь в направлении узкого входа на рейд: Там снова висят они – аэростаты заграждения: неуклюжие серые небесные рыбы в холодной кобальтовой сини! Проходя мимо пока еще целой зеркальной витрины внезапно вижу свое отражение и мне требуется несколько долгих секунд чтобы увериться, что этот нагловатый, блестящий как пятак Аника-воин – действительно я: Форма цвета хаки, кобура с пистолетом, мягкая кепи с козырьком, как у парней из африканского корпуса. Однако я легко могу извинить себя за такой прикид: Для формы цвета морской волны из тонкого ультрамарина слишком трудные времена! Наблюдаю разгрузку грузовика за оцеплением любопытствующих морских пехотинцев: Пишущие машинки, ящики с бумагами, даже корзины для бумаги и связка гардинных штанг. Взволнованные, проклинающие все и вся, с раскрасневшимися лицами между ящиками и узлами носятся офицеры.
– Все сжечь! – орет один из них.
– Только спирт сначала слейте! – кричат из оцепления.
От Старика мне известно: Такие вот, прибывающие на грузовиках полевой комендатуры «спецы», требуют себе с наглым высокомерием «отменные» квартиры. Они действуют так, словно здесь у них должен быть обеспечен привычный им режим регистрации и ведения дел. У гаража Ситроена начали рыть окопы. К вечеру бойцы, занятые рытьем окопов, возвращаются пешком во флотилию. В какое дикое и запущенное состояние они пришли уже спустя всего несколько дней! Напоминают скорее не солдат, а ополченцев, не имеющих единой формы: На некоторых серые комбинезоны, на других полевая форма защитного цвета, и только на немногих цвета морской волны. Даже форма цвета хаки и та есть. Солдаты морской пехоты, несущие службу часовых выглядят, напротив, в своей портупее с висящим штыком чрезмерно воинственно. К чему могут быть применены, например, их штыки? Они же только косо оттягивают портупею. И эти нелепые противогазы… Большинство бойцов засучили брюки на морской манер, другие засунули их в сапоги с коротким голенищем.
– Янки уже удрали, – слышу голос одного морпеха. Он, кажется прав: Дело уже не выглядит так, будто янки уже завтра приблизятся к нашему порогу.
– Ну, им еще потребуется какое-то время, – отвечает другой, – мы же пока не убегаем от них.
– Так примитивно я себе это никак не представил, – бормочет Старик. – Никаких следов нашей разведки.
– Знаешь, как я себя чувствую?
– Как же?
– Как жертва какого-то слабоумия.
– «Добыча ловца не ждет, а ловец ее поджидает», – как говорится – Маразм крепчает!
– Я слишком забочусь о «добыче», в своем лице.
– Ну и как же ты пришел к такому выводу именно теперь?
– На днях встретил пехотинца – унтер-офицера – он только что прибыл сюда…
– И что?
– Он прибыл сюда со своим подразделением из Quimper.
Старик, словно мешком ударенный тупо спрашивает опять:
– Ну и что?
– А то, что подразделения из пригородов Бреста собираются в нем, это ясно как день Божий, для ожидаемой защиты крепости, вот что я уловил, но до Quimper еще добрых 90 километров. И все же, я спрашиваю себя, почему не перебрасывают войска там, в направлении Парижа, а вместо этого бросают сюда, в мешок?
Старик, похоже, задумался. Однако вскоре только и произносит:
– Ты снова забиваешь себе голову вопросами войскового управления…
– Или, может быть, вопросами вождизма?
Старик делает вид, что ничего не слышал.
Вновь с неба сыплет дождь листовок. Согласно приказу они должны отдаваться в штаб непрочитанными. Но с тех пор, как в листовках стали печатать нечто вроде пропуска для открытого перехода на сторону противника, для солдат появилось искушение скрытно оставлять один экземпляр себе, так как была большая опасность быть пойманным с такой листовкой. Хотел бы я сэкономить на еде. Мне действует на нервы вид этих господ, тупо сидящих и как кролики безмолвно жующих свою пайку. А Старик не принимает никаких, даже самых незначительных мер, чтобы разрядить гнетущую атмосферу. Он равнодушно черпает ложкой густой суп, и не смотрит ни вправо ни влево, лишь когда тарелка пустеет, требует добавку. Если бы страдающая от дефицита внимания, озорная Тереза не исчезла, у него в один миг была бы требуемая добавка. А теперь? Старик пару раз проводит себе вокруг рта, но никто из бачковых не спешит к нему с суповой миской, и он громко спрашивает:
– Здесь, что, уже служба закончилась?
Адъютант вздрагивает, вскакивает и легко семенит к раздаче. Старик откинулся назад, а лоб собрался в глубокие складки. Так как теперь уже и адъютант не появляется, Старик зло осматривается вокруг. Когда он, так как сейчас, жует нижнюю губу, то он может взорваться в любой момент. Внезапно завывают сирены, одна из них в последнее время стоит прямо у нас на крыше. Ее то нарастающий, то затухающий вой совершенно сводит меня с ума. Снаружи доносится огонь зениток, и все взгляды немедленно устремляются на Старика. В этот момент появляется, наконец, бачковый с дымящейся суповой миской – адъютант спешит за ним. Старик наполняет тарелку до краев, в полном душевном покое задвигает полную ложку в рот и начинает спокойно и величаво пережевывать порцию супа. Старик в своей своеобразной манере: Братишки нам по фигу, и уж точно им нас не победить. Да пошли они все! Нам испортить настроение и аппетит, это все, на что способны эти недоумки, страдающие энурезом. Самое лучшее, это я точно знаю, хотелось бы Старику зависнуть сейчас в сиденье стрелка зенитной четырехствольной установки, которые сегодня стоят вокруг на соседних крышах. Тем временем стук ложек едва слышен, все ждут команду Старика, но он упрямо продолжает есть молча. Из больших окон открывается панорамный вид, как с холма полководца. Ясно вижу заградительный огонь тяжелых зенитных пушек. Украдкой бросаю взгляд на Старика, но он и не думает подниматься из-за стола и отправлять своих офицеров в укрытие. Оконные стекла вздрагивают так сильно от разрывов снарядов зенитной пушки, что это звучит так, будто сошедший с ума ударник истошно лупит в свои барабаны.
– Они опять разгружаются на Crozon, – объявляет Старик равнодушно. – Там зенитчикам совсем не до смеха.
Скольжу взглядом дальше вправо над нашим панорамным окном, как внезапно перед белыми облаками появляются темные крапины. Протираю глаза: Оттуда приближаются тяжелые бомбардировщики, сомкнутый строй Либерейторов, если не ошибаюсь. Это чертовски похоже на массированный налет. Вот сейчас они появятся над Бункерами и сбросят свои бомбы… Глухой, плотный шум проникает мне в уши и быстро нарастает: Истребители! Никакого сомнения: Это будет массированный налет. Если уж прибыли бомбардировщики с истребителями, то уж точно разделают нас под орех. Истребители идут настолько низко, что они, едва их увидели, уже опять как привидения исчезают за стенами, крышами и навесами. Отсюда сверху, наверное, можно было бы проследить их маршрут, мчащихся с бешеной скоростью, скрывающихся в вышине. От испуга и волнения у меня перехватывает дыхание. А Старик упрямо продолжает черпать суп дальше. Совсем спятил! – думаю про себя. Лейтенанты кого я вижу, сидят, слегка пригнувшись, словно наготове рвануть к двери. Но взгляд Старика буквально пригвоздил их к стульям. Взгляд укротителя? Взгляд памятника? Что запрещает нам всем этот гипнотический взгляд? Напряженно всматриваюсь, как высоко в небо вздымаются разрывы бомб, напоминая черно-серые, кудрявые цветки бархатцев. Фонтаны обломков поднимаются вверх удивительно медленно. На мгновение кажется, что эти странные клочья хотят остановиться в воздухе, но затем сыпятся на землю ужасным дождем и тонут в облаках черного дыма. Такой вид из нашей ложи на сцену военных действий, а Старик даже не смотрит! Только когда несколько окон распахиваются с характерным треском, и несколько стекол разлетаются осколками, с силой стуча об пол, он поднимает взгляд и делает наполовину удивленное, наполовину снисходительное выражение лица – такое, будто вся эта суматоха ничуть его не касается. Всего лишь нарушение тишины, и ничего больше. Зампотылу сидит, опустив голову, оберштабсарц искоса смотрит на Старика с интересом психиатра: поднятые брови, изборожденный морщинками лоб, в углах рта затаилась насмешливая, ироничная ухмылка. Новые, резко очерченные, зубчатые облака взрывов притягивают мой взгляд в направлении Бункера. Никаких сомнений: Бункеры – вот главная цель этой воздушной армады. Не ошибаюсь ли я, но не ослабевает ли сила нашей противовоздушной обороны? Внезапно быстрый, на высокой ноте шум заглушает бомбовые разрывы, и весь ряд офицеров, сидящий напротив меня и не видящий всей сцены, вжимает головы в плечи. Тень нависает так плотно над окном, что на долю секунды в помещении темнеет. Я отчетливо вижу брюхо самолета и различаю чередующиеся полосы под крыльями: почти вертикально, словно дракон он прямо перед нашими окнами устремляется вертикально, словно метит в крышу. Звон, грохот, дребезжание. Оконные стекла разлетаются осколками, тарелки, неловко подхваченные глубоко вжавшимися в свои стулья офицерами падают со стола. Один стул опрокидывается. Смущенно улыбаясь и пряча горькие взгляды, перепуганные люди снова усаживаются на свои места. Старик же делает злое лицо и орет:
– Эй, на раздаче! Сделать приборку!
Вот безмозглый осел! Так испытывать судьбу! На улице больше нельзя ничего разглядеть из-за сплошных черных дымов. Едкий запах, скорее даже смрад заполняет столовую через окна. Наверное, попали в нефтяные цистерны.
– Отыграли как по нотам! – говорит оберштабсарц.
Со всей осторожностью пытаюсь юморить:
– Только жаль, что зрителей было маловато…
Старик криво ухмыляется.
– Настоящий эпический героический театр! – добавляю с горькой усмешкой.
Старик чувствует упрек и тут же реагирует:
– А как бы это выглядело, если бы офицеры сломя голову неслись по лестнице, словно школьный класс на перемене?
Высказавшись, он показывает удовлетворение человека, которому удалось сохранить лицо.
– Выясните немедленно, что разрушено, – Старик пытается теперь расшевелить зампотылу. Тот, все еще бледный, с ошарашенным видом, немедленно поднимается.
Когда Старик встает из-за стола, и мы вместе спускаемся по ступеням на лестничной клетке, он бормочет:
– Однако там ничего не должно было произойти! Нутром чую!
И уже сжимая в руке ручку двери своего кабинета, добавляет:
– Это был здесь один из самых тяжелых воздушных налетов.
– И относился он именно к флотилии, – добавляю тихо.
– Не думаю! Они же, несомненно, знают, что здесь одни лишь штабные крысы и такие парни как ты без дела болтаются….
Старик заметно наслаждается своей шуткой.
– Им стоило бы прибыть сюда раньше, когда здесь еще было полно экипажей, чтобы навести шорох, это стоило бы свеч, а сейчас?
С недавних пор часовые по ночам стреляют во все, что движется. Случайно присутствую при разговоре, когда адъютант, сразу после завтрака, докладывает Старику, что во время перестрелки прошлой ночью, в сотне метров от главных ворот были застрелены два француза:
– Они не остановились по требованию патруля.
Старик выслушивает доклад в высшей степени равнодушно.
– Вряд ли это настроит французов благосклонно к нам, – говорю, когда адъютант исчезает.
– Хорошо тебе говорить! Что иное может помочь нам, кроме принятия жестких и решительных мер? – Старик кричит на меня. – Мы должны, в конце концов, уяснить себе, хотим мы того или нет, что мы здесь во вражеской стране. – И затем добавляет: – Наконец, это французы объявили нам войну, а не мы им, – он говорит упрямо, как упертый подросток.








