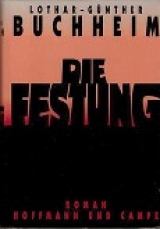
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 111 страниц)
В первую очередь надо бы заглянуть в свое издательство, на Лютцовштрассе, 89. Однако, навряд ли все ограничится одним лишь посещением. Царь Петр захочет получить от меня обстоятельный доклад.
Так же надо будет сбыть с рук и посылочку, от нашего фотолаборанта, и всю ту дребедень, что оттягивает мне руки. Прекрасно понимаю, к каким трудным усилиям это все приведет, но тут уж как говорится: взялся за гуж, не говори, что не дюж! Если бы я хоть приблизительно знал, что от меня хочет Геббельс!
Упорно пытаюсь заснуть. Но менее всего в этом поезде думается о сне. Каждый раз, когда поезд останавливается, слышу доносящиеся из прохода вагона рыкающие голоса, и пытаюсь, напрягая слух прислушаться, чтобы понять, что же рыкают на странном диалекте люди за дверью моего купе.
Поезд теперь переполнен. Ручку двери моего купе то и дело дергают. Хорошо, что никто не пытается выбить переборку. За окном царит темная ночь. Иногда облака рассеиваются, и тогда лунный свет бросает причудливые тени на проплывающий за окном ландшафт.
Того, что моя поездка на этом поезде придется через руины и развалины, я и в дурном сне не мог представить. Рельсы легли исключительно вдоль сожженных дотла руин. Невольно задаю себе вопрос: сколь много человек осталось лежать под завалами кирпичных стен и щебня? Когда начнут все эти трупы вонять разлагаясь? Имеются ли списки всех погибших при бомбардировках? Что касается мертвых, то, что их есть и немало – это прописные истины, и это очевидно. А кто еще околеет за это время, вряд ли будет дополнительно объявлено властями….
Нахожусь в абсолютном неведении того, кто из моих школьных товарищей еще жив. Многих, скорее всего, уже нет. Несколько погибли в Польше. Об их смерти мне сообщили те, кто затем погиб во Франции. А теперь? Из моих подружек две точно мертвы: Рената Венце и Лена Шварц. Обе убиты бомбой. Рената в Магдебурге, а Шварц в Берлине. Гизела лишь чудом уцелела в бомбоубежище. Ей чертовски повезло, когда ее, заживо погребенную под руинами убежища, вернули к жизни. Ну, а, собственно говоря, когда я видел-то ее в последний раз?
Итог замечательный: едва ли большинство моих друзей живы. Мой призыв, если так и дальше пойдет, будет полностью уничтожен.
Невыразимую боль мне доставляет представление того, как моя подружка Лена превращается ни во что, в грязь и прах под развалинами и рухнувшими на нее сводами. Шварц и этот господин профессор Герисбергер – эта свинья! Едва лишь он получил звание члена муниципалитета, как стал терроризировать на этой основе всю Академию. Особо воодушевляло его то, что он специализировался на высоких чинах из СА, изображая их в полный рост в ночном освещении, волочащих перед собой свои, словно чужие, крепко сжатые кулаки.
– Здесь представлено чистое воплощение в жизнь желание Отца нашей идеи! – в такой грубоватой форме ответил он на недоуменный взгляд Лены, стоя перед выставленными в рисовальном зале рисунками, когда наивная и добрая девушка увидела на одном из них тщательно вырисованный углем и тушью половой акт. Но профессор плохо знал Лену, потому как стоило ему лишь на несколько минут оставить ее одну, она дорисовала мужской орган еще на добрых пять сантиметров. У юноши-модели, лет двадцати пяти, стоявшего там же на возвышении, он и был примерно такого же размера.
Должно быть, я задремал, т. к. очнулся от забытья от грубых голосов прямо за дверью купе. Сбросив остатки дремоты, отчетливо слышу: «Я сейчас наложу кучу прямо на ваши чемоданы!».
А поезд все стоит и стоит. Бог знает, когда же мы таким темпом доберемся до Берлина, если все и дальше будет идти таким темпом. А в голове назойливой мухой бьется одна мысль: это длится уже вечность! Целую вечность! Поезд дергается и начинает движение, а я в такт перестука колес твержу: длится вечно – длится вечно! Затем варьирую: не приедет – длится вечно – не приедет….
Уже светло, когда поезд достигает наконец-то Берлина. Но что же произошло с городом? Вместо окон повсюду видны дыры и причудливые, будто разрезанные раскромсанные остатки стен, повсюду целые поля развалин с высоко-торчащими трубами каминов. Они стоят абсолютно целые, словно являют собой твердую опору всех этих разрушенных зданий.
Проезжая мимо, вижу когда-то широкую улицу; теперь же дома по обеим ее сторонам лежат совершенно растерзанные, как прикатанные гигантским катком, словно они все были лишь карточными домиками. Скорее всего, бомбы падали здесь еще раз, уже на ранее разрушенные ранее здания и превратили все в сплошной щебень. Уму непостижимо, чтобы от всего великолепия двух рядов домов вообще ничего не осталось, кроме этого серого щебня – никаких следов дверей, мебели – вообще никакой обстановки!
Потянулись линии складов, на которые я сверху, немного наискось, смотрю и смотрю. Видны лишь железные скелеты фабричных крыш. На высокой, в пять этажей, стене почти рядом с рельсовыми путями, читаю: «Похоронное бюро Гринайзера». Словно издевательская усмешка судьбы!
БЕРЛИН
Выхожу из поезда на станции «Зоопарк». Из полевой военной кухни, стоящей прямо перед станцией, раздают солдатский суп. Имеется также и чай. Надо бы заглотнуть что-то горячее, чтобы согреть кишки. Чай красивого рубинового цвета. Может из листьев ежевики?
Осматриваю себя пристальным взглядом и замечаю, как во мне все изменилось не в лучшую сторону: поношенная, залатанная местами форма, мятая физиономия. А вокруг изможденные, истощенные солдаты волокут свои рюкзаки, карабины, фанерные чемоданчики и парусиновые сумки. Лица, измученные бессонницей, растрепанные волосы, трехдневная щетина – некоторые пехотинцы перевязаны бинтами. Охотно спросил бы их откуда и куда идут, но не решаюсь: у них у всех вид как у недавно обретших свободу каторжников.
В воздухе висит дым, но не только от паровозов. Чувствую себя покинутым и ненужным в этой вокзальной толпе.
Из Мюнхена я обычно всегда прибывал на вокзал Анхальтер и все было разложено как по полочкам. Стою в задумчивости перед большим, полуоборванным планом города на стене вокзала: трамвайные подъезды к Анхальтеру уничтожены, но куда-то они же должны ходить? Вообще-то мне всегда не везло с трамваями.
Если после бомбежки разрушены линии проводов питающих трамваи – то, конечно же, нечего надеяться на трамвай. Надо попытаться добраться до цели на метро. Метро, конечно, надежнее, но оно не выходит прямо к Анхальтеру. Постой-ка: если удастся перебраться через Нолендорфплатц, а затем через поворотный треугольник для паровозов к Мекербрюке, то я буду гораздо ближе к цели. Тут до меня доходит, что передвигаясь таким образом, я буду двигаться параллельно маршрута в южном направлении и тогда достигну своего издательства на Лютцовштрассе – а затем приберусь через Канал и так же попаду в ОКВ. А оттуда до Анхальтера буквально 15 минут per pede. Можно еще обдумать эту мысль, а можно сразу же шлепать и посмотреть, смогу ли я каким-либо трамваем доехать туда. На Лютцовштрассе уж точно, хоть один трамвай да есть.
Но, прежде всего задача стоит добраться до ОКВ – в Издательстве в этот час еще никого не будет. Избавиться от курьерской сумки, пары подарков и сразу же рвануть к Масленку. Затем без промедления заняться комнатой, разгрузиться там и топать в Издательство. Стоит ли оно вообще еще пока на своем месте?
С трамваем мне не везет. И добравшись в конце концов до ОКВ, весь буквально истекаю потом. Поскольку я сейчас в роли курьера, то должен предстать пред светлые очи начальника отдела ротмистра Хольма. Я увижу его в первый раз, но уже наслышан, что он настоящий щеголь. К тому же мне известно это от его дочери, которая вместе со своей разведенной матерью была некоторое время моей соседкой. С учетом всего сказанного, я довольно небрежно отдаю честь и отступаю в угол. Совершенно будничным тоном говорю, что знаю его «Камилу» и тут же получаю настоящий выговор:
– Госпожу дочь господина ротмистра, смею просить Вас помнить об этом!
– Ого! – чуть не вырывается у меня возглас удивления. Но мне все эти изречения до лампочки, а от фразы «Слушаюсь!» – меня не убудет и моего молодцеватого доклада, как я полагаю, будет достаточно для этого франта. Однако Хольм слушает меня в пол-уха и с таким видом, словно от моего доклада у него заболели сразу все зубы.
– Слава Богу! – выдыхаю, вновь очутившись на улице: я распрощался с тяжелой сумкой, а заодно и с господином ротмистром.
Масленка, собственно, зовут Фукс и по специальности он врач. В Управлении он, наверное, тот еще зубр, и не без основания называет себя беллетристом. До сих пор не могу понять, кто же покровительствует ему, кто его «крыша»? он поставляет свои зарисовки едва ли в час по чайной ложке. Я называю его «Масленок», т. к. он весь из себя такой лоснящийся, гладкий, что я бы его, как сверх меры замасленного борца на ковре, просто не стал бы касаться, и постоянно удивляюсь, смогу ли и я когда-либо также разжиреть.
Его мягкое, вялое рукопожатие и плавающий, скользящий мимо собеседника взгляд каждый раз приводит меня в замешательство. А может он гомик? Задаю себе этот вопрос каждый раз после такого рукопожатия. Каким образом этот женоподобный человечек в голубой униформе очутился в Управлении, и каким образом пришел он к своим золотым нашивкам, знает только Бог.
Более всего, в разговоре с ним, мне хочется найти верный тон: не слишком официальный и не слишком доверительный. Угоднический, подхалимский тоже не подойдет. Те театральные сцены, что я когда-то играл с гомиками, обогатили меня на всю жизнь.
Воспоминание об архитекторе Шмид-Роде заставляет меня внутренне вздрогнуть: как он меня, для того чтобы объяснить мне секреты ландшафтной живописи, держал у окна купе вагона, а затем прижался ко мне сзади и обеими руками залез ко мне в карманы брюк, в то время как я делал вид, будто ничего не замечаю. Он и еще пара подобных ему привели меня раньше времени в такое смятение, что я еще очень долго испытывал недоверие, когда встречал дружески настроенных взрослых.
– Вам давно пора было объявиться! – приветствует меня Масленок. – Нам всем пришлось здорово посуетиться. Четверг – это послезавтра – в 10.30 Ваш доклад у Рейхсминистра.
Мне не терпится спросить Масленка, что меня может там ожидать, но сдерживаюсь и разыгрываю полное самообладание:
– Все же нормально, потому что я здесь!
Милитаристский балаган, в полном соответствии со значением этого слова.
– И постарайтесь избавиться от Ваших фронтовых привычек! – продолжает Масленок.
Это уже настоящий апперкот. Успокаиваю себя: никакой выпивки этому жулику. Кто так речет, тот ничего не заслуживает. И вообще – что это за тон царствует здесь? – сначала придурковатый Хольм, а теперь еще этот ментор. Но тут Масленок делает так, словно собирается переменить тональность своего разговора. От официального к свойскому?
– То, что господин Рейхсминистр желает Вас видеть, это конечно большое отличие. – Слышу его голос и не знаю, то ли опустить глаза долу и замереть от стеснения, то ли принять соответствующую намеку выправку бравого вояки. По правде говоря, я чего-то опасаюсь. Кто его знает, во что я еще могу здесь вляпаться?
Масленок устраивается поудобнее и говорит:
– Господину Рейхсминистру конечно понравились Ваши тексты, а так же он очень, и кстати давно уже, интересуется Вашими рисунками. Однако когда Вас захотели видеть в Министерстве, нам это было не совсем понятно. Вам, наверное, лучше известны истинные причины этого вызова! Не зря же Вы проехали такое расстояние поездом.
Эге! Да он выбросил белый флаг! – мелькает мысль. Знал бы кто-нибудь, как мне приходилось изворачиваться, чтобы не попасть на эту чертову кухню.
– Нам, без сомнения, нужны Ваши работы для Дома Германского Искусства. Например, новый портрет Гроссадмирала, – объявляет Масленок мягким, почти домогающимся доном. – Вы уже писали портрет Гроссадмирала?
– Да, но лишь как командующего подлодками, – рискую пошутить. Масленок тут же недоуменно поднял брови. Приходится быстро объяснять:
– Нашивки на его рукавах теперь другие. Теперь я должен представить господина Гроссадмирала публике с, так сказать, золотыми предплечьями и с адмиральским жезлом.
С моей стороны это мое высказывание планировалось мною и как средство вывести Масленка из себя. Смотрю ему прямо в глаза: ни один мускул не дрогнул и взгляда не отводит. Значит, либо я здорово промахнулся, либо выстрел был холостой. Поскольку Масленок все еще молчит, пускаю вскачь свои мысли: этот дурацкий адмиральский жезл выглядит как огромный фаллос. На официальных фотографиях господин Гроссадмирал выглядит с ним не совсем нелепо: словно он, с пронзительным взглядом из-под козырька фуражки, гордо представляет всем этакий заменитель своего органа. «Дом Германского Искусства» – «Великая Выставка Германского Искусства»: я уже просто не в силах более это слышать. Неужели Масленок серьезно думает, что этим летом на стенах Мюнхенского Дворца искусств все еще будут висеть картины? «Афинский вокзал», такое название Дворцу дал мой издатель Петер Зуркамп.
Никакого сомнения, Масленок ожидает, что я сболтну что-нибудь лишнее и откровенно поделюсь с ним своим мнением. Шалишь! Ты настороже – я тоже! Так размышляя, придаю лицу вид ожидания и полной готовности к восприятию его речи.
И тут Масленок протягивает мне какой-то лист лежавший у него не столе. Читаю: «Секретно!» и слышу:
– А это приходит сюда прямо от I А/М. Мы тоже должны что-то делать.
В голове крутится: I А/М? Что это? Может быть тот необъятный, жирный генерал – фон Витцель или фон Ведель – который, несмотря на свой убийственный вес, всегда влезал своими необъятными могучими ляжками в свои рейтузы для верховой езды, подчеркивавшими безобразие его фигуры? Ладно. Что там дальше? «Копия! Секретно! Главное Командование Вермахта. 3150/442 Вест/ВПр (I А/М) (Вермахтпрессе). Берлин В5. в роту пропаганды ВМФ, Потсдам. Непосредственно: Сообщение для военных художников и художников-репортеров.
1. Изданное ранее требование к военным художникам и художникам-репортерам об организации их студийной деятельности (Передвижные выставки, призы и т. п.) и их действий со времени вступления в Роту Пропаганды – (смотрите перечисление представленных работ) – уничтожены при пожаре, поэтому представлены новые требования.
На основании изложенного доводится до сведения, что все работы должны быть представлены ОКВ/ВПр. (II В/М) и только затем разрешается включить их в перечень. В наличии сейчас отчеты только фон Купперса, Хаха и Буххайма; в то же время ни Купперс, ни Буххайм не представили ни одной работы.
2. Военные художники обязаны при прибытии в Берлин явиться для доклада в I А/М и переговоров с II В/М в ОКМ/М Верм. III (к капитану 1 ранга Рихтеру) и в БСВ (к командующему Силами безопасности западного побережья контр-адмиралу Буссе) с целью получения нарядов-заданий. Обе службы нуждаются в картинах и рисунках, в особенности ОКМ для оформления военно-морской школы и других зданий…»
Я должен, очевидно, что-то сказать, но словно язык проглотил. Я что, уже в сумасшедшем доме? Значит я – на одном дыхании – командируюсь к Геббельсу и тут же – проклятье – должен нарисовать картины сражений для каких-то казино? Военный художник в роли оформителя казино? Так точно-с! и это на пятом году войны – и в секретном приказе! Медленно поднимаю глаза от листа, для того, чтобы проверить, как реагирует Масленок, и при этом пытаюсь сохранить насколько возможно, спокойный вид, но, наверное, что-то такое, противоречащее написанному, отображается на моем лице.
– Наш отдел уведомлен, что Вы вызваны к господину Рейхсминистру, – произносит, наконец, Масленок.
То-то бы удивился господин Рейхсминистр, если бы он получил на прочтение этот приказ. Едва ли могу себе позволить такое высказывание, не зная точно с какой стороны дует ветер. При этом думаю: эти пришпоренные, высокопоставленные жеребцы, наверное, и не представляют себе, какой час уже пробили часы истории. Разве прекратились воздушные налеты? Нужно было бы им первым отстрелить напрочь их толстые задницы, пока они не запрятали их в какую-нибудь дыру.
– Проглоти это молча! – произносит Масленок, потягиваясь и с таким видом, словно знает что-то особенное. В конце концов, этот то ли Витцель то ли Ведель – его начальник, выше которого для Масленка лишь сам Фюрер.
– Интересно! Только не совсем правильно, – медленно начинаю я.
– Ну, вероятно этот приказ будет читаться по-другому, после того как Вы встретитесь с Рейхсминистром… – судорожно выпаливает Масленок доверительным тоном, но тут же решительно добавляет: А теперь нанесите все Ваши визиты, но помните: послезавтра Вы у Рейхсминистра! Если я правильно понимаю, у Вас масса работы. Вам необходимо, в первую очередь, позаботиться о получении разрешения на переиздание Вашего «Охотника в Мировом океане». Из Вашего Издательства уже звонили несколько раз по этому поводу…. Игра была действительно не совсем удачная.
– Все действительно выглядит так, господин капитан, – произношу – словно книга никому не нужна. Сначала весь тираж в Лейпциге уничтожен в результате бомбардировки, а когда, в конце концов, в Эльзасе все получилось с новой печатью, все сожгли маки;. Это все уже на педеле моих нервов.
– В любом случае, все это произошло всего лишь с книгой…, весело замечает Масленок, но тут же весь собирается, будто на него снизошло вдохновение, окидывает меня взглядом и продолжает с хорошо наигранной решительностью:
– Ну, да ладно. Мы должны без всяких сомнений сделать все возможное, чтобы напечатать ее вновь!
– Хотелось бы знать как? – спрашиваю себя тихо.
– Бумагу теперь довольно трудно достать, так же трудно найти и печатную краску. Но я уже придумал, что нужно сделать: мы напечатаем ее в Норвегии! На этот раз – в Норвегии! То есть там, где сегодня есть и бумага и краска.
– Parbleu! – проносится в голове, но едва я собираюсь что-то сказать, как Масленок, словно ошпаренный вдруг выпаливает:
– Напечатаем огромным тиражом! В крайнем случае, для получения бумаги нам нужна будет подпись Верховного Главнокомандующего – очень нужна будет! Но сначала обратитесь к армейскому командованию. Это в их компетенции – в частности, к советнику управления Вермахта Герду Роланду. Это тот беллетрист, с которым у Вас хорошие связи.
– Что все это значит? Междусобойчик беллетристов? А где, осмелюсь нижайше спросить, располагается сей господин?
– Господин служащий военного Управления? Матейкирхплац, совсем рядом. Вам бы лучше сразу направиться туда. А затем сразу же в редакцию, где Вас давно ждут. К сожалению, не могу предоставить автомобиль.
– Это очевидно потребует особого внимания с его стороны, да и будет ли у них время на меня? Не знаю, встречу ли я сразу всех нужных мне людей?
– Пусть об этом не болит Ваша голова!
Ну, вот теперь, ты заработал свою выпивку, произношу про себя, а вслух:
– Хочу позволить себе…
– Как называется Ваша новая книга? – очевидно, Масленок хочет узнать побольше о приготовленном для него коньяке.
– «Покоренная жизнь» – но это еще неокончательно.
– Звучит неплохо. Я бы сказал: ВМФ должен просто больше показывать самое себя.
Головная боль, думаю про себя, закрывая наконец-то дверь кабинета. Головная боль. Игра слов: «Головная боль» созвучна «Головоломке». Хочу я того или нет, но в ушах внезапно, словно наяву слышен голосок Симоны, ее милая болтовня на немецком языке со многими словами имеющими двойной смысл: «Теперь ты больше уже не так холос…». Я позволял Симоне говорить это в шутку, т. к. она комично перевирала слово «холостяк».
В квартирмейстерском отделе на вокзале Анхальтер, какой-то фельдфебель объясняет мне, что отель Эксельсиор занят.
– А что-нибудь другое, поблизости?
– Прямо на вокзале, если только.
– Они сюда не целятся, не разгружают свои бомбардировщики на вокзал?
– Никак нет, господин лейтенант.
– Как часто они прилетают сюда?
– Практически ежедневно, господин лейтенант. Только я так думаю, что мы не сможем и здесь уверенно гарантировать Вам комнату. Видите ли, очень много людей и зданий пострадало от бомбардировок. А оставшееся, так себе, но я полагаю, если Вы…
Привокзальная гостиница не вызывает к себе моего доверия, но у меня вовсе нет времени на пустую болтовню и переливание из пустого в порожнее, поэтому я просто отдаю на хранение свой багаж и уже в следующую минуту выхожу на улицу. Ответственный за распределение бумаги Советник Управления Вермахта Роланд речист и весел. Сначала он подробно рассказывает мне о своей жизни. Его призвали сразу в Отдел Управления Армии, а произошло это так:
– Генерал-шефадъютантом был Доктор Гайер, ставший затем Генерал – интендантом в Риге. Он знал меня по моей лекторской деятельности в Германском Агентстве печати. Гайер был правительственным Советником в Седьмом военном округе. Меня вызвали 1 апреля 1933. Мартин Мерикс прилетел тоже, прибыл к обер-лейтенанту Дюрру – с красными лампасами. Назначение ОКВ. Отдел – дела внутри страны. Нужно было многое сделать – прежде всего газету, затем разыскать книги, что зовутся манускрипты, которые должны были быть незамедлительно напечатаны. Ну, а сейчас выдаю разрешение на бумагу. Теперь я должен советовать шефу совсем противоположное….
Зачем он мне все это рассказывает? Хочет влезть в доверие? Старик едва ли мне поверит, когда я ему расскажу, что за соловей в униформе летает в этой клетке. И пока господин Советник Управления Вермахта продолжает свои разглагольствования, представляю себе Старика – как он здесь, в Берлине, работал бы одетый с иголочки и этакий педант…. Старик привлек бы к себе внимание здесь, словно существо из другого мира. Со своим ВМФ он имел бы здесь ноль целых ноль десятых успеха. Меня вдруг осеняет, что, собственно говоря, имеется не один ВМФ, но, по крайней мере, два Германских ВМФ: первый – это те, за пределами страны, измотанные, отчаянные сорвиголовы, Desperados – Morituri; а второй – это эти, что здесь, а также в Париже – высокомерные, чванливые людишки, самонадеянные вояки, надменные, заносчивые и пустоголовые льстецы, подхалимы, доносчики и блюдолизы. А что еще надо о них думать? К моему удивлению, господин Советник дал мне понять, что все может быть очень просто – любое количество бумаги, если я, в самом деле, смогу получить подпись Гроссадмирала. Он прямо телеграфным способом продиктовал мне это предложение: «… только подпись Деница, и мы сможем печатать столько, сколько захотим…» зычным голосом провозглашает он на прощание. Идя по городу, вижу колышущиеся под ветром в подъездах домов или сточных канавах алюминиевые полосы. «Металлизированные ленты» болтаются повсюду как обманка вражеских авиаармад с тех пор, как они нанесли свой ужасный бомбовый удар по Гамбургу в конце июля 1943 года. Эти ленты соответствуют нашим частотам. Это значит, что бомбардировщики, выходя на цель, вносили ими сильную сумятицу в расчеты локаторщиков и зенитчиков. До сих пор не могу понять, как наши локаторщики не могут заметить, что мнимые цели расходятся. Подхожу к такому очагу пожара, которого ранее никогда не видел: никаких обломков и почерневших балок. Но повсюду бесформенные груды металла. Очевидно, здесь стояли бараки и, судя по остаткам конструкций, они состояли из дерева, а крыши, возможно, были из просмоленного картона потому все они полностью уничтожены. Ветер развеял пепел, и остались стоять лишь согнутые огнем столы из стальных труб, расположенные в ряд прямо на мостовой, и в этом хаосе свисают, как адские плоды, оплавленные пишущие машинки.
Это превращение какого-то отдела в полный ноль, должно быть, произошло несколько дней назад, и словно для усиления эффекта абсурдности, прямо посредине, горит, синим пламенем огромная куча кокса. Кокс, горящий просто так, это и есть, наверное, изнанка всей этой бессмысленности, называемой войной.
Ах, этот разорванный на куски, измученный Берлин! После воздушного налета в ноябре 1943 года, разрушивший и церковь, и зоопарк и все их окружающие строения, он уже выглядел озлобленным и озабоченным, но теперь появились новые, ужасные опустошения. Да и вообще-то есть ли в городе хоть несколько не разрушенных улиц?
К моему величайшему удивлению с сильным перезвоном проезжает трамвай. Гроздья людей на подножках. Картон и фанера вместо стекол. Даже на сцепке между моторным и прицепным вагонами стоят двое, вцепившиеся в вагон как клещами: чрезвычайно опасное место.
Как еще может трамвай двигаться по этим развалинам? Тут я вижу, как трамвай упирается передним отбойником в насыпь из огромных кусков разрушенной стены, которые перегораживают улицу, люди выходят из вагонов и разбирают завал. Так и движется трамвай: местами то тут, то там пытаясь найти слабое место с тем, чтобы продолжить движение. Я мог бы еще долго наблюдать за маневрами трамвая, но боюсь, что это будет долго длиться….
Итак, топаем дальше – к зданию издательства. До Лютцовштрассе осталось всего ничего. В Издательстве смогу оставить на хранение фотографии: те, что неофициальные. Как мне удастся доставить их потом в Фельдафинг – в этот момент знает только Бог. Но когда я скажу доброй Бахман, что она должна будет беречь их как зеницу ока, уверен, что она это сделает. А если она захочет еще и манжеты заполучить, придется мне воспользоваться услугами спекулянтов.
Вот еще один трамвай. Мне везет, поскольку стою на остановке, и значит, могу его поймать. Только две остановки, но все же, все же! А потом опять per pedes. На своих двоих. Смешное выражение. Почему бы не на четверых?
Просто чудо, что здание Издательства все еще стоит на том же месте. Хотя окна также закрыты картоном. Несколько дверных проемов разломаны, но так все выглядело и тогда, когда я был здесь в последний раз. С трудом верится в то, что среди всех этих руин и куч щебня стоит целехонькое здание Издательства.
В коридоре мелькают какие-то тени, никто меня не приветствует должным образом. Что это за видения? Просто галлюцинации! Та самая Бахман сидит, согнувшись за своим письменным столом.
– Шеф сейчас на Принц-Альбертштрассе, – произносит она дрожащим голосом.
– Принц-Альбертштрассе? – я не знаю, что это может значить. Госпожа Бахман растерянно смотрит на меня, а затем, рыдая, приподнимается и произносит:
– Они его отвезли прямо туда!
– Отвезли? – стою более чем озадаченный.
Госпожа Бахман вскидывает на меня взгляд – удивленные глаза полные слез. Затем она как-то подбирается и выпрямившись говорит:
– Господин Зуркамп арестован… Вы, что, не знаете?
Новость ошеломляет меня. Царь Петр арестован? В замешательстве произношу:
– Как давно?
– Уже неделю, – отвечает, всхлипывая, госпожа Бахман.
– А где находится эта Принц-Альбертштрассе?
Но, судя по всему, госпожа Бахман не услышала мой вопрос. А я настолько ошарашен, что как издалека слышу ее рыдающий голос:
– Все пытался… включая высших чинов… натолкнулся на стены… везде стены… и нет вовсе ничего осязаемого…
– Но почему же его арестовали?
– Он обвиняется в государственной измене!
Смысл этих смертельных слов охватывает меня ужасом: государственная измена! Западня! Гадюшник! Все теперь бесполезно! Уж если они за кем-то увязались, то плохи его дела. Просто игра в кошки-мышки. Чистый театр с этим «охотником в Мировом океане»: вот и его схватили. У госпожи Бахман глаза просто вытекают: столько слез она выплакала. Рот ее кривится, она едва сдерживает рвущиеся из груди рыдания. Меня захватывает волна ужаса перемешанная с полной растерянностью. Понятия не имею, что нужно делать в такой ситуации. Невольно обнимаю правой рукой всхлипывающую фигурку, и маленькая женщина прижимается к моей груди, вздрагивая от рвущихся из глубины ее тела рыданий. Невольно прижимаю ее голову к себе и поглаживаю по волосам раз за разом, успокаивающе и как-то механически. Со стороны склада слышны какие-то голоса. Сейчас кто-либо зайдет сюда и увидит нас здесь, крепко обнявшихся в полутьме. Не отпускай! – командую своим рукам и продолжаю гладить ее волосы и хрупкие плечи. Боже милостивый! У нее теперь есть Царь Петр!
– Как это произошло?
– Лучше вам объяснит все господин Казак!
Появляется госпожа Кун, и теперь обе дамы ревут уже дуэтом. Мне вовсе не хочется оставаться с плаксами.
– Где Казак?
– Господин Казак дома, в Потсдаме. Иногда он приезжает сюда, но вам лучше самому съездить в Потсдам.
Звонить ему не имеет смысла, т. к. телефон издательства, скорее всего, прослушивается.
– И, кроме того, господин Казак часто не принимает никого, т. к. он не хочет никого подвергнуть риску ареста. Но вам надо к нему обязательно съездить. Я напишу вам его адрес.
Спустя некоторое время вновь оказываюсь на улице, а мозг свербит от ужасной мысли: Принц-Альбертштрассе! Не имею ни малейшего понятия, где располагается эта треклятая улица.
– Не ходите туда! – предупреждала меня госпожа Бахман. Скульптор Арно Брекер, да и Герхард Хауптман должно быть уже давно в опале, иначе бы заступились за Зуркампа, используя все свои возможности. Все это, понятное дело, двигается потайными каналами: у Брекера есть выход на Геринга, он хорошо знает его жену, которая раньше была актрисой Зонеман. Прямыми действиями можно лишь навредить. Но одно несомненно: мне нужно поговорить с Казаком….
Если бы госпожа Бахман не предупредила меня, я бы как раз сейчас нарвался бы прямо на Принц-Альберт штрассе. В конце-концов Зуркамп является моим издателем и более того: моим ментором. Наставником. Что же теперь? Вот вляпались так вляпались в дерьмо по самые уши. Так значит вот так просто, рвануть в Потсдам, к Казаку? Нет, лучше завтра. Невольно ускоряю шаг. Начинается моросящий дождь. Хорошо! Этот дождик полезен городу, поскольку прибьет носящуюся в воздухе пыль. В густой круговерти людей пересекаю развалины какой-то станции. Между поездами ожидающими сигнала к отправлению, замечаю товарняк с открытыми платформами, на которых, деревянными колодами крепко закреплены противотанковые орудия. Как мог такой состав заблудиться и попасть чуть не в центр Берлина? А может быть эти орудия предназначены для защиты Берлина? Прохожу по какому-то мосту пересекающему рельсовые пути. Облако пара вырывается из проходящего под мостом поезда и взлетает высоко вверх, окутывая меня на несколько минут. Замерев на месте, стою как вкопанный, а в мозгу вспыхивают огромные прописные буквы: БЕРЛИН. Я – в Берлине. Но охватить его целиком не могу. В глубине души не верю в то, что стою здесь. Ко мне приближаются прохожие, удивленные тем, что какой-то лейтенант флота, в полной форме, просто так стоит на мосту; наклоняюсь вперед для того, чтобы охватить взглядом раскинувшийся передо мной ландшафт. Замечаю, что неподалеку от меня останавливаются двое, а совсем рядом, трое стариков в темных пальто и тоже смотрят в направлении моего взгляда. Какой-то мальчишка подбегает к перилам и, свесившись, смотрит вниз. Сойдя с моста, попадаю на какую-то большую улицу, и пытаюсь запечатлеть в памяти все что вижу, словно снимая панораму широкоугольным объективом. Два матроса в форменках, пьяные в стельку, шатаясь, двигаются мне навстречу. С некоторых пор мне известно, что Бергер&Колана основали пошивочную фирму в Киле, которая работает только на заказ ВМФ. Невольно киваю им. Доносится знакомая мне песня, которую во всю глотку горланят эти двое. Эту песню я уже слышал где-то на побережье:








