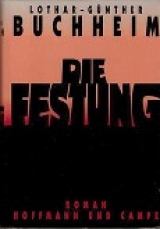
Текст книги "Крепость (ЛП)"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 66 (всего у книги 111 страниц)
– Тоже способ! – говорит другой. – Как в крематории…
Другие, очевидно, могут только молча удивляться. А я? А я не могу этого понять: такая вольница в нашем положении!
Раньше никогда не было, чтобы столько членов экипажа праздно шатались по Бункеру у своей лодки безо всякого дела. Но Старик приказал, чтобы люди оставались на борту и только несколько из них могли бы выезжать автобусом во флотилию. Подсластил горькую пилюлю! При обычном раскладе экипаж разместился бы во флотилии, на аккуратных кроватях и с рядами душевых кабин в душевой. На лодке осталась бы только охрана.
А действительно нормальным было бы еще и другое – а именно: краткосрочный отпуск и тщательный ремонт лодки в доке.
Теперь один из группы сидящих, тяжело сопя, зычно отхаркивается и делает смачный плевок в воду.
– У меня тоже есть что рассказать! – начинает кто-то после паузы.
– Ну, валяй, трави!
– В Париже, там у них, есть затемнение. И вот выходит там одна куколка из кино, а метро уже не работает. Тут катит на велике какой-то здоровый негр. Ну, к себе домой. Куколка начинает проситься подвезти, негр и говорит: «Ну, давай, садись уже, возьму тебя на раму – прыгай!» И они поехали. Негр крутит педали, как бешеный, затем он еще хочет зайти с куколкой в пивную. И, типа, чтобы велик не уперли, берет его с собой – и тут у куколки, наверное, глаза на лоб вылезли…
Пауза.
– С чего это?
– Это был женский велосипед!
Крики и шум голосов:
– Хорошо, скажу я!
– В чем здесь шутка?
– Ах, ты засранец!
Голоса сливаются в один несмолкаемый шум.
Когда я снова приближаюсь, уже на территории флотилии, к кабинету Старика, слышу даже через три двери шум:
– Я требую предоставить мне четкие сведения…! Я требую доклада о таких происшествиях…! Если это не изменится, я сам подам рапорт!
Осторожно вхожу. Тут Старик замечает, насколько он взбешен. Он принужденно смеется и падает как подкошенный в свое кресло.
– В нашу половину, в район Бункера, я этого парня не пущу, – говорит он, еще не отдышавшись. Так, значит, Старик все еще борется с начальником порта.
– Дьявол его знает, как все еще повернется – наконец, мы же еще должны суметь безопасно выбраться отсюда, даже если это не вписывается в планы этого осла… Ну, а теперь дамба находится под охраной.
Старик делает глубокий вдох. Он обуздал свое возбуждение и даже пытается казаться подчеркнуто спокойным:
– Что до меня, то он может затопить во входном канале баржу – но таким образом, чтобы для лодок осталось место. Если это не получится, тогда…
Поскольку Старик не договаривает, что произойдет затем, я заканчиваю:
– … мы пожалуемся господину Гросс-адмиралу.
– Можешь на это рассчитывать, – вторит Старик моему тону – так, как будто я это серьезно сказал. Но затем, кажется, его снова осенило:
– Адъютант!.. Адъютант! – он кричит неожиданно в полный голос в соседнее помещение.
Проходит несколько секунд, и адъютант появляется в проеме двери.
– Бартля ко мне! – Старик кричит ему. – И немедленно!
Едва адъютант исчезает, Старик поворачивается ко мне и объясняет:
– Мы должны создать более хорошее поле обстрела на север. Это значит: провести основательную уборку. Наша территория пока еще слишком загромождена. Так оставлять нельзя!
– Ты имеешь в виду убрать садовое хозяйство и свинарники?
– Точно так, – отвечает Старик – и срочно!
Он говорит это с таким нажимом, как будто должен убедить меня в необходимости такого решения.
Не решаюсь расписывать себе, как Бартль воспримет этот приказ. Бартль, который должен внезапно покинуть оставляемое им здесь хозяйство – он прежде еще также должен оставить свои, бывшие его гордостью сооружения в развалинах? Это разорвет ему сердце. Бартль ни о чем так сильно не заботится как о своем садоводстве и хрюшках.
Старик ходит туда-сюда, руки за спиной, будто в наручниках.
Жаль, что я ворвался сюда именно в этот момент. Сцена, которая скоро разыграется здесь, меня совсем не вдохновляет. Это, скорее, может стать только еще одним способом казни для Бартля…
Старик внезапно останавливается и замирает. Так, с руками все еще за спиной, он выглядит как человек, стоящий свободно перед расстрельным взводом и готовящийся выкрикнуть свое последнее слово – не хватает только распахнутой на груди рубахи цвета хаки.
Нет, лучше я убегу: Пусть Старик сам выкручивается с Бартлем. Не хочу присутствовать при этом Evenement.
Заикаясь, бормочу: – Должен безотлагательно поговорить с зампотылу… – и выхожу из кабинета.
Мучительное беспокойство носит меня по территории. При этом я должен был бы сделать предостаточно. Но я все еще не готов с этой трижды проклятой упаковкой вещей. А это значит: все упаковано, однако, как мне уже объявили, мой багаж оказался слишком большим. Я должен его еще отсортировать. И речь идет не только о том, чтобы разместить все мои тряпки на лодке и доставить их в La Pallice, а и о том, как их транспортировать после прибытия, ведь я должен буду затем их еще и дальше везти…
После обеда читаю на доске объявлений, что сегодня вечером в кино будут показывать фильм «Тренк, Пандур». На завтра объявлен фильм «Материнская любовь» с Луизой Уллрих. Я внутренне хохочу: материнская любовь! Для тех, у кого в жизни еще есть мать!
То, в чем мы все будем скоро нуждаться, это расположение Всемилостивейшего Бога и Его Почтеннейшей госпожи Супруги. Они должны затемнить луну, на время нашего выхода в море, и позаботиться о необходимой нам удаче…
Автоматически направляюсь в клуб. Посмотрю-ка, кто там сидит. Пиво бы сейчас не помешало. Густой суп опять пересолен. Еда теперь вообще является довольно отвратной жрачкой. То, что Старик на это не реагирует, меня здорово удивляет. Он являет собой святую скромность в этом случае. При этом раньше он точно знал, что такое вкусная еда. Это когда-то и привлекало его к мамаше Бину в Le Croisic.
Едва передо мной поставили мое пиво, и я только-только делаю глоток, как слышу в полуха: «Бартль сошел с ума!», и вижу, как трое или четверо теснясь, проталкиваются в клуб. Я стараюсь, из-за внезапно начавшейся суматохи, расслышать, что случилось: Бартля видели в конюшне – с маузером в руке, посреди мертвых свиней. Он, в диком приступе опьянения, жестоко расправился со всеми свиньями выстрелом в затылок. Его было не так-то просто утихомирить.
Я немедленно ухожу: Слегка придерживаясь за поручень и прыгая сразу через четыре ступеньки, оказываюсь уже у цветочной клумбы. Так, а теперь быстрым шагом на задний двор к «садоводству» и далее к «сельскому хозяйству».
Там лежат на боку мертвые свиньи и напоминают обнаженных людей, скошенных пулеметной очередью. Вдруг мне приходит на ум, что каннибалы называют свои жертвы «длинные свиньи». Пахнет свинячьей мочой, теперь еще и с примесью сладковатого запаха крови.
– Что за низость! Какая подлость! – ругается зампотылу, чем порождает хихиканье из толпы зевак.
– Настоящая подлость! – шумно вторит адъютант. – Это уж точно!
И при этом словно становится выше ростом.
Убежденный приверженец порядка Бартль! Заботливый Бартль! Сентиментальный Бартль! И теперь вот это, здесь? Я просто вне себя.
– А где спрятался сам Бартль? – спрашиваю адъютанта, когда он немного успокоился, но тот лишь пожимает плечами в ответ.
– Дар речи потерял от увиденного, – комментирует какой-то боцман.
В следующее мгновение появляется Старик и безмолвно смотрит на «подарок». Меня так и подмывает спросить его: И такого сумасшедшего я должен брать с собой? Но вместо этого только и говорю:
– Может теперь он успокоится!
Старик корчит злую и недовольную мину и произносит:
– Он скоро оклемается!
Сказав это, разворачивается, чтобы уйти, но как-будто подчиняясь внезапному решению, говорит:
– Ты его обязательно возьмешь с собой… Хотя бы нам пришлось его на носилках в Бункер доставить!
Отдан приказ на окончательную эвакуацию города. Конвой невероятно перегруженных автомобилей покидает город в направлении гараж Ситроена. При этом не видно ни одной одинокой машины. Уже давно нет бензина. При этом вижу детские коляски всевозможных моделей, а также много старомодных тачек и тележек на высоких колесах, велосипедные тележки, даже волокущего мотоциклетную коляску запряженного пони. По-видимому, здесь нет деревянных телег, какие являются привычным делом в Германии. Все колымаги перегружены дорожными корзинами и чемоданами, большими связками матрасов, разобранными кроватями. Между кроватями, мешками и перинами на нескольких тележках сидят верхом, высоко сверху, совсем еще маленькие дети. Позади тележек на высоких колесах висят деревянные клетки, туго набитые домашней птицей. Гусиные шеи высоко тянутся между деревянных планок. Одна тележка накренилась: ее груз из предметов мебели, кроватей, птиц в клетках слишком большой.
Отмечаю про себя, что у женщин на лицах не видны следы уходящих в нужду и бросающих родные места людей. Взгляды, которые бросают нам более молодые, скорее вызывающие, чем смиренные, и даже бледные старики в их черных вязаных одеждах имеют что-то непреклонное в своем виде. Эти женщины воспринимают каждую бомбардировку с едва скрываемым удовольствием, так как это вредит не столько им, сколько нам, и они, тихо торжествуя, выдвигаются теперь из города: слишком хорошо они знают, что мы теперь в более незавидном положении.
Внезапно замечаю, как у молодого солдатика, рядом со мной, по щекам текут слезы, когда он стеснительно поднимает правую руку в привете. Присмотревшись, замечаю, как посреди череды телег и тележек, кружится в ответ легкий, светло-красный шифоновый платочек. У той, которая им машет, возраст Симоны, фигура Симоны… Затем передо мной, совершенно все закрыв, возникает мятое, сильно накрашенное лицо старухи в большой украшенной пером шляпе. Два жестких глаза сверкают, всматриваясь в меня. Я прикрываю веки от страха, что в меня может вылететь струя вонючей слюны. Кто-то рядом произносит:
– Одни бабы. Все мужики у террористов.
За толпой беженцев и на таком незначительном расстоянии, словно они тоже принадлежат к ним, шлепают, разувшись, трое пехотинцев с двухколесной тележкой, которую они тянут за собой, привязав к себе ремнями. На тележке груда скрученных рулонов медной проволоки. Группа смотрится, будто написанная Kollwitz. На одной из ее гравюр такими плечевыми поясами крестьяне тянут за собой плуг.
Задумываясь, на что им эти мотки проволоки, понимаю: медь стала ценным материалом. Постоянно поступают распоряжения и приказы собирать медь. Спрашивается только, как ее следует отправлять в Рейх…
Старик все еще пытается просеивать свои бумаги. Когда он снимает с полки все паки и нагромождает их на своем письменном столе, решаюсь сказать:
– Это же теперь все сплошная макулатура.
Старик сдувает слой пыли с верхней папки и говорит:
– Я бы сказал хлам – или: Sic transit … как выразился бы образованный.
Внезапно он тяжело опускается в кресло и говорит:
– Какой вздор! Теперь еще и рассортировывать… Глупость! Надо просто развести чудный костер – прямо внизу, во дворе.
– А не лучше ли позади, в садоводстве? – возражаю улыбаясь.
– Так тоже хорошо! – вторит Старик, и голос его теперь звучит подавлено. – Tabula rasa – и как можно скорее. Это будет лучше всего. И быстро. Ты можешь сфотографировать костер – в назидание будущим поколениям.
Сообщение Вермахта гласит:
«В Нормандии потерпели неудачу локальные наступления врага юго-западнее Caen. В районе Coulvain в течение всего дня проходили тяжелые бои, не приведшие к существенному изменению положения. Юго-западнее этого района и в районе Vire удавалось отбросить ворвавшегося врага контратакой наших бронетанковых частей и восстановить тактическую связь фронта. Были подбиты 50 танков противника. Большая группа врага окружена и проводится наступление по сходящимся направлениям.
Северо-восточнее и к востоку от Avranches многочисленная, поддержанная танками атака противника привела к большим потерям.
В восточной части Бретани враг продвигается вперед через Avranches на юг разрозненными моторизированными подразделениями, стремясь выйти на юг и запад, и в нескольких местах этой местности, происходят боестолкновения с подразделениями германских опорных пунктов. В течение двух последних дней враг потерял 216 танков…
Тяжелый обстрел ракетами V-1 продолжается по Лондону и его окраинам.»
Едва выпускаю лист из руки, снаружи снова поднимается беспорядочная пальба. Ночь будет беспокойная. Батареи янки стреляют как сумасшедшие – так, будто они немедленно должны освободиться от своих снарядов. Теперь, после того, как французы эвакуированы, они валят по полной.
Братишки будут штурмовать Брест в полном соответствии с правилами захвата Крепости, стрелять перед штурмом: палить так долго, пока не рухнут все камни и ни одна мышь больше не двинется. Янки имеют все, в чем нуждаются и сверх того. Никакого дефицита. Никаких забот о боеприпасах и горючем. Уже бродит шутка: Стреляют из укрытий по мишеням, вместо того, чтобы рисковать задницей. Залп – и сразу огненный столб.
– Интересно было бы узнать, из какого сословия происходит наш Гросс-адмирал, – дантист неожиданно обращается к Старику, когда мы сидим после ужина в клубе за круглым столом. – Едва ли можно про него сказать, что у него высшее образование.
Я растерян: таких слов я еще никогда не слышал от зубного врача.
– С чего это Вы взяли? – вскипает Старик.
– Однажды слышал его выступление о фильмах, – отвечает спокойно тот, – Это было сильно!
Так как Старик зло смотрит перед собой, вместо того, чтобы зацепиться за эти слова, дантист продолжает:
– Речь шла о фильме «Голубой ангел». Гросс-адмирал в тот день выказал ему полное презрение.
– Он не из еврейского болота такой уродливой морали, какими являются Ваши люди! – яростно ворчит Старик возражая.
Я перевожу взгляд с одного на другого и спрашиваю себя: Во имя чего разыгрывается вся эта комедия?
– Ради Бога, нет – конечно же, он не такой! – произносит дантист, а я думаю: Хоть бы он уже заткнулся! Но нет, дантист продолжает – и так, будто не заметил, насколько Старик взбешен. – Если некто настолько устал или нервно истощен, когда, не задумываясь, верит очередному призыву Фюрера, тогда, конечно, он может совершенно не разбираться в смысле и значении изящных искусств. И в этом случае, пожалуй, он должен оставаться относительно образования и подобной искусствоведческой чепухи никчемным, жалким человечишкой, а наши устремления образовать его могут оставаться лишь благим пожеланием.
Хочу придти на помощь дантисту, и также помочь и Старику. Но не могу. Сижу как пришибленный и только думаю: С какой это стати наш зубной врач спровоцировал всю эту ужасную болтовню? Зачем, ради Бога, он хочет вывести Старика из себя?
– Что Вы подразумеваете этим? – спрашивает тот после мучительно длинной паузы таким явно угрожающим тоном, что дантист не мог не услышать. Но ни таким тоном, ни тяжелым взглядом Старика из-под нахмуренных бровей, его не запугаешь: Он продолжает говорить совершенно нормальным голосом:
– Согласитесь, сам Фюрер, в своем лице, являет осмысленную картину стремления немецкого народа к высокой культуре – то, чего о Денице не скажешь при всем желании…
В здравом ли уме этот парень? Или просто пьян? Стараюсь и не могу уловить признаки опьянения.
– А что касается этих извечных призывов, – продолжает дантист тем же тоном, – то, разрешите сказать, что он даже позволил себе произнести здравицы тогда, в офицерском собрании, когда присутствующим там офицерам собственной персоной представлял свое назначение Главнокомандующим ВМФ – 30 января 1943 года, как мне помнится – прокричав в конце своей хвалебной речи Фюреру: «Фюрер! Фюрер! Фюрер!»
Что теперь сделает Старик? И почему он внезапно смотрит на меня так сердито? Я же не могу запретить говорить дантисту.
А тот, словно не замечая ничего вокруг, говорит дальше:
– Для Деница нет ничего более импозантного, чем Фюрер. Если бы он мог, он лизал бы ему ноги. Впрочем, он тогда также объявил, что отныне он, всю силу Военно-морского Флота, «где только возможно вложит в подводную войну» – хочет «вложить»… – если передавать дословно.
Наконец зубник, кажется, подходит к концу своей речи. Проходит минута, но Старик не двигается. Он должен был бы теперь же возмутиться, однако не делает этого. Более того, вынимает, медленным движением, сигару изо рта, выдыхает синий дым: И просто скрывается в этом синем тумане.
– Мы еще поговорим об этом! – бормочет он, но так, что дантист должен это услышать. И, слава Богу, тот, наконец, поднимается и по-граждански просто делает поклон Старику и затем еще и в мою сторону.
– Сильный табак, – раздается голос Старика, когда зубник исчез на горизонте. Я же храню молчание, и мне не тяжело сидеть так неподвижно и отмалчиваться в ожидании продолжения речи Старика. Но он замолкает.
Спустя несколько минут, настолько медленно, будто внезапно ощутил боль в пояснице, он начинает подниматься и говорит, едва шевеля губами:
– Я снова должен отправиться к Бункеру. Ты со мной?
В машине Старик спрашивает меня:
– Ты как это можешь понять?
– К счастью, – отвечаю негромко, – поблизости находилось мало людей, но, все же, двое-трое, могли услышать дантиста… Такой суеты нам только и не хватало!
После этого Старик больше ни словом не касается сцены с зубным врачом.
Еще не слишком темно, но портовый район являет собой в это время таинственное царство мертвых. Противотанковые заграждения оставляют нам только узкий проезд. На всех дорогах вокруг Бункера сооружены такие противотанковые заграждения. Прожекторы играют своими лучистыми пальцами в небе, не объединяясь в одной точке: Они рыщут по местам вероятного появления самолетов противника.
Прямо по курсу большие судовые многоламповые светильники выбрасывают в темноту белый свет. Посреди улицы идут работы: убирают перекрученные металлические тавровые балки из разбомбленного склада.
Внезапно, словно одним махом, гаснет весь свет: должно быть бомбардировщики на подлете.
Старик прибавляет газу: Мы должны успеть достичь Бункера, пока не началось
светопреставление. Сквозь визжание наших шин слышу, как стреляют зенитки. Их грохот отчетливо приближается. Старик бесцеремонно ведет машину по плохо укрытым проездам прямо в Бункер. Едва въезжаем, огромные ворота начинают закрываться: Мы въезжаем едва ли не в последнюю минуту. Могу передохнуть: Здесь мы точно в безопасности.
Держим курс на ремонтный цех перископов. Старик должен поговорить там с несколькими рабочими. При этом речь не идет о перископах, цех всего лишь место встречи. А меня тянет к плавательному боксу, где лежит моя лодка. Я, правда, не знаю еще точно, когда мы выходим, но уже чувствую себя принадлежащим лодке. Странное чувство: Ощущаю себя на неком подобии нейтральной полосы. И теперь больше не выказываю свое нетерпение. А страх? Страха тоже больше нет. Сильное напряжение – да, оно присутствует!
На подмостках с наружного борта подлодки все еще идут работы. Никто не знает, где командир. На борту? Во флотилии?
Ряд глухих взрывов тяжело врывается в тишину каземата. Хочу узнать, что происходит снаружи. Через небольшую дверь в огромных воротах покидаю Бункер и осторожно иду, задрав голову вверх, высматривая самолеты и внимательно вслушиваясь в шум их моторов, на покинутый пирс.
Кранец скрипит о причальную сваю. Огромные устройства лежат там и сям на пристани и отбрасывают совершенно черные тени. Ночью все выглядит больше.
По акватории порта движется Буксир. От бурунов за кормой, которые он производит, несколько дозорных катеров оказываются в движении: они опускаются на причальных тросах и громко трутся по кряхтящим от усилий кранцам.
Зенитки замолкают, артиллерия, лупящая издалека тоже. Но отчетливо слышится ворчание авиационных двигателей. Должно быть, доносится с большой высоты: машины, конечно, летят сейчас высоко в облаках.
Где-то что-то стучит и дребезжит. Незакрытый ставень на морском ветре? Но здесь больше нет никаких домов с такими ставнями.
Далекое ворчание моторов совершенно не хочет пропадать. От плеска и всхлипов бурлящей подо мной воды оно получает странный ритм.
Мне надо только обойти угол Бункера и получаю вид на Брест: пожары в городе, и далеко за ним. Они вызывают странные ассоциации того, что панорама города превращается на коротких промежутках от бледного негативного изображения в четкий силуэт позитива.
Пальцы прожекторов скользят по облакам – только по облакам. В том, как они ощупывают эти пышные облака, есть что-то непристойное.
В спину бьет сильный грохот. Это отзвуки стрельбы тяжелых зенитных орудий. Я косо кладу голову на плечо, чтобы лучше слышать. Между взрывами слышу ослабевающий рокот моторов.
Что только они там наверху задумали? Бесцельно носятся вокруг нас, будто здесь они у себя дома. И уже довольно давно. Во всяком случае, им никто не мешает.
Словно вокруг еще было недостаточно фейерверка, артиллерия теперь тоже бодро лупит издалека. Пора быстро сматываться за бетонные стены: Более умный всегда уступает.
Когда уже лежу на койке, стрельба начинает стихать. Дьявол его знает, как теперь уснуть. Артиллерия янки хорошо делает свою работу, чтобы держать меня без сна. Они там, на их полуострове, должно быть вкалывают ночными сменами. Дрыхнут, наверное, днем. Пацанам, скорее всего, просто нравится смотреть, как великолепны ночью вспышки разрывов артиллерийского огня. Ведь они осуществляют и бомбардировки и пожары именно ночью.
На потолке, надо мной, постоянно мельтешит беспокойная и беспорядочная игра света и теней. Наблюдаю за этим широко открытыми глазами. И во мне растет чувство, будто ко всем моим мыслям и ощущениям должны добавиться еще и запахи пожаров…
* * *
Я мог бы закрыть окна и ставни. Но не делаю это: Мне кажется, что тогда я окажусь как в могиле. Лучше бдить. Vigilia, ночная стража. Словом vigilant обозначают Саксонию. Я – из Саксонии, и тоже бдительный!
Все здание вздрагивает – не только стекла. Должно быть близкие попадания снарядов. Напряженно вслушиваюсь и пытаюсь отделить взрывы попаданий от их выстрелов. Лающая зенитная пушка, стреляющая по наземным целям, затрудняет мне отличать наши собственные орудия от орудий противника. Замечаю, что между зданиями флотилии возникает сильное эхо, то накатывающееся, то удаляющееся сильными ударами, глухо ухающее в ответ. С улицы перед флотилией также долетает эхо, когда от другого берега раздается шум выстрела, и разбивается на многочисленные отголоски в ущельях между нашими зданиями.
Как мне это знакомо! Сейчас стоит такой сумасшедший грохот, какой бывает иногда, если три, а то и четыре грозовых разряда сливаются одновременно и при таком их громе, грохоте и треске ты больше не понимаешь, какой звук грома принадлежит какой молнии.
Грохот не прекращается всю ночь. Сквозь щели жалюзи снова и снова мерцают всполохи. Иногда выглядит так, будто некто, далеко снаружи, этими вспыхивающими и гаснущими всполохами хочет передать мне какое-то сообщение.
Стремлюсь уснуть, и одновременно боюсь, что сон накроет меня, словно темный капюшон и тогда какая-либо новая неприятность встретит меня в черноте моего сна.
Противник достиг Penfeld. На западе города до раннего утра шли тяжелые бои. Чадящие тучи больших пожаров высоко разбухают над зданиями. На западе они поднимаются почти до зенита. На севере, янки, с помощью танковых клиньев должно быть продвинулись вперед до самого гаража Ситроена.
Рамке приказал взорвать на Rue Jean Jaures, продолжение Rue de Siam, целые ряды зданий, чтобы преградить путь танкам огромными горами развалин.
– Хорошая мысль! – считает Старик.
Наши парни с огромным трудом проходят к Бункеру, так как не только новые развалины домов блокируют подходы, но и разрушенные металлоконструкции с оборванными линиями электропередач трамваев, что уже давно больше не ходят по городу, образуют препятствия, напоминающие своим видом противотанковые надолбы.
– Путь к Бункеру должен быть, безусловно расчищен! – решает Старик, услышав об этом, и тотчас посылает 30 человек с инструментом на расчистку.
Незнакомый лейтенант, прибывший из Бункера, докладывает, что в одной из штолен были схвачены и арестованы 8 пехотных офицеров:
– Они смылись из своих воинских частей и спрятались в штольне.
Вчера пал Ренн.
– Никаких новых сообщений? – интересуюсь в кабинете у Старика после завтрака.
– Только о совершенных ужасных преступлениях.
– О каких?
– Жестоких убийствах немецких солдат и людей из Организации Тодта – их всех нашли с распоротыми животами…
– От таких вестей сердце готово выпрыгнуть из груди…
Старик, злым выражением лица, приводит меня, пока я еще чего не ляпнул, к молчанию.
– Выходите сегодня вечером, – произносит внезапно он громко и отчетливо.
– Сегодня вечером?
Но почему я так удивлен? Это же давно было определено. Я должен радоваться, что, наконец, принято окончательное решение.
– Незадолго до 21 часа будет спокойная вода. Поэтому время выхода – 21 час.
– Спокойная вода? – спрашиваю и кляну себя за это. Веду себя как слабоумный.
– Довольно внезапно все как-то, – заикаюсь, – я имею в виду: вот так, сразу – и дергано пытаюсь изобразить нечто типа ухмылки на лице. – Который теперь час?
При этом бросаю взгляд на часы на левой руке.
Во мне начинается глупый треп: Спокойная вода! Кто успокаивается водой вместо молока? «Придите ко мне все, и вы успокоитесь»…
Зачем вообще нужна нам спокойная вода? привожу, наконец, мысли снова в порядок. Пока ясно одно: В Бресте шлюзов нет. При тихой воде у нас не будет неприятностей с какими-нибудь течениями. Брестская гавань – это естественная гавань.
Тихая вода, кажется, бывает дважды: при отливе и при приливе. При обычном раскладе мы могли бы выйти и также при малой воде. Бункеры построены таким образом, что это можно легко осуществить. Но из-за опасности, которая исходит от электрических мин сегодня, лучше подождать прилива.
Наконец Старик прерывает молчание:
– Когда начнется отлив, то поток сам вытянет лодку через горловину.
Ясно. Выход против потока в этой тесной глотке между открытым морем и рейдом потребовало бы колоссальных усилий. Все-таки при сизигийном приливе поток имеет скорость в 6 узлов!
– Этот начальник порта просто идиот! – говорит Старик и объясняет мне, что только человек с заскоком, как тот, мог спланировать, чтобы 2 корабля при выходе шли так, что только узкий проход должен оставаться между молом и носом корабля.
– Хорошо, что Армия пока еще не сдала свои позиции у Roscanvel, – продолжает Старик.
Чертовски хорошо. В самом узком месте выхода из горлышка нам не угрожает опасность ни с какой стороны. То, что янки уже взяли бывший аэропорт Брест-Юг, конечно, создает нам проблемы. Оттуда они своей артиллерией могут легко накрыть место нашего выхода. Это мне известно также хорошо, как и Старику. Тема – без обсуждений.
– Выходите с наступлением темноты, – говорит Старик вновь, словно напоминая. – Достигнете фарватера еще до полночи. По воде пойдете с сопровождением до точки поворота и затем начнете движение под шноркелем – это значит: под водой пойдете вплоть до фарватера La Pallice.
Я подхожу к настенной карте, взглядом ощупываю путь следования до La Pallice и спрашиваю себя, что ждет нас. Хоть бы только в La Pallice не повторилась ситуация у Cherbourg! Никто не знает, насколько сильны янки, никто здесь не знает силу наших собственных войсковых соединений.
По меньшей мере, в том, что касается экипажа U-730, Старик меня успокоил:
– Народ исключительно опытный… У некоторых из них за плечами уже десяток боевых походов.
Людей вернувшимися живыми после стольких походов можно по пальцам пересчитать. Лодка имеет хорошо образованных и опытных специалистов. Но, к сожалению, этого не скажешь об офицерах. Они являют собой только-только выпущенные из училищ молодые кадры – все, кроме старшего инженера-механика. Поэтому командир лодки уже завалил Старика жалобами. На это как-то намекнул доктор.
Горит Арсенал. Едва французы покинули город, удары с воздуха, кажется, следуют один за другим. Медпункт у доктора полностью забит людьми. Сауна используется как морг.
Взрывы вздымают в воздух тучи серой пыли. Крыши отдельных зданий сброшены на мостовую. И там они образуют теперь, словно сбитые в кучи спятившими великанами, беспорядочные баррикады из камней и бревен, обмотанные путаницей проводов и искривленными железными балками.
Проезд к Rue de Siam обрамлен осколками витрин и оконного стекла словно льдинками. Они ярко мерцают, отблескивая под лучами ослепительного солнца.
Перед горой мусора, которая как вал лежит перед огромной дырой во фронтоне одного из домов, стоит, спиной ко мне, старуха. К ней подходит мужчина. С медленной нежностью кладет женщине руку на плечи: Зрелище – ревмя реветь.
Несмотря на эвакуацию, все же некоторые, очень старые французы остались в городе. Я не знаю, на что они рассчитывают. Им следовало бы знать, что здесь камня на камне не останется. Штурман флотилии идет с обеспокоенным выражением лица. Когда я появляюсь в его комнате, он неожиданно выпаливает:
– Эти медсестры, ну и злые они теперь.
Поджало бедолагу, думаю про себя. Ужель у него в подругах только одна медсестра? Я пробую себя в роли утешителя:
– Ну, у них дела идут лучше, чем мы думаем. Все же, наши дорогие противники признают Красный Крест и тому подобное.
– Если Вы имеете в виду янки, говоря это – то да. Но французы, те, пожалуй, едва ли. Не будем все же обманывать себя: Мы не трепещем перед Союзниками – или мы можем сказать так: немного трепещем. Но перед французами задирать руки вверх? – Мне это не по вкусу!
Мне пришлось бы соврать, если бы я захотел противоречить ему. Но чтобы произнести хоть какие-то слова утешения, лишь пожимаю плечами и говорю:
– Скверные времена.
– Можно, пожалуй, и так сказать, господин лейтенант.
Француженки, которые спутались с немцами, также оказались в тяжелом положении.
Красивые близняшки в La Baule, например, влюбленные в «неразлучную парочку» – двух командиров-подводников, которые постоянно прикладывали все усилия, чтобы вместе выходить в море и в одно и то же время ложиться на ремонт в док. Не хочу расписывать себе, как сложится жизнь этих девушек, если Maquis осуществят свои угрозы.
Через открытое окно слышу гремящий шум проходящей колонны. Наши подразделения? А если это уже янки?
Так непродуманно ведущуюся войну на суше как здесь я никогда не мог себе представить. Мы даже еще не знаем, идет ли речь о танках, прибывающих с севера, только как об отдельных передовых отрядах янки или они представляют собой всю американскую бронетанковую мощь и поэтому, в ближайшее время, можно не ожидать значительного давления на наши позиции.








