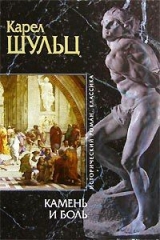
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц)
Стоит ему замолчать – тишина глубокая, как пропасть. Сотни, сотни, тысячи глаз выпучены и вперились в его тонкие губы. Исхудалая костлявая рука, рука обнаженной сухой желтизны снова взлетает широким движением и за ней – выкрик:
– И здесь сидит Иуда!
Это было – как если б в тишине обрушилась скала. Слова прогремели стократным отголоском, и все сердца вняли ему.
– Довольно сладких слов слышала ты, Флоренция, довольно вкрадчивой лести и ласкательства. Ты – девка, запомни это, девка, и с девкой я говорю. Я призываю на тебя божьи трубы и божий гнев, я, который – не философ, а ученик Христов, об учениках же было сказано: если будут молчать, камни возопиют – lapides clamabunt.
И берегись этого, берегись той минуты, когда враги осадят тебя и окружат валом, когда одни лишь камни будут говорить и умолкнет всякий человеческий голос, будут говорить одни камни, грозно говорить, воинственно! Смотри, Иуда, не запирай сердца своего, еще есть время, смотри, спаситель преклонил колена перед тобой и, если коснется тебя, ты тоже освятишься!..
Глаза его горели огнем, от бледного лица шло сияние.
– Преступный Иуда, почему не сломит жестокую грудь твою столь великая кротость? О ангелы, почему не трепещете вы при таком смирении? О прекрасные руки, пречистые руки, как можете касаться вы изверга, мужа крови, мужа немилосердного, – о прекрасные руки, вы смываете скверну предателеву? Пойдем, душа моя, пойдем, в слезах, поглядим на муки Иисусовы! Поразмысли, душа моя, кто же это, как разбойник пойманный? Подумай, из любви к кому переносит он такие муки? Это творец всего мироздания, который за спасение твое платит такую цену. Так что же ты не отвечаешь такой же любовью? Почему ты так холодна? Погляди, как он кроток даже с тем, кто ударил его по ланите. А я говорю вам, граждане флорентийские, и здесь между вами сидит человек, ударивший его по ланите!
Монах перегнулся через перила кафедры и вонзил жгучий взгляд в толпу. Теперь каркающий голос его разбивался о золото стен и почернелый свод, о переполненное пространство храма дико, лихорадочно, неудержимо. Он извергает слова, и взмахи его рук резки, как будто он работает топором…
– Почему ты не сломишься, жестокое сердце? Почему, глаза, не превратитесь вы целиком в два источника слез? Почему не преклонитесь вы, колена, в пыль земную, а ты, голова, почему в покаянье, слезах и сознании прегрешений своих не бьешься об эти стены? Почему? Потому что тебе этого еще мало! Ты слышишь голос мой и знаешь, что муки Христовы на этом не кончились, что впереди был еще крестный путь и ужасные три часа Голгофы, – ты знаешь это, но не рыдаешь, оттого что много раз об этом слышала и равнодушна к страданию божьему, оно не твое. Ну, и не встрепенулась! Для этого тебе нужны удары еще сильней. Чего же нужно тебе? Великих палиц мученья, которые размолотили бы тебя, котла несчастий, в который ты будешь ввергнута. Ты возгордилась в богатстве своем – потому отвергает бог молитвы твои, отвратил лицо свое от тебя, ничтожны твои добрые замыслы в глазах его, неугодны ему твои богослужения, он не хочет их. Мужи твои стали женами и, подобно женам, живут с мужским полом, – это величайшая мерзость перед богом; святой апостол Павел говорит: "Мужчины разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делали срам – masculi relieto naturali usu feminae, exercerunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes". И написано: именно потому ты сам собираешь себе гнев божий на день гнева и откровения праведного суда божьего, thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis justi judicii Dei, который воздаст каждому по делам его, qui reddet unicuique secundum opera eius. Вот это – мужи твои, сильные твои, герои грядущих войн и сражений? А твои женщины? Перед тем как господь страшно и праведно покарал народ израильский, так говорил пророк о женщинах этого народа, которые навлекли на себя гнев небес: "За то, что дочери Сиона надменны и ходят, поднявши шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит господь темя дочерей Сиона и обнажит господь срамоту их, в тот день отнимет господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и ленточки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу – et erit pro suavi odore foetor et pro zona funiculus et pro crispanti crine calvitium et pro fascia pectorali cilicium, – и будет вместо благовония смрад, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо". Бить вас буду, коровы тучные! – так говорит господь. Младенцев ваших разобью на глазах ваших, дома ваши будут разграблены, мужи ваши сгниют без погребенья перед городскими стенами, и придут грозные враги, которые поразят детей стрелами et lactantibus uteris non miserebuntur – и не пощадят жизни кормящих грудью, и детей не пожалеет око их. Горящей грудой развалин будет город сей, полный золота, картин, разврата, статуй, книг, идолослужения, прелюбодейства и драгоценностей, да, будет грудой камней, обгорелых бревен и обломков. Година скорби настанет, година бед, – изольет на тебя господь, вероломная Флоренция, негодованье свое, пошлет на тебя гнев свой, и скорбь, и ужас, и смерть, и все мерзости твои, вернувшись обратно, падут на голову твою. Не пощажу никого и не пожалею, – так говорит господь. Одарю тебя по делам твоим. И познаешь, что я бог, который ударил! Горе тебе, Флоренция, горе тебе!
На скамьях Синьории – продолжительное движение. Простой народ.
– Увидел я зверя! – диким голосом закричал монах. – Увидел я зверя, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон… и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми…
Апокалипсис!
Люди стоят, окаменелые, ошеломленные. Костлявые руки стучат в ворота Флоренции, что это – руки монаха или руки судьбы? Французы – наготове, и шайки их безжалостны, обожжены огнем испанских сражений, огнем Фландрии, это разбойники, убийцы, а не солдаты. Султан Баязет пробивается все ближе, крушит царство за царством, его арнауты вновь обнажили кривые сабли. Венгрия содрогнулась, скрывшись в дыму своих сожженных городов. А итальянская земля… Непрерывен звон оружия, князья, города, кардиналы, все – в сплошной круговерти, вихре войн. Папа – слабый и хилый, кардиналы строят дворцы, ведут раскопки, посылают друг к другу оскорбительные процессии машкер, сочиняют любовные стихи в духе Овидия! Перуджия уже обезлюдела, семейство Бальяно даже церкви города превратило в крепости и убивает всех без разбора, Малатесты ходят по колена в крови, Скалигеры в Вероне истребили друг друга, род д'Эсте утопает в новых и новых злодействах. Голодающие крестьяне бродят по полям, где нельзя ни жать, ни сеять, а выжженная войной земля жарится, иссыхая на солнце, с засыпанными колодцами. Над Ассизи шесть ночей подряд стоял, упираясь в небо, высокий огненный столп, а в Пизе земля вдруг расселась, образовав огромную трещину, черную, как отдушина преисподней.
По дорогам ходят удивительные люди, одетые в саваны, и пляшут, колотя в барабаны человеческими костями… В Римини одна женщина родила в муках ребенка о двух головах, с огненно-красными глазами и тельцем, покрытым чешуйками, как у пресмыкающегося. Народ задушил его вместе с матерью, прежде чем пришли чиновник и священник. На Риальто в Венеции море выкинуло огромное чудище, к которому никто не хотел подходить. Оно сгнило, и начался мор. В Урбино внезапно обрушившимся сводом в храме засыпало людей. Всюду появляются страшные знамения, а недавно видели новую звезду необыкновенной величины, с ярким ядовито-зеленым сиянием, и куда падали ее лучи, там вода становилась горькой. И в Апокалипсисе так написано: "Имя сей звезде Полынь". В Падуе повешенные кричали с виселицы на народ, после того как уже сгнили. Все предвещает страшные беды. Испанские арагонцы в Неаполе вооружаются. Французские войска уже построены и готовы выступить по первой команде этого слюнявого эпилептика Карла Восьмого, скрюченного и страховидного, только и мечтающего о том, чтоб разорить эту прекрасную землю. Магометане Баязета нахлынули в необозримом множестве, тучами саранчи, из своих степей и всюду громят христианские войска. В Бергамо среди бела дня небо почернело, и наступила ночь. От ужаса стали звонить во все колокола, а сердца разрывались. Голод ползает по всем краям. Непрестанными войнами сожжены хлеба, урожай не растет. А в Риме поймали одного дворянина, который под пыткой признался в том, что по приказу султана Баязета отравлял колодцы. Вихри, бури, зловещие знамения. А что делается, чтоб это предотвратить?
Ешь, пей, веселись, а завтра в могилу ложись, как говорится. Княжеские дворцы полны наготы. Голые женщины, голые мужчины, голые картины, голые люди, голые статуи. Венецианские и римские куртизанки принимают служителей меча и алтаря на ложах, усыпанных розами. Вино пятнает плиты пиршественных залов, куда под звуки лютен и флейт одетые в шелк слуги носят на огромных блюдах целых павлинов, фазанов, телят, оленей. Хлеб подают осыпанным золотой пылью, рыб – посеребренными. Античные пиршества! Кардинал Альмести устроил пиршество точно по Петрониеву описанию пира Тримальхиона, кардинал да Понти приказал приготовить к ужину целые огромные сооружения из сахара, изображающие подвиги Геркулеса, а также сахарные крепости с башнями, стенами, зубцами, и когда эти крепости раскромсали, из них выскочили настоящие мальчики и запели славу пирующим. Древнеримские пиршества! Обнаженная богиня красоты, в окружении нимф, выехала к гостям в большой раковине, запряженной лебедями. И циклопы пали перед ней ниц – в знак того, что красота торжествует над грубой силой. Потом вышел улыбающийся бог Тибра и развел нимф по ложам гостей. Древнеримские пиршества! Привезли целого жареного кабана, и когда его разрезали – изнутри вылетели живые соловьи. В золотых блюдах налиты упоительные драгоценные благовония, в золотых плошках горят диковинных оттенков огни. Возлежащие с гостями женщины – античные богини, так что после пира можно взять с собой на ночь Венеру, Диану, Палладу-Афину, одну из Гесперид, Фетиду, Андромеду. Но в Перуджинской области, да и во многих других, народ обдирает уже древесную кору, чтоб испечь из нее себе хлеба, и за несколько кусков продает детей. Изголодавшиеся, исхудалые фигуры выползают в сумерки, подавленные горем, и убивают ради пищи. Нет теперь ничего дороже прекрасного сонета и совершенной картины. Нет ничего дешевле человеческой жизни. Седая нищета с высохшей грудью и руками, как палки, хватает за горло взрослых и младенцев. Странные знамения на небе.
Люди в храме стоят окаменелые, ошеломленные. Костлявые руки стучат в ворота Флоренции, что это – руки монаха или рука судьбы? Душно – не продохнешь. Огни свечей не мигают, храм переполнен. Черный свод.
Теперь монах на кафедре опустился на колени и стал молиться с плачем и рыданьем, голосом, полным слез, судорожно сжав руки:
– О прекрасные святые руки, я вижу вас израненными и растерзанными ради любви ко мне! О святые ноги, вижу вас пронзенными и обесчещенными ради любви ко мне! О сладкая грудь, что значит эта великая рана? Что значит это обилие крови? Горе мне, что я вижу тебя такой широко открытой – ради любви ко мне! О жестокий крест, не будь таким распяченным, ослабь немного свою твердость! Наклонись, чтоб я мог коснуться своего сладчайшего господа! О безжалостные гвозди, отпустите эти святые руки и ноги! Приблизьтесь к моему сердцу, усейте его ранами, пригвоздите меня, ибо это я согрешил, а не сын божий! О Иисус, когда я вижу тебя таким израненным, сердце мое отступает от меня, – о Иисус, когда я вижу тебя таким распятым, я хочу плакать, вовек не переставая! О утешенные, о усталые, о печальные, о бедные, о разметанные и колеблемые волнами моря мира сего и сломленные вихрем скорби, радуйтесь, ибо Иисус дал вам отдых, пролив драгоценную кровь свою! Ты, Иисус, так сильно распалил меня, что душа моя изнемогает! О, сладкая любовь, о, любезная рана, о, медоточивое уязвление, сладостно ведущее к жизни вечной! Блажен, кто будет всегда тобой распален, кто будет сыт тобой, и ничто другое в этом мире не взманит его! Блажен, кто примет это небесное уязвление, ибо он с пеньем летит к жизни вечной, в общении со сладкой любовью Иисуса, который есть истинный бог и истинный человек – с отцом и духом святым во веки веков. Аминь!
Он тяжелыми шагами сошел с кафедры и удалился. Молящиеся били себя в грудь и плакали. Только через некоторое время они стали мало-помалу расходиться, не прерывая молитв. Щеки пылали, глаза лили горючие слезы. Улицы, дома, дворцы, Флоренция – все стояло на своем месте. Но толпа потоками медленно растекалась по городу, и каждый глядел на знакомую улицу и на свой собственный дом уже иначе – взглядом сокрушенным, полным слез и раскаяния.
А Лоренцо Медичи со своими философами после проповеди пошел посмотреть на львов.
Мускулистые могучие звери во рву нежились на солнце, только в соседней клетке – у пантер и леопардов – было неспокойно. Полосатые и пятнистые звери с вытянутыми волнистыми боками тревожно расхаживали вдоль своих утесов; обгрызенные кровавые кости валялись на песке. Вдруг один зверь подскочил к самой решетке, и в этом прыжке влажная от пота шкура его сверкнула на солнце живым драгоценным камнем. Зверь тихо зарычал, другие остановились, смущенные, глухо ворча. Еще один длинный прыжок и ощеренные зубы, вытянутое бичом тело повалилось и загремел кровавый рев. Сторож леопардов Джиджи встал, пригрозив бичом, с помощью грубых окриков и длинного металлического прута навел порядок. Полосатые звери возобновили свою беспокойную волнистую ходьбу взад и вперед, а забияка легким прыжком перенесся через утес и зарылся там в песке, словно длинная игла. Львы не пошевелились. Там, дальше, в отдельном углубленном загоне поднял свою громадную гривастую голову, до тех пор лениво покоившуюся на могучих лапах, самый большой лев – Ганнибал и продолжительно зевнул. Глотка и зубы его засветились на солнце красным и желтым. Это был огромный зверь, любимец князя, известный во всей Флоренции. Его держали не только для красоты, как предмет роскоши: он был также исполнителем приговоров судилища.
Джиджи, желая сделать приятное и угодить князю, вошел в соседнюю клетку и вернулся с маленьким леопардом, детенышем, который жмурился от солнца и обслюнявил одежду Медичи, шаловливо барахтаясь у него в руке. Потом его вернули матери, и Джиджи напомнил, что новорожденному еще не дали клички.
Лоренцо смотрел молча. А за спиной у него вспыхнула перебранка между философами относительно Савонаролы, поднятая Пико делла Мирандолой, который стоял здесь, еще исхудавший и бледный после ватиканской темницы. Полициано хмурился. Ссора в Платоновой академии, да еще из-за этого доминиканского проповедника! Разве Полициано не предостерегал князя? Какое добро принесут Флоренции Савонароловы вопли? Народ волнуется, дворянство разочаровано, Синьория испугана, философы его презирают. Зачем Лоренцо позвал его? Резкий голос Фичино, не скупящегося на колкости, врывается в фанатические стремительные наскоки Мирандолы, громоздящего цитаты из Писания и обрушивающего их на голову Фичино. Патер Маттео Франко делает короткие и быстрые колючие выпады, всякий раз тотчас скрываясь между остальными, которые кричат все неистовей друг на друга. Ссора философов кипит, дикая, сумбурная.
Больше полутораста лет уже во всем христианском мире толкуют об исправлении церкви in capite et membris, с головы до ног. Теперь идет речь об установлении нового порядка божия на земле либо о полной гибели, и Пико делла Мирандола, на изможденном лице которого написано страдание, пережитое в ватиканской темнице, размахивая рукой, доказывает, что муки Христовы до сих пор не легче, чем в Гефсиманском саду. Сикст перед самым конклавом, избравшим его, видел страшный сон – а именно, троекратное падение под тяжестью креста, видение крестного пути. Да, мы погибнем в карах, бог не позволит больше посмеиваться над ним. Но остальные тоже кричат о другой, победоносной церкви, об установлении царства божия на земле под главенством апостольского папы, полного духом святого Евангелия и божественного Платона. Фичино, гордый великим успехом своего сочинения "Платоново учение о бессмертии души", яростно опровергает доводы Мирандолы, который хочет доказать язычество платонизма и говорит о будущем папе-аристотелике, хранителе церкви – до пришествия самого Judici Tremendi, грозного судии. А от кого охраняет церковь фра Джироламо? От христиан, от того стада, которое – не церковь, но воображает себя церковью…
Полициано во все продолжение ссоры молчит, тревожно поглядывая на Медичи, который продолжает неподвижно смотреть на зверей, стоя спиной к философам. Полициано скорбно нахмурился, сердце ему сжимает жгучая печаль. В последнее время он замечает, что Лоренцо нездоров… да, да. Цвет лица желтый, руки иногда начинают дрожать мелкой дрожью. А недавно во время чтения диалога "Менексен" он вдруг согнулся набок из-за резкой боли в почках. У него вспотели руки, глаза застлало мутной пеленой. Потом Полипиано должен был дать ему клятву, что никому об этом не расскажет. Видимо, это был уже не первый приступ. А Казимо Медичи, pater patriae, умер с Платоновым диалогом в руке… Да, князь нездоров, но не зовет врача, потому что нельзя, чтобы теперь, в такое время, слух о его болезни разнесся по городам и княжеским дворам…
Старший сын его, двадцатилетний Пьер, недавно вернулся из Рима. Тут Полициано опять озабоченно нахмурился. Он не любит Пьера. Никто не любит Пьера. Это хвастун. Не философ. Он не знает Платона, – только гремит мечом да тискает женщин. Высокомерный. Смеется над тогами философов и восхваляет панцирь. В нем нет ничего от Медичи. Словно мать его – в девичестве римская княжна, гордая Кларисса Орсини – наделила его только кровью Орсини. Да, Пьер – не Медичи, Пьер – Орсини. И он когда-нибудь будет здесь править!.. Потом – здесь еще Джованни, шестнадцатилетний кардинал, потому что Иннокентий Восьмой, по просьбе Лоренцо, дал ему пурпур. На будущий год он поедет в Рим, к ватиканскому двору и к сестре своей Маддалене. Марсилио Фичино составил ему гороскоп, где предсказано, что в свое время Джованни станет папой, но Полициано этому не верит: Джованни слишком прямодушный и искренний, он не сумеет разобраться в римских интригах. Верный платоник и способный музыкант – вот кто такой кардинал Джованни, – да, музыка, музыка его великая страсть! Потом есть еще третий сын – Джулиано, тихий, молчаливый, задумчивый. Этот двенадцатилетний мальчик с слишком умными глазами словно несет в себе какое-то странное знаменье, родовое влечение, какие-то скрытые подземные силы. Как это сказал тот раз Лоренцо, когда мы с ним говорили о перевоплощении убитого Джироламо Риарио? Что знаешь ты, Анджело, о темных стремнинах в душах Медичи! А этот мальчик, этот двенадцатилетний паренек с недетской молчаливостью и задумчивостью, со своей любовью к занятиям философией, вечно где-нибудь скрывающийся от остальных, он конечно, ясно чувствует в себе эти особенные, темные стремнины… "У меня три сына", – говорит Лоренцо. "Один умный", – при этом он имеет в виду, конечно, Джулиано. "Другой добрый", – тут он подразумевает юного кардинала Джованни, потому что у каждого любящего музыку так, как он, – наверное, чистое, доброе сердце, такой человек не может быть злым. "А третий, Пьер, глупец", – говорит Лоренцо. Пьер, тискающий женщин, восхищающийся панцирем и презирающий философов… Как он за время пребывания в Риме полюбил своего зятя, этого карточного мошенника, папского сына, истасканного Франческо Чиба! Говорят, они с ним не расставались ни на час и все переживали вместе игру, попойки, даже те каморки за Тибром, бедная Маддалена! Муж и брат ее, оба дружно – в объятиях гулящих девок! Нет, он не Медичи, он – Орсини, он в свою мать – Орсини. И он когда-нибудь будет здесь править, старший сын… Не дай боже! Неужели в одно и то же время сумеркам Италии суждено стать и сумерками Медичи? Мучительные мысли пишут свои знаки на лице Полициано. Князь этого не замечает. Он видит только своих зверей. Вот он слегка улыбнулся. Детеныш леопарда получил сильную оплеуху от матери – за то, что укусил ее под брюхом. Жалобно мяукая и скуля, он перекатился на песок и, подняв все четыре лапы кверху, стал барахтаться на солнце.
Позади спор все обострялся. Философы налетали друг на друга в резких, гневных вспышках, шла уже дикая свара, спорящие разделились на группы и каждая напирала на другую. Руки мелькают, сжатые в кулаки, рукава разлетаются, глаза мечут искры…
– Знаю… – кричит вне себя Пико делла Мирандола. – Знаю я…
Но не договорил. Замер.
– Знаю… – вдруг послышался голос Медичи, словно эхо.
Князь указал медленным движением руки на зверей, на детеныша леопарда.
– Знаю, как его назвать. Он будет принцем Зизимом. Что вы смотрите с таким удивленьем? Я помешал вашей, видимо, очень интересной беседе, но я не слышал из нее ни слова, – один только гам. Да, Зизимом. Так будет записано, вместе с датой рожденья звереныша. Его будут звать – принц Зизим. Если папа может быть тюремщиком басурмана-турка, почему бы мне не назвать своего зверя именем этого турка?
Он повернулся и пошел. Все последовали за ним, присмиревшие, изумленные, безмолвные. Только Марсилио Фичино посмеивался мелким язвительным смешком. Да, повелителя никому не превзойти… Это был действительно мастерский ход… В самый разгар спора о реформе церкви, о карах господних, о сновидении Сикста, видевшего во сне крестный путь спасителя, спора о папе-платонике и папе-аристотелике Лоренцо, до тех пор как будто безучастный, метнул имя принца Джема, турецкого пса, живущего в Риме под охраной папы. Что о нем говорят? "Ест пять раз на день, в промежутках спит здорово и для забавы своей собственной рукой убил несколько рабов". Так писал о нем недавно из Рима во Флоренцию художник Мантенья. Вот каков принц Зизим…
После смерти Магомета Второго, погубителя Византии, старший сын его Джем поднял восстание против захватившего отцовский престол брата своего Баязета, но восстание кончилось неудачей, и сарацин бежал на занятый крестоносцами Родос, воя от страха при виде шелкового шнура в чьих бы то ни было руках. Но великий магистр крестоносцев, старый Пьер д'Обюссон оставил беглого труса у себя, так как родосским рыцарям было выгодно держать в плену брата султана и грозить им азиатскому берегу. Это обходилось Баязету в сорок пять тысяч золотых дукатов ежегодно, и, каждый раз как корабль с золотом опаздывал, великий магистр, комтуры и рыцари хохотали, что, мол, вот только рассветет, они сейчас же отправят Джема обратно в Азию и, конечно, первородный сын первого человека после пророка найдет новые войска и новых визирей. Пускай платит султан константинопольский, этот зверь из бездны, хохотал магистр, так что белая борода дрожала на каленом панцире, – пускай поглубже запускает руку в мешки с золотом и платит для починки крепостных стен и разрушенных родосских укреплений, пускай платит для возведения новых христианских твердынь, – так смеялись рыцари родосские, за несколько лет перед тем без всякой помощи в течение трех месяцев выдержавшие неистовый натиск превосходных турецких сил, доблестно и победоносно отогнав их от родосских берегов; так пускай же платит для восстановления разрушенных им оплотов, – смеялись они, опершись на рукояти своих крестоносных мечей. И султан Баязет, зеленея от злости, платил рыцарям, – каждый раз это составляло сорок пять тысяч золотых, – он не хотел, чтоб ему тайно, ночью прислали к азиатским берегам первородного брата Джема, потому что, конечно же, нашел бы там верных визирей и верные войска сын Магомета Второго! Но пока Джем каждый раз скулил от страха, завидев турецкий парус, и, рыдая, просил крестоносцев защитить его, так что великий магистр больше не мог выносить вой этого труса и послал его в Овернь, во французской земле, где находился генерал ордена. Однако французский король Карл Восьмой, человек безобразной наружности и великих замыслов, тоже захотел получать сорок пять тысяч султанских дукатов, а Джем предпочел быть, пленником короля, чем рыцарем, чьи мечи пьют магометанскую кровь. Оба воспылали друг к другу самой пылкой страстью – король к сарацину и сарацин к королю, – но это пришлось не по вкусу родосским рыцарям, и они сообщили королю, что в Джеме таится дьявол, свирепеющий при виде христианина и способный искусать короля. А Джему родосские рыцари сказали, что король, как увидит турка, так разрубает его пополам, поэтому он, собственно, и французский король, – в каждый большой христианский праздник он должен разрубить одного турка, а не разрубит, так народ взбунтуется. И опостылели они друг другу – ни турок не хотел быть рассечен пополам, ни король – быть искусан. Но если бы речь шла только о французском короле! Из Венгрии тоже поступила просьба, – Матиаш Корвин, жестоко теснимый Баязетом, хотел иметь заложником Джема, и Светлейшая Венецианская республика, для свободы своей торговли, тоже хотела иметь заложником Джема, и Неаполитанское королевство, для безопасности своих владений, тоже хотело иметь заложником Джема, и Испания, кинувшая свои силы против Туниса, тоже хотела иметь заложником Джема, и Португалия, для свободы своих морей, тоже хотела иметь заложником Джема, так что родосские рыцари покатывались со смеху и вывели Джема на рынок, как скотину, – вот он перед вами, христиане, покупайте с торгов – кто больше даст! А пока те между собой препирались и спорили, кто даст больше, вдруг послышался голос святого престола:
– Довольно? Я тоже здесь!..
С удовлетворением услышали этот голос на Родосе. И когда Ватикан заплатил, откупив родосскую привилегию, великий магистр д'Обюссон вдруг вспомнил, что у него теперь стала часто болеть голова от крестоносного шлема, а старое, израненное тело страдает всякими недугами. Против этих болезней, – был ответ Ватикана, – у нас есть хорошее лекарство: на тело пурпур, а на голову кардинальскую шапку – и все как рукой снимет! Больше уж невозможно было запрашивать, и Джем был продан папе. Но тут страшно взвыл султан Баязет, потому что ничего хуже не могло случиться с первородным сыном первого человека после пророка; он ревел, что все коварны, но римская курия – коварней всех, и если в других местах брат его был заложником, то в Риме он станет оружием. И тотчас султан снарядил посольство во Францию, к Карлу, которое объяснило бы французскому королю, что он не будет искусан. "Держи у себя Джема, – писал султан, – держи Джема, а я дам тебе острие святого копья, которым пронзен был бок Христа, и дам тебе балдахин, под которым родила пресвятая дева!" Но Джем был уже снова в руках родосских рыцарей, и они ночью тайно погрузили его на корабль, который отплыл во Францию, меж тем как сарацин выл от страха, думая, что его везут к азиатским берегам, и скулил, завидев у кого-нибудь в руках шелковый шнурок. Вот это было плаванье! Паруса поднимались и убирались, ветер был то попутный, то противный, потные тела гребцов прогибались под плетьми трюмных надсмотрщиков, – скорей, скорей, вы, собаки галерные!.. Вот это была гоньба! За родосским кораблем гнался французский корабль, а за французским кораблем – неаполитанский корабль, а за этими тремя кораблями – венецианский корабль, а за ними летел по глади морской испанский корабль, и быстро резал волны позади них португальский корабль, и один только Матиаш Корвин венгерский сыпал проклятьями на суше, не зная, как бы за ними метнуться. Вот это было плаванье; вспотевшие тела гребцов, собак галерных, прогибались под плетьми, и вот уже Чивита-Веккиа, где ждут делегаты Святой коллегии, и с галеры победоносно сошел Ги де Бланш-фор, приор оверньский, передавая Джема. Потом, уже спокойно, корабль поплыл по Тибру к римским воротам, к Портезе, где теснились необозримые толпы, – мало кому случалось видеть в жизни турка, за которым гонялось бы столько христианских королей. В то время обычно турки гонялись за христианскими королями.
В эту минуту в Джеме произошла глубокая перемена. Он больше не скулил с перепугу, не выл от ужаса. Торжественно, пышно встреченный, по всем правилам римского церемониала, неверный пес понял, какая ему цена. Гордо вступил вражий сын, отпрыск захватчика Византии, в город главы христианского мира. С того мгновенья, когда кардиналы и папский сын Франческо Чиба провели его среди рукоплещущих толп, турок понял, что он уже больше не беглый пес, а багдадский принц. После того как он сел на белого коня чистейших кровей, на котором ездил только папа, ему стало ясно, что родосская тюрьма и темные крестовые своды оверньского аббатства – навсегда позади. С того мгновенья, как посланник египетского султана при ватиканском дворе поцеловал копыта его коня в знак почтения к сыну первого человека после пророка, турок не пожелал оказать почтение папе. Войдя в тронный зал главы христианского мира, он не сделал ничего из того, о чем ему было говорено дорогой, не преклонил колен, не воздал чести, а, гордо подойдя к трону – поцеловал тиароносца в плечо. А папа, любезно поговорив с ним, выразил желание видеть его и на другой день, и постоянно.
И разнеслась весть о поцелуе в плечо по всему свету, и задрожала в Германии завеса в храме, и поднялись в Англии, в Ирландии и во Фландрии на кафедру проповедники. До самой Шотландии дошел слух о поцелуе в плечо, данном мужу в тиаре, в которой столько святых пап призывало к оружию против магометанского насилия, оскверняющего святой город, вечный Иерусалим, всюду слышалось о поцелуе в плечо, – над телами Хуньядиевых и Шиллагиевых, убитых под Будином, и на сербских равнинах, где огненными словами проповедовал поход святой Ян Капистран, и в польских степях среди могил, оставленных последним набегом, всюду содрогнулись и живые и мертвые при известии о поцелуе в плечо, по всему христианскому миру разнеслась эта весть, повсюду, и епископ ирландский Сиверт Кьоккеменссон слышал о поцелуе в плечо, данном грозному Хранителю ключей…
Только в Риме этого не слышали. Принц Зизим! Ну, ест, здорово спит и для потехи убил пять человек. Смешной принц Зизим! Теперь он – гость папы. Значит, кардиналы соревнуются, устраивая празднества в его честь. В прошлом году, чтобы сделать ему приятное, в совершенно неурочное время был устроен даже карнавал. Говорят, Иннокентий, если сумеет когда-нибудь поднять крестовый поход, то свергнет Баязета, а сумеет свергнуть Баязета – посадит на турецкий трон оримляневшего Зизима, если только можно еще посадить принца Зизима куда-нибудь, кроме как за стол или на постель к куртизанке. Между тем Зизим, очень разумно, об этих планах и не думает. Он развлекается. И знай горланит свое: "Ля иллаха илла-ллаху ви Мухамеду расулу-ллахи!" – о единственном истинном боге аллахе в папском Риме…








