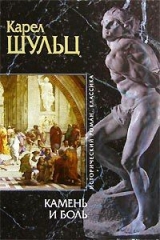
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 47 страниц)
"Отдаваясь безраздельно своим страстям и своей вере, Микеланджело ненавидел противников своих страстей и своей веры, – комментирует этот эпизод Ромен Роллан, – но еще сильнее ненавидел он тех, кто был чужд всяких страстей и лишен всякой веры". А именно таков был Леонардо. "Мягкая, несколько даже застенчивая натура и ясный скептический ум, ничем не скованный и все понимающий, далекий от родины, от религии, от всего мира", чуждающийся "кипевших тогда во Флоренции страстей" и "чувствовавший себя хорошо только в обществе титанов, как и он сам, свободных духом".
Мы видим, что, переместив свое авторское внимание с Леонардо на Микеланджело и тем самым удалившись от индивидуалистического, символистского понимания эпохи, Ромен Роллан (не забудем, это еще только 1906 год) делает все же попытку дать конфликту "объективное", "беспристрастное" толкование. "Поединок между величайшими мастерами Возрождения" в конце концов сводится к тому, что им обоим заказано по фреске в зале дворца Синьории. "Флоренция разделилась на два лагеря, один горой стоял за Леонардо, другой – за Микеланджело. Время сравняло все, – ставит точку Ромен Роллан. – Оба произведения погибли".
Конечно, задача биографа не вполне совпадает с задачей романиста; первому объективность более пристала 1. Но и ему не избежать необходимости истолкования фактов и характеров, тем более если в роли биографа выступает художник слова. И Ромен Роллан истолковывает события, создает образ и характер своего героя. В чем же видит он драму жизни Микеланджело, смысл его борьбы?
1 Блестящий образец такого рода объективной научной биографии – книга А. Дживилегова "Микеланджело", в серии "Жизнь замечательных людей" (Молодая Гвардия, 1938).
"Трагедия Гамлета! Мучительное несоответствие героического гения отнюдь не героической, не умеющей желать воле и неукротимым страстям…"
"Отсутствие гармонии между человеком и действительностью, жизнью и законами жизни даже у великих людей всегда порождается не величием их, а слабостью… Судьба, описанная нами здесь, трагична потому, что она являет пример врожденного страдания, страдания, которое коренится в самом человеке, неустанно подтачивает его и не отступится до тех пор, пока не завершит своего разрушительного дела…"
Итак, заменив титана-созерцателя Леонардо титаном-борцом Микеланджело, Ромен Роллан затем делает шаг назад: выдвигая на первый план навязанные облику Микеланджело черты слабости, растерянности, одиночества, он, по существу, лишает своего героя всяких титанических свойств и превращает его в слабого и бессильного перед лицом своей эпохи страстотерпца-христианина. "Это один из наиболее ярких представителей того великого человеческого племени, которое вот уже девятнадцать веков оглашает Запад стенаниями скорби и веры; это – христианин", – говорит он.
Мережковский – весь в старом – признает титанизм Микеланджело, хоть относится к нему враждебно, видя в нем слепую силу; Ромен Роллан (в 1906 году) – тут уже новое – всей силой своей гуманной натуры симпатизирует Микеланджело, делает его своим героем, но отказывает ему в титанизме, несмотря на такие цитаты, как вот эта, из биографии, написанной учеником Микеланджело Асканио Кондиви: "Однажды, проезжая верхом по окрестностям Каррары, он увидел возвышающуюся над морем скалу; ему страстно захотелось превратить ее всю, от подножия до вершины, в статую колосса, который был бы виден издалека мореплавателям. Он и выполнил бы свое намерение (в котором, однако, не видно ни слабости, ни христианского смирения, – прибавим мы от себя. – Д. Г.), если бы имел на то время и соизволение папы (с которым был связан контрактом на постройку папской гробницы. – Д. Г.)".
Немало еще воды утечет, прежде чем фигура Микеланджело будет измерена в полный рост, во всех ее правильно понятых противоречиях – в смутных человеческих слабостях и светлой титанической силе.
IX
Пройдет ровно три с лишним десятилетия. Но за это время не только много воды утечет. За это время обрушатся миры и на их месте возникнут новые. И вот новый художник слова, находясь отнюдь не в затишье и не в преддверии великого социального катаклизма, а в самом эпицентре его, создает новую книгу о Микеланджело. Все здесь иначе – и, конечно, отнюдь не по прихоти автора. Не спокойный, ясный, стройный, упорядоченный роман о художнике-мыслителе, не уснащенную цитатами "объективную" биографию или житие непонятого своим временем художника-страдальца пишет он. Перо в руках у этого писателя – резец. Он не рассказывает о своем герое. Он перевоплощается в него. Перевоплощается в его эпоху. Кидается в нее стремглав, как в бурные волны своей собственной современности. На всем повествовании, если можно назвать повествованием этот проносящийся перед нами бешеный поток, это бурное половодье образов, происшествий, событий, столкновений, лежит печать того самого неистовства (террибилита), которую носит на себе и творчество главного героя. Действительность? Эпоха? Вот она – вся перед нами. И не в сторонке, как фон, а мы сами – в ней. Это не повествование, это – действо. Мы не только все видим воочию, мы соучаствуем во всем.
И прежде всего, конечно, в становлении Микеланджело – ваятеля и борца. Он выплывает откуда-то из недр эпохи, с которой у него один и тот же подслушанный автором единый ритм. Неразрывно связанный с эпохой, он в то же время ожесточенно единоборствует с ней. Первая работа его – "Мадонна у лестницы". "Моей мадонне не хватает улыбки. Привыкли, чтоб она улыбалась. Мария снисходит к человеческим скорбям. А моя божья матерь не улыбается. Моя божья матерь не снисходит. Она – повелительница, царица. А все-таки сидит у лестницы. Так сидят одни нищенки". И младенец не благословляет, "как привыкли". Так рожденный в недрах своей эпохи титан сразу начинает подымать голову. Ничуть не страдательно, совсем не по-христиански. Неплохое начало для человека, которого пытались объявить гонимым судьбой жертвенным христианином.
Следующий шаг – "Битва кентавров с лапифами". Царь лапифов Иксион полюбил Юнону, Юпитер послал ему призрак великой богини, и смертный, соединившись с этим призраком, стал родоначальником дикого племени получеловеческих чудовищ – кентавров; их битва с народом лапифов и победа последних над ними знаменовали торжество человеческого начала над звериным или духа над материей, в толковании придворного философа Медичи – платоника Полициано. "Но Микеланджело, после первых же ударов по камню, забыл о смысле поучительно-философского сказания…" Его сознание художника заполнено другим. "Он нашел форму. Почувствовал до тех пор не испытанное острое наслаждение пропитать камень пленительной, гибкой формой борющихся друг с другом тел, создать произведение из сплетенных рук и ног… Заставить играть множество форм, слив их при этом в единый образ силы и напряженных мышц, человеческие тела, яростно связанные в узел и спутанные, обрисовать в борьбе разнообразнейшие и сложнейшие движения мужской фигуры – выпрямленной, замахнувшейся, падающей, поверженной, вырвавшейся из тисков вражеских рук… Какое ему дело до античности!.. Тело! Не античное, спокойное тело, а тело в стремительнейшем напряжении форм… Вся картина кричит. Это формы, обладающие голосом. Формы горячие, распаленные. Жизнь, хлещущая сквозь пластическое напряжение сражающихся мышц…"
Нет, не христианином, – воителем вступил Микеланджело в жизнь, с первых же шагов отметая противоречия и подымая на щит властное, ожесточенное, победоносное творчество. Творчество форм, а не правил морали, – не претворение материи в дух, а претворение ее в образ. В этом – его поиск.
Вот Микеланджело стоит в раздумье перед купленной им каменной глыбой… "Он… положил на мрамор обе ладони. Это было движение чистое и любовное, как если б он нежно прикоснулся к любимой голове, успокаивая ток крови в ее висках. Он чует, чует. Таинственная, стремительная, лихорадочная жизнь бушует где-то там, в темной материи, он слышит, как она зовет, кричит ему, чтоб он освободил ее, дал ей форму и язык… Обнаженный и морозно-холодный, камень пылал жарчайшим внутренним огнем. Сосуды, которыми он пронизан, были напряжены и наполнены пульсирующей мраморной кровью, – сухие на поверхности и горячие внутри… Он передвинул руки немного выше. Здесь трепет затихал, здесь наступило тайное спокойствие, но и оно было глухое, там была большая глубь, омут гармонии, аккорд форм, взаимно друг друга проникавших. Но чуть дальше руки его пронзила острая боль, там было, видимо, самое уязвимое место камня, вся материя вздрогнула, словно он коснулся обнаженной раны, всади он сюда резец, сердце камня тут же разорвется и глыба рассядется. Нет, сюда нельзя, нанести удар здесь – значит умертвить камень. Даже если б не раскололся, все равно умер бы, стал бы медленно чахнуть и в конце концов рассыпался бы в прах… Под этим местом в камне таится смерть. И, наоборот, наклонившись ниже, чтоб поласкать форму материи, округлой, как самые нежные женские лядвеи, томящиеся желанием, сжатые и трепещущие, он учуял в глубине место, где таилась, быть может, какая-то большая тяжелая гроздь, налитая застывшим соком, которая только и ждет, чтоб ее выдавили, ждет и благоухает, сильное благоухание подступило прямо к ладоням. Он гладил камень нежной, чуткой рукой, словно успокаивая. И вдруг смутился. Да, это здесь. Это уже не прикосновение, а ощупывание, уверенное, вещественное, сильное, грубое. Здесь сила камня, узлы его вздутых мышц, которые нужно разъять, чтобы открыть доступ к сердцу. Здесь он раскроет камень и вырвет его сгорающую внутри жизнь, здесь мощь, и объем, и начало удара. Он выпрямился. Ничего вокруг не видя, ничего не слыша, думая только о камне. Сердце его билось где-то там, внутри глыбы, кровь его текла по мраморным жилам, камень стал сильней его, он высился перед ним, как огромные тяжелые ворота, как судьба. И он сжал в руке резец, как единственное оружие, как оружие и против самого себя…"
Раскрытие этого внутреннего процесса построено Шульцем на основании свидетельства самого Микеланджело. "Когда совершенное и божественное искусство порождает идею формы и движений человеческой фигуры, то первым преломлением этой идеи будет простая модель из скромного материала. Затем в диком и полном силы камне осуществляются обещания молота, и идея обретает новую жизнь в столь совершенной красоте, что никто не может ограничить ее вечность". И еще яснее: "Величайший художник не имеет ни одной идеи, которую глыба не таила бы в себе. И она – то единственное, чего может достигнуть рука, повинующаяся разуму" 1.
1 "Микеланджело". М., Искусство, 1964, сонеты 236 и 151.
Итак – поиск формы, ничего больше? Столько нравственных усилий, такая напряженная духовная борьба, столь острые и даже ожесточенные драматические коллизии, и в итоге – всего-навсего художественная форма!
Тогда заслуживает ли этот открыватель форм названия титана?
Или что же она такое – эта художественная форма, служившая не для одного Микеланджело только, но и для всех "титанов Возрождения", а вслед за ними – для каждого светского (то есть не работающего на определенную церковь) художника великой самоцелью?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает глава романа под названием "Боязнь чего-то, не имеющего формы". Микеланджело с детских лет страдал припадками панического ужаса перед бесформенным (отчасти напоминающий страх Паскаля перед бездной или страх Ипполита в "Идиоте"). Ромен Роллан увидел в этом лишь изъян нервной системы, индивидуальную слабость, болезненно развившуюся вследствие внутреннего одиночества. Шульц раскрывает глубокий творческий смысл этого явления: художник воплощает в наиболее чистом и сильном виде великое неистребимое свойство человека – жажду быть "демиургом", преобразователем враждебного, бессмысленного хаоса в радостный, светлый космос. Движущая Микеланджело ненависть к хаосу – начало творческое, и одно из величайших достижений эпохи Возрождения состоит в секуляризации этого чувства, до тех пор отчуждавшегося в пользу бога, который, по Библии, создал мир, надо думать, тоже из страха перед хаосом.
Пересказывать главу нет надобности. Здесь приведем лишь одну фразу, сказанную (вернее, подуманную) великим ваятелем по поводу его "Кентавров и лапифов": "Все требует формы, чтобы быть познанным". Что же еще можно ждать от художника? Ведь это и есть его историческое, вселенское дело. Для кого-кого, а уж для него-то форма полна содержания. У Микеланджело эти поиски скрытой в диком камне формы приводили к созданию Давида, Брута, рабов… Ибо когда художник говорит о форме, он говорит о воплощенной идее. И это – единственное содержание, которое он знает. Идея невоплощенная для художника не существует: она для него бессодержательна.
X
Как же подан в романе Шульца конфликт между Микеланджело и Леонардо? Это очень существенно для понимания романа, так как ссора между двумя великими творцами нового искусства, при всей биографической эпизодичности столкновения, является как бы оселком, позволяющим установить ценность и глубину философской позиции биографа-художника. Мы уже видели изображение этого драматического момента у Мережковского и Ромена Роллана. У первого смысл эпизода вскрыт глубоко, хоть и не до конца, и, конечно, применительно к основной философской идее автора: неистовый волюнтаризм Микеланджело посрамлен в угоду аналитической созерцательности Леонардо. А Ромен Роллан вовсе не ставит себе задачи вскрыть идейный смысл столкновения; его занимает лишь психологическая сторона вопроса: измученный трудностями жизни, неуверенный в себе страдалец допускает несправедливый, но простительный в его положении выпад против раздражающего своей сдержанностью и учтивостью конкурента.
С позицией Ромена Роллана стоит сопоставить еще одно изложение означенного события: в недавно вышедшей книге американского писателя Ирвинга Стоуна "Муки и восторги. Биографический роман о Микеланджело" 1. Биография, написанная Стоуном, содержит много ценного материала: излагается в беллетристической форме жизнь художника, не выходя за пределы фактов. По Стоуну, вся ссора сводится к тому, что Леонардо недооценивал значение и возможности скульптуры, ставя гораздо выше живопись, и это больно задевало Микеланджело, который чувствовал себя прежде всего ваятелем. К тому же пренебрежительный отзыв о ваянии со стороны такого авторитета, как Леонардо, мог повредить оценке Давида 2. Отсюда едкие слова Микеланджело о неспособности Леонардо к ваянию, сказанные в лицо последнему. А через некоторое время Микеланджело и вовсе мирится с Леонардо, придя к нему в дом, чтоб перед ним извиниться и выразить ему сожаление по поводу гибели его фрески "Битва при Ангиари" 3.
1 Stone Irving. The and the Ecstasy. A biographical Novel of Michelangelo. London, 1961.
2 Там же, с. 351-352.
3 Там жe, с. 425.
Вернемся теперь к Шульцу. У него мы видим и сцену столкновения на улице (как у Мережковского и Ромена Роллана), и сцену посещения (у тех двух отсутствуют). Но все здесь по-другому. В обеих сценах Микеланджело дан в полный рост: это не исступленный, яростный слепец, неукротимо действующий, но плохо отдающий себе отчет в смысле своих действии (Мережковский), не раздраженный жизненными неудачами, гонимый вихрями судьбы странник (Ромен Роллан) и не задетый собратом по ремеслу самолюбивый художник (Стоун) – хотя и у Шульца он и неистов, и гоним судьбой, и профессионально дорожит своим искусством больше жизни. В чем же существенное радикальное отличие его образа у Шульца от того, что дали другие?
В том, что здесь Микеланджело – великий правдоискатель, глядящий в глубь явлений, с которыми ему приходится иметь дело, отметающий все, с чем не может мириться его совесть, отстаивающий каждым творческим шагом своим свойственное ему понимание жизненных ценностей.
Разница ощутительна уже в первой, "уличной", сцене. У Шульца Микеланджело не зря пришел в неистовство. Леонардо не просто уступает ему роль толкователя Дантовых темнот. Он говорит: "Вот здесь великий Микеланджело Буонарроти… Он истолкует вам неясные стихи об искусстве. Он! Потому что для него нет ничего неясного ни в Данте, ни в искусстве… (Курсив здесь и дальше мой. – Д. Г.) Мы жаждем, а вы заставляете нас так долго ждать… Дайте же нам хоть объяснения Данта… хоть этого не скрывайте от нас забором" (ядовитый намек на то, что Микеланджело ваял в это время под открытым небом своего Давида, до поры до времени окружив его от посторонних глаз глухой изгородью. – Д. Г.).
"Микеланджело почувствовал себя так, словно со всех сторон по нему бегают маленькие хитрые глаза ящериц, насмехающихся над его запыленным, окаменелым лицом, порванной рабочей одеждой, натруженными руками" (он возвращался домой с работы над своим Давидом. – Д. Г.). Язвительность Леонардовых слов, величественный, княжеский тон, какими они были сказаны, обшитый серебром лиловый хитон Леонардо и распространяемое им благоухание духов асфоделей – вот что приводит в бешенство Микеланджело, недомогающего, усталого, с глазами, полными едкой пыли, с руками, стертыми резцом и молотком, с мраморной крошкой в волосах… Последовал взрыв, полный уже знакомых нам оскорбительных выпадов по адресу Леонардо.
Уже в этой сцене социальный смысл конфликта, благодаря резко обозначенной, выразительной светотени, раскрыт глубже, чем у Ромена Роллана. Но философское содержание здесь еще не затронуто. Для того чтобы раскрыть и исчерпать его до дна, передав через это и свое философское понимание эпохи, Шульц вводит совершенно новую сцену – сцену посещения. Но только это – не учтивый визит одного художника к другому, равно великому. Это – тайное ночное посещение. И приходит не Микеланджело к Леонардо извиниться за то, что наговорил лишнего, а наоборот: Леонардо приходит к обидевшему его Микеланджело – для того, чтобы… Сейчас увидим, для чего. Но сперва почему ночью? Потому что, по словам Леонардо, "…ночь всегда обнажает сердце человеческое больше, чем дневной свет… есть такие правдивые слова, которые мы находим только ночью… Это как бы речь глубины…".
И вот он пришел договориться. О чем? О новом заказе? Нет. Сказать, что "Флоренция для нас двоих мала"?.. "Я думаю, – холодно возражает Леонардо, что весь мир мал для нас двоих. Но нам надо либо стать открыто врагами, либо заключить вечный мир, чтобы не доставлять миру зрелище борьбы двух великих". – "Но с какой стати нам вступать в борьбу?.. Мы ведь идем каждый своей дорогой…" В ответ на это Леонардо предлагает свое объяснение их вражды; последовательно отвергая более поверхностные толкования, он доходит до самого существенного: "Вы шли с работы, усталый, измученный, весь в грязи и пыли. Я не могу жить без блеска и роскоши, без благовоний, изысканности", и т. д. "Но не в этом причина вашей вспышки. Здесь есть что-то глубже, загадочней. Вы не скажете – что?" – зондирует Леонардо своего собеседника. "Пусть скажут другие, которые будут судить о наших творениях", – отвечает Микеланджело. "Нет, зачем предоставлять другим то, что мы можем сказать друг другу сами?" И Леонардо дает свое объяснение разделяющей их обоих вражды. Ее источник – диаметрально противоположный взгляд на творчество по всей линии, от исходных позиций до конечных целей. "Вы набрасываетесь на все… Одолеть, овладеть. Покорить. Поработить". А "…цель не в том, чтобы навязать материи свою волю – излить в нее свои мысли и страсти… Дело идет о чем-то гораздо более трудном и драгоценном… Оставить ей ее жизнь… раскрыть загадку этой жизни… постичь ее… Материя хочет жить своей жизнью… не мешайте ей… Укажите только на ее тайны… В этом великое искусство… Самое великое искусство – выражать только то, что вещь хочет выразить сама…" "Нет, возражает Микеланджело, – я должен сперва понять свое собственное сердце. Предмет – только отпечаток моей собственной жизни. Только так можно творить по-настоящему…" А что значит – творить по-настоящему? Этот созерцательно-скептический вопрос Леонардо заставляет Микеланджело сравнить своего собеседника с Пилатом. И это первое, что их разделяет, – пристального созерцателя жизни и борца, отстаивающего свою правду в ней. Расселина уходит вглубь. Между ними не только разногласие: между ними ненависть (со стороны Микеланджело). "Вы правы, я ненавижу вас… оттого что вы один из тех… других… Те… там, наружи… огромное стадо, к которому я чувствую отвращение… Время! Все вы, создающие это время… Я задыхаюсь в этом времени, оно валится на меня, как поток… Стою, увязнув по плечи в какой-то грязи, мерзости, нечистотах… Меня мучает и терзает это время… Я не могу от него убежать, но должен как-то его одолеть. Этому миру уже ничего не спасти. Он окончательно погиб. Но я не хочу гибнуть. Я должен победить вас всех, ставших передо мной, как великан в чешуйчатой броне…" – "Чем?" – "Да хоть просто камнем… как он… Давид!" – "Но Савонарола тоже хотел победить время и пустил в ход самое сильное оружие – мученичество. Разве камень ваше мученичество?" – иронически спрашивает Леонардо. "Не один только камень… – тихо возразил Микеланджело. – Еще боль. Удары".
Смысл творчества Микеланджело как борьбы против своего времени, борьбы, основанной на "понимании своего собственного сердца", встает во весь рост. "Символ вашей жизни – победить ударом, камнем, – говорит Леонардо. – А меня вы считаете частицей великана, которого сразил Давид. Да, я рад, что работал в такое время, которое позволило человеку пустить в ход все свои способности, которое освободило его… Но… разве я не отвергаю этого времени, не презираю его? Все мы, люди духа, – изгнанники, слуги сильных, которые торгуют нашими именами… Тут мы поняли бы друг друга скорей всего… Ведь никому не убежать безнаказанно от своего времени". Истинная и конечная причина другая. Леонардо выражает ее несколько сложно, но смысл предельно ясен. Проследим за его мыслью. Она имеет очень важное значение для понимания его самого, а главное – для понимания Микеланджело. "Я все время стремлюсь раскрывать новые и новые тайны, в этом мое бегство от времени… В том, чтоб познать, проникнуть, исследовать, постичь!.. Где-то есть точка, из которой все исходит и в которую все возвращается… События, жизни и судьбы… добро и зло – единый источник всего… Для меня искусство только проводник к великим тайнам… Все выходит из одной точки и возвращается в нее… Нет различия между добром и злом…"
И тут наступает окончательный разрыв. "Вы наводите ужас, Леонардо. Уходите!.. Теперь я знаю, что нас разделяет… Я всегда буду помнить, куда упал бы, если б пошел по твоему пути…"
Так постепенно – пласт за пластом – обнажается истина: перед нами столкновение морали человека-борца с аморализмом сверхчеловека-созерцателя. Весь напряженный диалог искусно соткан из противоречий. Можно подумать, будто спор идет между искусством как таковым (Микеланджело) и искусством как средством познания (Леонардо): "Вы хотите убежать с помощью искусства… Я иначе, я – с помощью познанья…" И даже – будто сверхчеловеческие позиции занимает Микеланджело, а Леонардо стоит в один ряд, плечом к плечу с человеком. "Вы стремитесь к сверхчеловеческому, а то и к нечеловеческому, говорит Леонардо, – а я всегда останусь с человеком и с тем, что познаю своими чувствами". Но это только нечто вроде обмена рапир, которое мы видим в последнем бою Гамлета. На самом деле человечен Микеланджело в своей непримиримой борьбе против жизненной данности – за утверждение своих внутренних ценностей, и сверхчеловечно абстрактное, созерцательное познание Леонардо, внешне покорствующее жизни, но стремящееся свести ее к абстрактному, умопостигаемому, бездеятельному единству, "точке, из которой все исходит" и в которой снимаются все различия, вплоть до различия между добром и злом.
Читателю, конечно, ясно, какое звучание имела эта проблема в момент написания романа, да и сохраняет до сих пор.
XI
Но реален ли такого рода конфликт между двумя гениями, делавшими (вместе с третьим, тогда только начинавшим свою карьеру – Рафаэлем) одно и то же дело? Вернее, имел ли право современный романист прочитать этот исторически достоверный конфликт именно так? Дает ли творчество этих гениев пищу для такого толкования разделявших их противоречий? И поскольку любой гений – сын своей эпохи, благоприятствовала ли эпоха высокого Возрождения возникновению такого рода противоречий, были ли они тогда возможны и неизбежны?..
Старое рухнуло. Италия (а в ней, как в своем прообразе, все средневековье) превратилась в атомный котел, где все сместилось, сорвалось со своих якорей, помчалось в пространство. Каждая часть, стремясь утвердиться в своей отдельности и самостоятельности, но продолжая свой распад, выделяла огромное количество скрытой "внутриатомной" энергии, но в то же время самим процессом этого излучения закрепляла свою ограниченность и недостаточность. Ибо ничто обособленное, какие бы ни таило оно в себе запасы энергии, не может быть полным и совершенным. Все хочет вернуться к истинному своему значению и не в силах сделать это. Церковь, превратившаяся в светскую блудницу и архисводню, едва выдвинув из собственных недр своего очистителя Савонаролу, тут же и уничтожает его. Мирская власть, рассыпавшись на отдельные куски в виде княжеств – тираний, стремится к высшему своему единству – цезаризму, но ни один из рвущихся к цезарской власти кандидатов, даже самый талантливый и безжалостный из них – Чезаре Борджа, не в состоянии совершить этого исторически еще не созревшего перехода. И гениальный провозвестник деспотизма, впервые возведший политику в ранг высокого искусства, задолго до Ницше выдвинувший перед человечеством идеал мощи без внутреннего величия, Макиавелли осужден испить до дна горькую чашу сознания своей недостаточности, передав своего "Князя" в виде завещания тем, кто спустя два века будет строить уже не в Италии, а на всем пространстве Европы "просвещенный", а в дальнейшем – и непросвещенный абсолютизм. Элегантная философская и филологическая мысль сплоченных вокруг Лоренцо Медичи платоников тоже не ко времени: возрождая древнюю мудрость, она не способна воплотить ее, не способна воплотить себя, – оставаясь совершенно чуждой широким кругам; к тому же, отвергая аристотелизм, как основу схоластики, она отвергала его и в целом, вместе с его реально познавательными научными устремлениями. А время было такое, что даже астрология, алхимия, магия – и те вожделели стать подобием науки.
Безудержно ширилась ойкумена, со всеми ее полусказочными загадками и действительными тайнами. Мир, до тех пор плоскостный, воочию приобретал третье измерение. И единое мироздание, совсем недавно замкнутое в своих точно очерченных сферах, вдруг, порвав путы, вышло на безграничный простор, чтобы в конце концов, уже в наши дни, рассыпаться в пространстве непостижимым фейерверком бесчисленных разбегающихся вселенных…
А на самом дне гигантского атомного котла, в котором все вещи стремительно теряли свою прежнюю и приобретали новую форму, кипела и вовсе обесформленная и обезличенная плазма – низы…
XII
Все эти и многие другие грани эпохи нашли в романе Шульца полноценное отражение.
Повторяем, это – не рассказ, не повествование. Это – действие, в котором мы участвуем. Эффект присутствия достигается стремительностью непрерывной смены картин, внезапными изменениями места действия, ритмически возвращающимися эмоциональными повторами, многие из которых играют роль лейтмотивов, связанных с той или иной темой или образом, смещением планов и внешнего, через неожиданные переходы от внутренней к прямой авторской речи и обратно – в пределах одного и того же предложения, этажированным повторением фраз в виде взвихренных перечислений и целым рядом других приемов, отнимающих у читателя всякую возможность созерцать описываемое с одного фиксированного пункта и порывисто перебрасывающих его из одной социальной, бытовой, духовной стихии – в другую.
Ошеломив нас симфоническим переизбытком жизненных звучаний, автор безраздельно владеет нашим сознанием и заставляет нашу мысль, отказавшись от обычного читательского "противостояния" тексту, двигаться по предуказанным авторской волей орбитам.
Роман воспринимается как музыка – не как литература. Он действительно полон симфонизма. И это – несмотря на свойственную ему высокую точность словесного рисунка. Нелегко было бы подсчитать всех выведенных там лиц: каждая страница буквально кишит ими. Но ни одно не промелькнет перед нами вскользь обозначенной тенью. Каждое получает исчерпывающую и действенную характеристику, каждое дано в наиболее содержательном ракурсе, самое незначительное необходимо для понимания целого, так как не введено извне, а выросло из него. Страницы романа испещрены этими как бы беглыми, но в действительности тщательно выписанными миниатюрами. И они не только не теснят друг друга, не создают толчеи, но все точно знают свое место, как каждое маленькое стеклышко знает свое место в огромном мозаичном панно. Поначалу изумляешься этому искусству, умеющему сочетать ораториальный симфонизм целого с мельчайшей подробностью тонкой миниатюры. Но вскоре изумление уступает место пониманию; здесь все: и крупное, и мелкое, все эти великие люди и малые людишки, эти знаменитые лица и безвестные, а подчас и вовсе темные личности – равно неотделимые, а потому и равно значительные частицы эпохи, плоть от плоти и кость ее, – эпохи, понятой органически, на основе единого начала, проникающего не только все члены организма, но и все молекулы его, от великого противоборца Микеланджело или гениального соглядатая и таинника природы Леонардо, запечатлевших свои победы, до какой-нибудь полубезумной старухи-колдуньи, тоже по-своему противоборствующей и постигающей, но терпящей полное крушение, обезличенной и раздавленной. Столь неравные перед лицом грядущих столетий, все они равны здесь, как участники великой исторической драмы, драмы высвобождения общественных сил, высвобождения личности из пут распадающегося общественного целого, драмы неистовых самопоисков нового человека, раскрывающегося и в ничтожестве, и в величии, и в зверстве, и в добре. Безоглядно устремленная к самостоятельному совершенству недостаточность, жаждущая независимой полноты ограниченность – в этом противоречии смысл всех, больших и малых, драм, изображаемых в романе. И в этом смысл драмы эпохи в целом.
XIII
Но как же так? Ну – недостаточна и ограниченна полубезумная старая колдунья Лаверна и подобные ей бесчисленные жалкие твари, считавшие себя людьми, но безжалостно лишенные этого звания эпохой. Недостаточен и ограничен Савонарола, жаждущий влить новое вино в старые мехи. Недостаточен и ограничен Чезаре Борджа, претендующий на роль властителя нового времени, но неспособный вложить в толкование этой роли никаких новых идей, которые отличали бы его от прежних и современных ему тиранов. В силу того же противоречия между порывом к новому и недостаточностью средств для его осуществления или хотя бы полноценного и всестороннего понимания не выдержали исторического экзамена ни Лоренцо Медичи со своей Платоновой академией, ни Макиавелли со своим "Князем", вышедший сеять не в пору.








