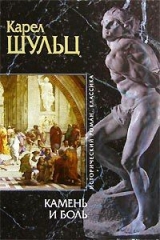
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 47 страниц)
1 Жил у шатров Кедарских (лат.).
2 Душа моя поникла (лат.).
3 С ненавидящими мир я был в мире (лат.).
4 Не дремлет и не спит хранящий Израиля (лат.).
5 Господь – хранитель твой, господь – сень твоя с правой руки твоей (лат.).
introitum tuum et exitum tuum, ex hoc nunc et usquae in saeculum. Amen" 1.
Так помолился я за Лоренцо Маньифико, усердно помолился за него, боже, услышь молитву мою, и воззвание мое да взойдет к тебе. Все это, боже, молитва моя за Лоренцо Маньифико, "in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen" 2, пора уже, пойду.
1 Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою господь, господь будет охранять вхождение твое и выхождение твое отныне и вовек. Аминь (лат.).
2 Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь (лат.).
В тот вечер ученики стоика и профессора Римского университета гуманиста Помпония Лета ставили во дворце кардинала Асканио Сфорца Плавтову комедию о привидении, а так как ожидалось присутствие самого Помпония Лета, наплыв был огромный. Маленький, уродливый, совершенно лысый, сгорбленный с пергаментно-серым лицом, сильно заикающийся, Помпоний Лет был самой желанной особой в Риме. Его расположение оспаривали друг у друга кардиналы и князья, а слава его давно перешагнула границы Италии. Но он относился ко всем и ко всему с пренебрежением, мечтая лишь о дружбе с Сократом либо с Диогеном и не зная только, кого их них предпочесть. Он жил одиноко в скромном домике на Эсквилине с двумя дочерьми – Нигеллой и Фульвией, одинаково безобразными, сгорбленными, с пергаментно-серым лицом, мечтающими о дружбе с Адонисом или Аполлоном и не знающими лишь, кого из двух предпочесть. Он был побочным отпрыском княжеской семьи Сансеверино, но об этом родстве своем не говорил, презирая титулы, богатство и почести, и, обладая такими познаниями в античной литературе, как никто другой в Риме, проводил ночи напролет над редкими рукописями, выше всего на свете чтя и ценя философское спокойствие. Обе его дочери, тоже обладавшие совершенным знанием античной литературы, не смыкали глаз вместе с ним, ценя выше всего философское спокойствие, хоть в глубине души немного завидовали Проперциевой Кинфии и Катулловой Лесбии. Лет не знал зависти, не знал желаний, не знал любви, – а знал Тацита, Вергилия, Аристотеля, Платона, так же как Сафо, Гомера, Ксенофонта, Анакреона и всех остальных. Ученики набивались в его аудиторию еще до полуночи, а он только на рассвете спускался с Эсквилина, погруженный в раздумье и еще более сгорбленный, повторяя в уме какой-нибудь трудный текст, разбором которого занимался с вечера. Весь Рим знал Помпония Лета, самый отъявленный изверг и головорез, последний грабитель не посмел бы занести нож над этим стариком, который, всегда безоружный, покачивая на ходу своим тусклым фонарем, шел пасмурным римским рассветом в аудиторию, где, освободившись в порыве восторга от своего заикания, нередко доводил слушателей до слез вдохновенным чтением отрывков из трагедии Эсхила или Софокла. Весь Рим знал Помпония Лета, и если тот обещал быть на празднестве, это было такое событие, с которым не могло бы сравниться посещение неаполитанского короля.
Зал кардинальского дворца уже полон. На покрывающих стены драгоценных тканях были вытканы целые картины – на темы не библейские, а античные. Здесь кентавр Несс переносит Деяниру через бурный поток, а беотийский герой Геркулес уже натянул лук с огненной стрелою; там Библида рыдает об улетевшем сновиденье и грешной любви, которую нагота ее делала прелестной и сладостной; вон там добрые старички Филемон и Бавкида сидят за столом, беседуя в трогательном согласии, а вон Эней выносит на спине своего отца из горящей Трои; там, дальше, – прекрасная Дидона кончает с собой из-за отвергнутой любви. Там, в самом низу, противно осклабился Тифон, которого боги одарили бессмертием, не дав ему вечной юности, – плача, сморщивается он все сильней и сильней, превращаясь в цикаду. Здесь – девственная Ирида отстраняет рукой вставшие на ее пути Сновидения, там Эсак обнимает нимфу, подгоняемую страхом, как он подгоняем любовью. А там Мелеагр убил дикого вепря для прекрасной аркадской девы, а вон там Пенелопа вышивает с таким усердием, словно собирается покрыть произведениями своих рук эти стены. Балдахины над креслами – александрийские и пурпуровые, стулья покрыты искусной резьбой и щедро позолочены. В углу зала две прекрасные статуи Киприда и прикованная к скале Андромеда, – драгоценные находки в земле. Всюду княжеская и кардинальская роскошь, Асканио Сфорца получает огромные доходы – и с Миланского герцогства, и со своих многочисленных церковных угодий. Здесь присутствовала почти вся курия и множество знати, – шитые золотом, парчовые камзолы, изукрашенные бриллиантовыми застежками и золотыми цепями, мешались с пурпуром кардинальских мантий. Здесь было много женщин, сияющих, ласкающих улыбками, каждая – живой сонет любви. Женщины любили Плавта и пренебрегали трагедиями Софокла. Амфитриона пришлось повторить трижды, и герцогиня падуанская нарочно приезжала в Рим, чтоб посмотреть.
Была здесь Адриенна да Милла, испанка, двоюродная сестра кардинала Родриго, которую в Риме называли также его сводней, – высокая, стройная, блистающая испанской, знаменитой аранжуэцкой красотой, презрительно насмехающаяся над тем, как ее называют, хоть все знали, что каждая женщина, перед тем как лечь в постель кардинала, проходит через ее апартаменты и во всем следует ее указаниям и советам. Адриенна сидела, наклонившись к Маддалене Медичи, флорентийской лилии, супруге папского сына Франческо Чибы, родившей около года тому назад, после крайне тяжелой беременности, сына, который был затем торжественно окрещен канцлером церкви Родриго Борджа, в сослужении восьми кардиналов. Адриенна что-то говорила ей, улыбаясь своей взволнованной, обворожительной улыбкой. Справа от нее была одиннадцатилетняя дочь кардинала – Лукреция Борджа, сияющая великолепием тяжелых золотых волос, гибкая, тонкая, с высокой грудью, с такими светлыми голубыми глазами, что их называли белыми, с округлыми щеками и маленьким подбородком, тихая и прелестная, увенчанная тяжелой прической, словно золотым облаком. Со смехом рассказывая о вчерашнем бале у кардинала дель Понте, где был также принц Зизим, одетый тунисским варваром, ее держала за руку самая близкая ее подруга, шестнадцатилетняя Джулия Фарнезе, с недавнего времени – новая любовница Лукрецина отца – кардинала Родриго. За год перед тем она, пятнадцатилетняя, вышла замуж за семнадцатилетнего князя Орсо Орсини, сына Адриенны да Милла и Лодовико Орсини, владельца Базанелло, и теперь делится между супружеским ложем и ложем шестидесятилетнего кардинала, которого зовет дядей. Семнадцатилетний Орсо Орсини знает об этом, но не ропщет. Не так давно Орсини помирились с могущественным Борджа, и роптать не приходится. Ему семнадцать, и он не особенно огорчен, – к тому же здесь присутствует, наездом в Риме, сполетская дворянка Паола делла Каза, которая дарит забвенье и грудь которой пышней, а объятия искусней, так что в родительских приказах не роптать нет особой надобности. Шестнадцатилетняя жена его и любовница кардинала-канцлера церкви Джулия Фарнезе – так прекрасна, что ее зовут в Риме просто Ла-Белла – и не надо ничего прибавлять, всем понятно, о ком речь. И этого достаточно для супружеской спеси. А Паола делла Каза прекрасна по-другому, более искушенной женской красотой.
Присутствует и жена римского префекта, герцогиня де Монтефельтро и де Coppa, co своей сестрой Агнессой, женой Фабрицио Колонна, герцогиней ди Тальякоццо, обе в золоте. Здесь – Коломба Вителли, княгиня из Читта-ди-Кастелло, чьи красивые, тонкие руки увенчивали и обнимали когда-то голову величайшего кондотьера Эразмо да Нарни, по прозванию Гаттамелата. Здесь Ипполита, принцесса Пармская, до того светловолосая, что возникло подозрение, не переняла ли она чары от какой-нибудь колдуньи, так что из-за красоты своих волос ей пришлось даже держать ответ перед судом Святой инквизиции. Здесь Висконти и княгиня д'Эсте, здесь принцесса Моденская. Налицо и три знаменитейшие римские красавицы – патрицианки да Мазатоста, Тартарри и Катанья – ослепительные в своей красе, непревзойденной со времен римских цезарей. Здесь великое множество дворянства – Сурди, Веттори, Кардуччи, Кресченци, Галуцци, Ильперини, Барбарини, де Анджелис, Пихи, Убальдини, Колонна, Скапуцци,– каждое имя горит как звезда.
Вон стоит, беседуя с князем Ченчи, испанский посланник с многочисленной свитой своих дворян, победитель под Рондой, весь в черном, с орденской лентой алькантарского комтура, важный, седой, – воин, теперь облаченный в бархат, самый высокомерный из грандов, который один имеет право пристегивать меч католичнейшему инфанту испанскому, когда тот отправляется на войну. Сейчас он поглощен беседой с князем, который тихонько подозвал неаполитанского посланника. Французский посланник, с гасконской непринужденностью повернувшись к ним спиной, в окружении своих дворян, из которых каждый, в пику испанцам, хвастливо выставляет напоказ свои фландрские кружева, шутит с кардиналом Баллуо и его свитскими прелатами. Венецианский посланник разговаривает с посланником египетского султана так тихо, что неаполитанские дворяне встревожились. Великий магистр иоаннитов кардинал д'Обюссон громко смеется шуткам двух венецианских нобилей насчет прекрасной Катарины. Как всегда, алчно и сладострастно смотрит на женщин желтый как лимон посланник монгольского хана. И полно, полно дворян, главным образом, испанских, так как испанцы все больше входили в моду. И полно римских князей и патрициев, только Помпония Лета до сих пор нет, и поэтому ждут. Помпоний Лет, стоик, гуманист и профессор Римского университета, презирает эту раззолоченную чернь, друзья ему – только Сократ и Диоген. Помпоний Лет всегда заставляет себя ждать. Он точен и аккуратен только на лекциях, но не на празднествах. Наверно, забыл о времени над каким-нибудь редким текстом, который старается разобрать.
Но дочери его Нигелла и Фульвия, сгорбленные, с пергаментно-серым цветом лица, обе присутствуют, – сидят в креслах, крытых голубым шелком, строго и чопорно глядя прямо перед собой, сложив на коленях иссохшие руки в кружевных перчатках. Вокруг шумит и пылает роскошь, льстивые слова мужчин, сверкающие белые руки и пахнущие кровью губы женщин, обещаемые на лету поцелуи, ласки на расстоянии; горячий воздух насыщен до отказа этими дразнящими, мерцающими взглядами, желаньями, воздушными обетами, – только они две сидят, застывшие, чопорно глядя перед собой и тоже стараясь относиться к окружающим с презреньем, мечтая лишь об Адонисе да об Аполлоне и не решаясь остановить свой выбор на том или другом.
Присутствуй хоть сам папа, Помпоний Лет все равно опоздал бы. Антисфен презирал славу и почести, в глазах Главкова сына Хармида благоволение власть имущих было ничто. Смешным казалось всякое преклонение Протагору, и самый знаменитый из софистов, Гиппий, твердил, что только раб и собака умеют лебезить от чрезмерного почтения и что у того, кто так делает, собачья или рабская натура. Презирал почести Солон, презирал почести Горгий, не унижался до преклонения перед власть имущими философ Гераклит, и высмеивал такое преклонение сын Софрониска, презирал эти чувства галикарнасский мудрец, – а профессор Римского университета Помпоний Лет вдруг не стал бы презирать? Да присутствуй хоть сам папа, он все равно опоздает, разве только вот на Великие Панафинеи опаздывать бы не стал.
Время шло, ожидание становилось томительным, но никто не роптал. Кардиналы, герцоги и прелаты, князья и посланники, комтуры и римские бароны, цвет дворянства и патрициев, – все ждало, когда Помпоний Лет вспомнит о них. Никто не посмел бы подать знак, чтоб начинали, пока нет стоика. И кардинал Асканио Сфорца опять приказал принести вина и сластей, но тотчас вслед за этим послышались три удара в подмостки, присутствующие вздохнули с облегчением, – значит, Помпоний Лет пришел и начинается представление. Само собой, в присутствии Помпония Лета играть можно было только на греческом или латинском.
Комедия о привидении!
Довольно уж этих утомительных благочестивых мистерий, довольно театра святых и мучеников, не вызывающих в душе ни набожных чувств, ни чувства прекрасного. Язык их – варварский, неочищенный, положения – смехотворные. Это собрание не могло бы расшевелить вид пелен Христовых, даже пропитанных кровью, как было недавно в Сиенском театре: кардиналы знали бы, что это кровь ненатуральная, она могла произвести впечатление только на простонародье, но подобное зрелище ничего не даст утонченной, классически образованной душе. Одна только грубая чернь могла в благоговейном изумлении забыть о действительности – не прелаты. Христос сошел во ад, но картина кишащих у адских врат дьяволов рассмешила бы кардиналов. Кроме того, в чистилище были бы только души ветхозаветные, библейские, и получилось бы скучно, – не было бы ни Ахилла, ни Платона, ни Сенеки, ни Одиссея, а главное – Елены Спартанской. И было бы больно ушам от барабанной латыни молитвенников, – но уже уговаривают святого отца назначить наконец комиссию по реформе Часослова, чтоб вычеркнуть оттуда эти смешные наставления отцов, написанные устарелым языком, – тусклым, бесцветным и безуханным, не имеющим ничего общего с латынью упоительных стихов Горация и Овидия… Довольно этих мистерий! Ни Иосиф и его братья, ни даже, пожалуй, жена Потифара, ни Лот, вышедший из земли Сигор, ни, пожалуй, дочери его, ни, в конце концов, наверно, даже ангелы, сходящие к дочерям человеческим, увидев, что те прекрасны, не позабавили бы кардиналов и римских дворян, ни свит посланников, и все это было бы совершенно неуместно среди жемчугов, золота и тканых обоев. Но персонажи Плавта и Теренция были здесь старые знакомые, весь этот сброд прожженных мошенников, вымогателей и сводников – все это было написано словно вчера. Римские паразиты, приживальщики и угодливые слуги, дочки, с радостью отдающие свою девственность за наслаждение и драгоценности, обманутые старики и моты-сыновья, которые ждут не дождутся их смерти, хвастливые воины, побивающие турок за столом в римских тавернах, вот зрелище! Сам Зевс сходит с Олимпа, для того чтоб обмануть Амфитриона и спать с его женой, сам Зевс; и все это на прекрасной, классической латыни, латыни, упорядоченной Помпонием Летом, профессором Римского университета и стоиком, на языке, богатом и очищенном, – и даже, если лишь немногие кардиналы знают латынь, все-таки – какое зрелище!
Комедия о привидении!
На сцене стоит Феопропидов раб Грунион и бранится с паразитом Транионом. Стоит, расставив ноги, и, отчаянно размахивая руками, кричит:
Покамест любо и возможно, пей да трать
Добро, да сына развращай хозяйского,
Прекраснейшего юношу! И день и ночь
Разгулу предавайтеся да пьянствуйте,
Подружек покупайте…
Не это ли хозяин поручил тебе,
Когда в чужие страны уезжал от нас? 1
1 Плавт Тит Макций. Привидение, акт 1-й, сц. 1-я.
Начинается занятно. Кардинал-канцлер внимательно слушает, слегка наклонившись вперед. Ему интересно. Он – в пурпуре, потому что некогда было переодеться в светскую одежду. Время от времени на толстых губах его мгновенно появляется и исчезает довольная улыбка. Неподалеку сидит Джулия Фарнезе с его дочкой Лукрецией, и старик время от времени скользит взглядом по юной любовнице и дочери: им тоже как будто нравится. На сцене уже полно народу. Пьяный Калимадат со своей гетерой Дельфией и мот Филолах с распутницей Филоматией пируют, смеясь над докучной добродетелью. В испуге прибегает раб – с известием о скором приходе отца. Тут кардинал Родриго задрожал. По всему его телу пробежали мурашки, и он зябко запахнул свою мантию, тревожно, боязливо оглянувшись. И сейчас же опустил глаза; а руки все дрожали. Да, он не нуждается ни в чьих сообщениях, ему никуда не надо оборачиваться. Он знал, потому что почувствовал. Всегда так. Всегда этот знакомый мороз по коже оповещал его – совершенно неведомым, ужасным способом. Он знает. Вот. Пришел. И кардинал-канцлер сгорбился еще сильней, словно не желая, чтоб его увидели, словно от страха, что черный призрак вдруг подсядет к нему. Но черный призрак стоял, прислонившись к тканой картине на стене, и даже не глядел на кардинала. Заложив руки за спину, он засмотрелся на сцену. Это был дон Сезар, епископ. Узкое, смуглое и густо припудренное мукой лицо его было холодно, только черные глаза горели и сверкали. Епископ пампелунский был в черном камзоле испанского покроя, плотно облегающем тело и пышном только на рукавах с желтыми прорезями. На поясе у него висел изящной работы кинжал, а на шее – тоненькая золотая цепочка с мощами. Он стоял молча.
Ах! Ах! Ты прикоснулся к дому этому?
в отчаянье кричал раб на растерявшегося старика.
. . . . . . . . . . . . . . . .Ах, наделал ты
Сказать нельзя – такой беды ужаснейшей…
От дома, заклинаю, прочь беги… от двери прочь!..
Да не смотри! Беги, покрывши голову 1.
1 Плавт Тит Макций. Привидение, стихи 454, 458-460, 512-524.
Ледяная рука дотронулась до сердца кардинала, и он пошатнулся, схватившись в последнее мгновенье за подлокотники кресла. Опять припадок! Сколько времени не было, а теперь вот опять, – когда он полон уверенности в осуществлении своих планов… Дон Сезар, любимый и такой ненавистный дон Сезар! Почему он всюду следует за ним? Или чует? Нет, не может быть! И кардинал-канцлер, лицо которого вдруг стало пепельно-серым, постарело и явно подурнело, сгорбился еще больше.
И столь же загадочным образом, каким он узнал о приходе епископа пампелунского, почувствовал он и его внезапный уход. Выпрямился с глубоким вздохом облегчения. И когда глаза его встретились с глазами Джулии Фарнезе, он чуть-чуть улыбнулся. Но тучные руки его до сих пор дрожали, и комедия о привидении его больше не забавляла.
Комедия о привидении!
А епископ пампелунский скакал в это время по улицам Рима, обок с замаскированным человеком, доном Микелетто, к вилле доньи Кортадильи, где их нетерпеливо ждали красивые женщины и два шпиона – неаполитанский и миланский, оба дворяне арагонского и Сфорцова двора, и где было превосходное вино, неразбавленное вино из Сьюдад-Реаль, еще то доброе, старое, испанское.
Лунный свет хлестал вдоль римских улиц, превращая дворцы в большие белые четырехгранные кристаллы, стекал по камню стройных статуй и лучам фонтанов, вис на ветвях спящих деревьев, покрывал плиты, углубляя их, изгибался сводом над мостами и, наконец, тонул в Тибре, отдавая ему не только свой блеск, но, подобно каждому утопленнику, и свою мечту. С Кампаньи веял легкий ночной ветер улыбаясь в этом серебряном свете. Он скользил по волнам и по крышам, развевая флаги стражи и плащи убийц, пробегал темными улочками, поворачивал у ворот, над огнями караульных постов, и мчался дальше, дальше; пробежав над Римом, навещал какую-нибудь жалкую деревушку с лаем собак и покатыми крышами, остановившуюся здесь словно просто так, по привычке, – заурядную, скучную, похожую на другие, чей вид если запомнишь, так только потому, что он повторяется всюду, деревню незаметную и ненужную, хоть, наверно, и там совершается много непонятного. Серебряный свет покачивался на этом легком ночном ветру, плавал и смеялся над видениями, которые сам на забаву себе создавал. Месяц-возничий мчался высоко в небе, размахивая своим световым плащом. Потом ему вдруг пришлось вступить в борьбу с таким бурным ветром, что даже дышло Большого Воза отклонилось под вихрем, гнавшим перед собой удушливые тучи. В небе сгрудились черные твердыни, и оно задрожало под их тяжестью. Они возникли внезапно, огромные, страшные, алчущие разрушения, а земля была дика и пустынна, без лунного света, ввергнута во тьму. Края туч еще колыхались от ветра и рвались на части, но черная твердыня противилась, напрягала силы, новый налет вихря, засвистев, наклонил ее, она опустилась и припала к земле. И вот уже все окрест бичует и сотрясает косой ливень, но черный дым туч валит дальше и дальше, от небесных твердынь отделился еще кусок, с грохотом рухнул к земле и разбрызнулся черной пеной. В ослепительно-белом полыханье молний люди испуганно просыпались и становились на колени, понимая, что приговорены к смерти.
Над Флоренцией разыгралась буря. Брат вратарь в Сан-Марко отказался открыть ворота.
– Он прав, – сказал монах мальчику. – Подожди, пока не затихнет немного.
Но Микеланджело стал опять просить, чтоб позволили уйти. Монастырский колокол ломал молнии, будил братию, сзывал на молитву. Они собирались, выбегая порознь из келий. Ярость бури вопила за высокими стройными окнами стрельчатой галереи, меча молнии далеко по всему краю. Братья, бледные, глядели на разверзшееся небо, вытаращив глаза.
– Ты останешься, Микеланджело, мы тебя не пустим! – тихо, но твердо сказал Лионардо, ныне, в монашеской рясе – фра Таддео.
Микеланджело опять хотел возражать, но грянул такой громовой удар, что все монастырское здание содрогнулось, словно дав трещину. Братья упали на колени. Лионардо, бледный, бросился к окну.
– Уж не сюда ли, в дом божий? – пролепетал он.
И стал на колени с остальными. Микеланджело тоже. Среди завывания бури и гудения колокола послышался голос молитвы, обращенной к матери божьей.
В длинной стрельчатой галерее темно. Горят только несколько факелов. Больше света – от молний. И при каждой вспышке их Микеланджело должен, против воли, взглянуть на человека, который – один не на коленях – стоит, прислонившись к двери своей кельи. Руки его сжаты, как у остальных, он молится, как остальные, только не вслух, а шепотом. В свете молний из тьмы выступают острые черты изможденного постом, худого лица. Микеланджело всякий раз быстро опускает глаза и старается еще горячей молиться. Но у него не выходит. Это лицо вновь притягивает к себе его взгляд, как только блеснет молния и опять станет видно. Юноша сам чувствует на себе пронзительный взгляд огненных глаз. Он пригибается под этим взглядом все ниже и ниже к земле, а колокол гудит и гудит. Кончили молитву и хотели начать новую – на этот раз литанию ко всем святым, как вдруг человек отошел от двери, и резкий, каркающий голос его ворвался в бурю и в духоту галереи.
– Чего боитесь, маловеры? – начал он, вступив в ряды коленопреклоненных. – Разве мы не все в руках божьих? Не сказал ли нам он сам, что без его воли ни единый волос не упадет с нашей головы? А вы знаете, что нас ждет еще великая и тяжкая работа. Жатвы много, а делателей мало. Бури боитесь? А собственного сердца не боитесь?
Головы клонились. Буря выла. Она решительно не хотела покинуть город без добычи. Край рясы коснулся Микеланджело.
– Встань, юноша! – приказал суровый голос. – Новый послушник? И в бурю пришел?
Вопрос был обращен к стоявшему рядом монаху.
– Это мой брат, – робко ответил фра Таддео. – Он навестил меня, и мы задержались, разговаривая, потому что давно не виделись. Его зовут Микеланджело Буонарроти.
Савонарола кивнул головой.
– Я помню это имя. Ты и твой друг Франческо Граначчи первые встретились нам в воротах Флоренции, когда мы пришли в этот заброшенный виноградник господень. Мы шли сюда, к новому берегу вечности, а вы стояли перед крестом у ворот и клялись друг другу в вечной верности. Я обещал, что не забуду ваших имен, я не забываю таких вещей и не забыл. Мы вместе вошли в город я, фра Сильвестро, фра Доменико Буонвичини, ты и твой друг, я не забываю таких вещей. Ты тогда сказал, что вы – медицейские художники. Это до сих пор так?
– Да, – ответил Микеланджело.
– Брат твой вступил на путь спасения. А ты?
Пожелтевшее, сухое лицо с заостренным носом почти приникло к юноше. Жаркое дыхание монаха плывет возле самых глаз.
– Не знаю, – прошептал Микеланджело.
– Ты живописец?
– Ваятель.
– Высекаешь Венер, Диан, Елен, нимф и как там еще зовется вся эта дьявольщина? А правитель Лоренцо радуется, платит тебе, ласкает тебя?
Буря продолжает неистовствовать, и братья испуганно глядят на своего настоятеля. Знают, что они – в руке божьей. Знают, что без его воли волос не упадет с их головы. Знают, что жатвы много, а делателей мало. Но видят в сотрясающихся окнах небо отверстым – и уж если надо взойти на него, так с молитвой. Савонарола поглядел на их смятенье и страх язвительным взглядом. И кивнул.
– Ступайте в часовню и молитесь, главное, читайте покаянные псалмы – не ради бури в воздухе, а ради той, что непрестанно зыблет ваше сердце. Помните написанное: "Ты воистину не хочешь погибели нашей, после бури посылаешь успокоение, после вопля и плача изливаешь радость". Идите и молитесь!
Монахи стали уходить парами, сжав руки и склонив головы.
– Я спросил тебя насчет пути спасения, и ты сказал: не знаю, – начал Савонарола, оставшись с Микеланджело вдвоем. – Так ответил ты мне. А как ответишь Христу?
Юноша молчал.
– Когда ты восстанешь ото сна?
И на этот раз не получив ответа, монах отступил немного и скрестил руки на груди.
– Да, все вы такие! Я мог бы говорить к вам, как ангел, но вы молчите, сердца жестоковыйные! Чем мне смягчить вас? Сколько раз падал я духом, на вас глядя! Спаситель пролил кровь свою за вас, а вы молчите! Вам небо уготовано – пир великий и вечный, сделанный царем, – а вы молчите! Все власти и херувимы небесные с изумленьем глядят на дело искупления, дело божье, а вы молчите! И ты – в их числе! Если бы Платон, Аристотель и все эти языческие философы, которых вы почитаете, знали хоть одно слово той правды, что я расточаю среди вас, они пали бы на землю и преклонились бы перед премудростью божьей. А вы молчите. Ради чего расточаю? Ради чего? Ради своей выгоды расточаю? Кто ищет выгоды, те сидят в Риме, одетые в мягкие одежды, непрестанно пируя, проводят время среди наслаждений, забав и золота, предаваясь излишествам, а не постам, умерщвлению плоти, молитвам, в зное дневном и под бременами, как я и братья мои. Ради чего расточаю? Ради того, что сгораю от любви к богу – и ради твоей души! Бог зовет тебя, а ты отвечаешь: не знаю! Отрок Самуил радостно ответил: "Говори, господи, ибо слышит раб твой!" А ты – "не знаю"…
– Я молюсь, – шепчет Микеланджело. – Молюсь и живу, по мере сил, в страхе божьем…
– И выбираешь для князя языческие статуи, он с тобой советуется, покупая их, вы осматриваете античные произведения, а?
Микеланджело опять склонил голову. Это правда. В последнее время Маньифико так его полюбил, что на все осмотры всегда брал его с собой и, прежде чем что-нибудь купить, всегда с ним советовался.
– Искусство! – воскликнул монах. – Чего только не укрыли вы под этим красивым словом! Нечистоту и кощунство, идолослужение. Не изображения Христа и святых, а голых женщин, языческих богинь. Не говори, будто смотришь только на рисунок, – ты лжешь сам себе, на голую женщину смотришь! Не говори, будто ты поглощен только живописью, – ты лжешь сам себе, нечистыми порывами и похотью сердца своего поглощен ты. Да, искусство – как дар божий! Но о нем вам ничего не известно. Вам известно только искусство, дар ада!
– Искусство может быть только одно… – сказал Микеланджело.
– Перед богом. Да. Но не перед людьми, – резко перебил Савонарола. Люди назвали этим именем вещь мерзкую и гнусную, у которой с даром божьим нет ничего общего, которая попросту – сеть дьявола. Все на свете должно быть во власти бога, – все, чем мы живем, что мыслим и чувствуем, что совершаем, что видим вокруг себя, все должно быть богослужебным. Для того и созданы человек и мир, чтоб служить. Чтоб каждой мыслью и каждым поступком своим он совершал великую, непрестанную литургию. Написано: непрестанно молитесь. Как по-твоему, что под этим подразумевается? Все, что в тебе и вокруг тебя, должно быть молитвой, – понимаешь, ты, художник медицейский? А без этого все – кощунство, кража, ибо ты крадешь принадлежащее богу. Наполняешь свою мысль и тешишься вещами, которые крадешь у бога и отдаешь тлению, рже, червям. Не радеешь о вещи, для которой рожден, – о вещи вечной.
– Искусство вечно… – возразил юноша словами Бертольдо.
– Да. Но только истинное искусство. То, которое – дар божий. А не всякое. Vae qui dicitis bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras, ponentes amarum in dulce et dulce in amarum 1, – да, горе вам, называющие сладкое горьким, а горькое сладким. Как же ты не знаешь? Живешь в мире и не знаешь? Дьявол ищет всяких путей к душам человеческим, всяких, дьявол подражает богу. Он сам хотел быть богом и стал его кривым зеркалом. Но ко всему, что принадлежало бы ему как богу, он тянет свой кривой коготь. Как же ты не знаешь? Живешь в мире и не знаешь? У дьявола есть свои мученики, как у бога. У дьявола есть свои пророки, как у бога. У дьявола есть свои герои, как у бога. У дьявола есть свои ученики, он тоже посылает свои видения и сны, как бог. У дьявола есть свое искусство, как у бога. У дьявола есть своя тайна, как у бога. От тебя зависит, что выбрать. Но ты, видно, уже выбрал, Лоренцов ваятель!
1 Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким (лат.).
Савонарола замолчал, подошел к окну. Буря свистела вдоль стен, которые дрожали. Окно пламенело, как лицо у проповедника.
– Есть и тайна греха, – продолжал он. – Искусство, которое не дар божий, входит в эту тайну. И в нем есть величие, потому что в аде есть свое величие, темное и хмурое, дьяволы были прежде ангелами и знают, что такое рай. Они тоже умеют показывать людям, что такое рай, но показывать искаженно, по-своему, с изнанки. Они только этим могут соблазнять, дьявольством соблазнять они не могли бы, такой скверной души бог не дал никому, – а соблазняют искаженьем, подделкой, ложью и обманом, изнанкой рая. Eritis sicut Deus – будете как бог, не как дьявол, вот что сказал великий змей прародителям в раю. Меньшего не посулил. И все время это повторяет. Никому, соблазняя, не сулит ада, а сулит рай. Соблазняет тебя и все время: eris sicut Deus! – будешь как бог! Повторяет во всем. И в искусстве. В этом своем темном, кривляющемся, в этом проклятом искусстве. Оно возносит тебя? Но не к небу. Гордость. Знаешь, что говорит святой апостол? Все, что в мире, – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так говорит святой Иоанн. И сказано это обо всем, что в мире, – и о вашем искусстве, ибо оно от мира сего. Что такое ваше искусство? Похоть плоти. Этого не оспоришь! Что такое ваше искусство? Похоть очей. Не оспоришь! Что такое ваше искусство? Хуже всего: гордость житейская. Не оспоришь. Не говори, что искусство одно. Есть дьявольское, а есть божье. Истинное и вечное – это божье. И в нем нет ни нечистоты, ни кощунства, ни идолослужения. Микеланджело прижал руки к вискам. Несколько шагов – и он уже стоит в низких дверях галереи. Но фигура монаха вдруг выросла прямо перед ним. Савонарола прислонился спиной к двери, и жгучий, палящий взор его впился в подростка.








