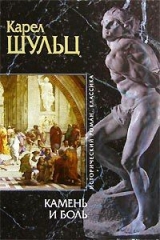
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 47 страниц)
Пьер советовался с канцлером Биббиеной, как успокоить город. Канцлер предложил устроить празднества, как делал Лоренцо, но это был негодный совет, – невозможно было расчистить улицы для карнавала и танцев. Тогда что же? Тут Биббиена вспомнил о Микеланджело. Недурно было бы, если б этот молодой ваятель потехи ради слепил большую фигуру из снега, которая смешила бы народ, и таким путем самый снег этот можно было бы обратить в шутку. Такого не было еще во всей Италии: статуя из снега, об этом сразу всюду заговорят, и это было бы доказательством, что во Флоренции совсем не такое настроение, как толкуют, сгущая краски. Народ забавляется снегом и не боится. Правитель Пьер с благодарностью принял совет Биббиены, позвали Микеланджело, и тот согласился.
Наступил вечер. Как нищий, сидящий в снегу на паперти храма, сунул себе за пазуху дотоле напрасно протянутую замерзшую руку, чтобы согреться биением своего собственного сердца, так я, Микеланджело, до сих пор напрасно протягивал руки, но не от слабости, а от избытка силы, так же мучительно рвущейся из меня наружу, как я ударами резца добывал жизнь из нутра камня. Это не нищий, которому вы подаете, это нищий, который всегда одаривает вас. Подайте жалкую монетку, он за это откроет пред вами небесные врата, он подарит вам дар бесконечный и ни с чем не сравнимый. Вы ему – подаянье, он вам – небо. Вы мне – рукопожатье, взгляд и улыбку, я вам в уродстве своем открою такое сокровище искусства, что вы остановитесь перед ним в изумлении. Я убог и смирен. Вам нужны звезды, мне писали стихи огни свечей. Я создавал огненные сонеты о своей беде, слова-судороги, слова-камни, но кто из вас дал мне лучшие? Я никогда не жаловался, моя боль была всегда молчалива. А теперь хочу говорить. Никогда еще не желал этого так сильно. Захлебнусь, если не получу возможности произнести слово, хоть вы его и не ждете.
Я вижу тени, которых вы не можете видеть, вижу, как приближаются железной поступью фигуры, пока скрытые в недрах гор. Это немыслимое терзанье. Когда музыкант в струнах своего инструмента заранее слышит музыку, которая только еще ждет, чтоб он ее в боли души своей пропел, – он может вспомнить ангелов, поющих ее у подножия престола божьего, в музыке сфер. А мне кто откроет мраморные громады, кроме меня самого? Но чем? Ударом резца, биеньем сердца. Для того я и положил теперь на это сердце свою напрасно протягиваемую руку, – чтобы ее согреть, чтобы приготовить ее к этому произведению. И повторяю вам, этот жест не от слабости, а от избытка силы. Благодаря силе своей тянусь я к вам, властелин над гранитными безднами, мраморными вершинами, красками сумерек и рассвета, стихами, написанными трепетаньем пламени. Я готов.
Микеланджело согласился выполнить заказ Биббиены, чтобы расположить к себе правителя. Ему нужен от Пьера камень, огромный, могучий камень, такая глыба мрамора, какой во Флоренции еще не было. И эту огромную глыбу он превратит в дар человечеству и городу. Он знает, что из нее сделать. Я обещал произведение, я создам его, оно будет здесь.
Необъятная, огромная статуя государя над всеми поэтами, высокая, больше человеческого роста, статуя Данте, которая будет повелевать городу и всему краю. И в ней будут втесаны, врублены, врезаны все надежды, боязнь и вера, все предчувствия и призраки, все дороги в рай. Данте в начале своего пути, вышедший camino alto e silvestro, на высокую лесную дорогу. Огромная статуя. Данте, положивший одну руку на грудь, а другую протянувший вперед, потому что вокруг уже темно, лес дикий, густой, непроходимый. Одежда в обильных складках, движенье ходьбы. Маленькая восковая модель уже готова и тщательно скрыта от посторонних глаз, так как это должно быть полной неожиданностью.
Но я должен получить камень. Самый большой, какой только привозили во Флоренцию. Весь свой жар, всю кровь, все свое искусство вложу я в эту работу, вы узнаете Микеланджело, никто больше не будет отворачиваться от меня, забывать обо мне, не знать меня… Тоска, тоска по людям. Но правитель Пьер должен купить камень. Ради этого пусть будет эта шутка из снега, чтоб легче было договориться.
Шутка – только для правителя. Он хотел ее и получит. Когда Лоренцо Маньифико не понял, что я создал в своем первом произведении, я выбил "Фавну" зубы. Дыру в пасти "Фавна" получил Лоренцо, Пьер получит снег. Что они хотели, то и получат от меня. А народ получит все мое, все, что я имею, – не правителям, а людям, среди которых где-то бьется одно сердце для меня, только для меня одного, отдам я все свое искусство.
Людям нужен от меня не снег, людям нужно мое произведение и камень.
Тоска, великая, страстная тоска по людям. Вам дам я свое произведение. А правителю – шутку.
Утром он принялся за работу, вокруг него слуги с лопатами, сбегается народ, новость облетела всю Флоренцию, страже пришлось осаживать любопытных, чтоб художнику можно было работать, толпы зевак стояли в снегу, напряженно наблюдая, как растет произведенье, а он на глазах у тысяч приглаживал, прибавлял снегу, статуя поднималась, толпы рукоплескали, смеялись, кричали, понадобились приставные лестницы, чтоб работать дальше. Теперь уже десятки рук катят новый снежный ком, слуги, стража, народ – все помогают, каждый хочет участвовать, – этого еще не было нигде в Италии, статуя из снега; Микеланджело, стоя высоко на лестнице, приказывал, распоряжался, ему помогали, он обтесывал смерзшийся снег. Вот уже готово ухмыляющееся лицо, и еще до наступления сумерек работа была окончена, статуя стояла высокая, белая перед тысячеглавой толпой. Веселая выдумка оказалась увлекательной. Собрались все, приходили даже те, кто бушевал против язычества, – статуя была не языческая, это был великан-снеговик, – приходили даже те, кто негодовал на Пьера, в этом предприятии не было никакого подвоха – под теплыми лучами солнца статуя опять растает, люди шли и шли, площадь была полным-полна народу, все стояли изумленные перед невиданным, – огромная статуя великана из снега, вся целиком из снега, чудеса, да и только!
Окна Синьории были открыты, и синьоры, не имевшие права во время исполнения своих обязанностей покидать здание, стояли перед окнами, не менее изумленные, чем народ. Потом принесли сотню зажженных факелов, и в их свете снег статуи заискрился, заблестел, стал метать во все стороны ломаные лучи. Стража всю ночь стояла на месте, и народ долго не расходился. Многие никак не могли дождаться утра: останется ли статуя? Она осталась, и с самого утра к ней началось паломничество со всего города.
На площади было черно от народа. На прилегающих улицах началась такая давка, какой не бывало даже во время самых пышных карнавалов. На углу завязалась первая драка, – это подмастерья разных цехов защищали своих Лап, Бьянок, Катарин и Лессандр от посягательств бродячих солдат. От Борго-Санти-Апостоли валили толпой помощники золотарей и кожевников, покинувшие свои мастерские. Они повытаскивали из харчевен свирельщиков и взяли их с собой. Со стороны Санта-Мария-Новелла нарастали голоса и смех, там горожане, шагавшие с достоинством, под руку с женами, столкнулись с толпой канатчиков. Так как многие горожане отличались дородством и преклонным возрастом, а жены у них были молодые и хорошенькие, канатчики, ликуя, окружили горожанок и, взявшись за руки и приплясывая, запели во все горло песню мессера Боккаччо: "Монна Симона, как бочка, полна, хоть октябрь еще далеко…" А студенты, хлынувшие из аудиторий при звуке этой песни, ринулись туда лавиной, так как между студентами и канатчиками Флоренции была давняя вражда. Встав на защиту горожанок, студенты оглушительно заревели песню "Моя миленькая любит петухов – вот за что?". Тут канатчики приготовили свои дубинки, а студенты быстро набрали камней, канатчики ревели "Монна Симона, как бочка, полна", а студенты в ответ оглушительно – "Моя миленькая любит петухов", а горожанки, бедные, метались между ними, безуспешно обороняемые своими почтенными толстыми и лысыми супругами, которые махали серебряными тростями и звали бирючей, не мешая ни поцелуям, ни драке. Мастерские и лавки закрылись, никто не покупал и не продавал, все устремилось на площадь Синьории, никто не хотел пропустить такое зрелище ремесленники, горожане, купцы, мужики, подмастерья, студенты, солдаты, все в мечущемся пестром хаосе, песни, выкрики, смех, шутки, оклики, галдеж. Свирельщики стали дуть в свои инструменты, послышался звук лютен и труб, шум разрастался. В толпу со всех сторон вступили нищенствующие монахи, клянча подаянье на выкуп христиан, томящихся в турецком рабстве. Но у продавцов святых мощей и испанских благовоний дела шли лучше, то и другое было в большой моде. Старуха – торговка всякой святостью – сулила кавалеру самую распрекрасную даму на свете, но только бедную, а кавалер подумал и, оттолкнув старуху, сунул записочку в руку толстой вдове, которая была отнюдь не самая распрекрасная, но вся в бархате, жемчугах – и признательно улыбнулась. Толпа росла, ворам была пожива, негодяи без чести и совести предлагали свои услуги, шепча, что в такой давке пырнешь ножом – никто не узнает. Вербовщики торопливо сговаривались с деревенскими парнями, тупо жующими свою краюху с луком, не понимая, чего, собственно, от них хотят, и с готовностью ударяющими по рукам, как только вербовщик подставит ладонь, будто речь шла о продаже теленка или домашней птицы. Поспешно назначаемые свиданья, обнаженные кинжалы, срезанные кошельки, сорванные и похищенные плащи, крики нищенствующих монахов, крики торговцев мощами и испанскими благовониями, нашептыванье старых сводней, перебранка горожан, рокот свирелей, протяжное пенье тромбонов, без конца переливающиеся волны народа. Снова на толпу спустились сумерки, и по-прежнему перед дворцом Синьории стоял великан-снеговик, искрясь снегом в свете факелов.
Пронзительно завизжали трубы, и народ неохотно расступился. Уж второй раз за день правитель Пьер со своим блестящим эскортом приехал смотреть на статую. Теперь с ним были и вдовствующая мать – Кларисса Орсини, и его знатная супруга – Альфонсина Орсини, урожденные римские княжны, а также Джулио и Джулиано Медичи и большая свита придворных. Канцлер Биббиена сиял по поводу своей удачной выдумки, – да, еще Лоренцо Маньифико говорил, что мало кто знает флорентийцев, как каноник Биббиена.
Пьер приказал выплатить Микеланджело двадцать золотых. Но того никак не могли найти. Никто не знал, куда он девался. Пришел он только на другой день и был такой бледный, что испугались, не заболел ли, может, слишком рано встал с постели и повредил себе, работая вот так весь день над статуей из снега, которая посейчас стоит перед Синьорией, вызывая ненасытные восторги толпы. О бледности Микеланджело сообщили правителю, и тот заботливо послал к нему своего врача, приказав сейчас же донести ему о положении. Биббиена тоже навестил юношу, пришли Джулио и Джулиано Медичи, теперь уже свободно, не скрываясь, так как правитель Пьер сам предложил им пойти навестить старого приятеля, пришли и долго сидели. Но Микеланджело не был болен, хотя по его речам можно было подумать, что у него жар, – это с неудовольствием отметили представители города, явившиеся днем в праздничных одеждах торжественно приветствовать его. После их ухода пришел патриций Анджело Дони с просьбой, чтоб Микеланджело создал для него какое-нибудь произведение, только не из снега. Так как семейство Дони принадлежало к самым богатым в городе, Анджело предложил много золота, но Микеланджело ничего не обещал и скрылся от спесивого Дони. Несколько старух с письмами флорентийских мадонн не были допущены в дом слугами.
Страшное впечатление произвел приковылявший Полициано. Микеланджело не знал ни латыни, ни греческого, не понимал гекзаметров, которыми сотрясал воздух Полициано, но понял его благословляющий жест, который тот произвел, почти как священник, так как считал себя уже иноком, договорившись о том, чтобы надеть на себя доминиканскую рясу в Сан-Марко. Ибо во всей Флоренции нет мужа более ученого и святого, чем Савонарола, – так заявил Полициано. Фра Джироламо – святой пророк, и Лоренцо Маньифико совершил великое деянье, послушавшись моего настойчивого совета и позвав Савонаролу во Флоренцию, так заявил Полициано. За это потом фра Джироламо благословил умирающего Лоренцо, благословил, и по его совету Лоренцо вверил власть народу, я сам был свидетелем этого, – так заявил Полициано, которого уже ждет одежда доминиканского терциария в Сан-Марко. И теперь он, с глазами, полными слез, благословил Микеланджело за снежную статую, благословил, проблеял стихи, полные торжества, но Микеланджело их не слышал, он убежал, оставив изумленного философа, с его дрожащим благословляющим жестом протянутой руки, стоять посреди комнаты. Правитель Пьер оповестил, что завтра устраивает в честь своего придворного художника Микеланджело домашнее празднество, и прислал ему красивый костюм зеленого шелка. Кларисса Орсини прислала перстень, а Альфонсина Орсини – золотую цепь.
Потом пришел отец, старый Лодовико Буонарроти, в одежде, какой уже давно не носят, но такого добротного сукна, что она выглядела новой, как с иголочки. Он держался робко, неуверенно, смущенно, – нет, ни в чем уже не чувствовался бывший подеста и член Совета двенадцати. Правители уважают юношу-каменотеса, отказавшегося от хорошей чиновничьей карьеры, – так, может, парень, мы и впрямь напрасно тебя обижали, как все время твердит мама Лукреция, она тоже придет на празднество, так что нельзя тебе болеть и отсутствовать, как ты говоришь, – ну, подумай, что она там без тебя будет делать среди всей этой знати, коли уж нам этого не миновать, понимаешь? И братья тоже придут, не удивляйся, что придут к Медичи, им хочется тобой похвалиться, и Джовансимоне чуть не проповедовал вчера перед соседями, как, мол, они тебя всегда любили и во всем тебе помогали, и знаешь… – тут голос Лодовико вдруг надломился, и старик продолжал уже шепотом… – дядя Франческо тебе дивится и поклон велел передать, – ты можешь себе представить, милый? Передаю тебе поклон от дяди Франческо…
Ночь, ночь, ночь, снег перестал, морозит. Дьявол мчится в воздухе, гоня перед собой жесткие тучи, которые словно скрежещут, сталкиваясь друг с другом. Одинокая свеча горит в темной комнате, где он сидит, запустив пальцы себе в волосы, прислушиваясь к этому скрежету и раздающимся в воздухе голосам. Боли нет, есть отвращение. Брезгливое отвращение и противный вкус в горле, во рту, в сердце, горечь на языке, сменяющаяся ощущением гнили, словно ты поел падали. Ему противно все, даже его собственное дыхание, собственные руки, собственные мысли. Кровь течет мутно и медленно, словно похоронная процессия, тянущаяся с горы на гору, без передышки. Скрежет ветра, туч, ставней. Ночь. Холодно. Значит, статуя будет жить еще долго. Распустится, растает, только выслушавши весь смех и восторг города. До сих пор возле нее стоит стража, чтобы никто не испортил такую драгоценность. Ночь. Гниль в мозгу и в сердце. Часы поступили на службу к аду. Они пахнут серой, напоены всхлипываниями отверженных, набухли их бессильными слезами. Вот погасла единственная свеча, какая была в горнице. Его затопила волна тьмы. Он сидит не шевелясь. Сердце изголодалось, и надо было нанести ему эту обиду. Теперь оно бьется во тьме. Отвращение стало твердым и укоренилось навсегда. В сердце, в жилах, в мозгу, в печени, в руках, во лбу, в груди. Навсегда останется там, гранитное, несокрушимое, неподатливое, крепкое, как панцирь. Никогда не будет раздроблено и извергнуто. Тьма. Догорающий огонь в очаге разлил последний свет, и выступило, словно вырезанное из тьмы, посиневшее лицо. Потом огонь погас. Микеланджело медленно встал, тяжелыми шагами подошел к постели и бросился на нее, прямо как был, в новой красивой одежде зеленого шелка, с цепочкой на шее, с перстнем на руке. Вслед за его паденьем ночь сразу осела, завалив его тяжкой, непроницаемой тьмой, в которой, вместе с последним лучом света, по красным поленьям растекался остаток модели статуи Данте, с одной рукой на груди, на сердце, а другой протянутой вперед: Данте – в то мгновенье, когда он вышел на свою темную дорогу, одежда в богатых складках, движенье ходьбы, восковая модель, превращающаяся в противную грязно-серую кашу, полную головешек и пепла.
БЫК, ЗАЧАТЫЙ ОТ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА
Над Альпами бушевала буря.
Молнии бороздили свинцовый небосклон, ударяли в гудящие скалы. Тучи с грохотом катились по склонам гор, буря била в отвесные скальные стремнины, наклоняя их. Гром перелетал с одной пламенеющей вершины на другую, как огненный орел, который, нацелившись, вот-вот ринется вниз. И за ним упадет оглушительный каменный обвал. И солнце взметнется в поднявшемся к небу шквале. Почерневшая от столетий пустота бездн и утесов светится лиловым светом. С грохотом выбился из скал высокий столб пламени, волнобой отголосков, бездны ревут.
Король Карл шагает между герцогом Монпансье и маршалом де Ги. Каждый раз, как молнии расколют стену скал, король, бледный, испуганный, смотрит на своих друзей, лица которых тверды и суровы. Это мужи бури и войны, и королю всякий раз становится легче при взгляде на тех, кого он гонит на смерть. Длинная зигзагообразная молния расколола небо прямо у него над головой и сбежала в глубь стремнины, сорвав сверху несколько глыб. Слюнявый рот эпилептика из рода Валуа, всегда разинутый, закрылся от страха и ужаса. Король оперся на маршала, и тот предложил, что отыщет какую-нибудь пустую пещеру, где королю можно будет переждать бурю. Но господин де Монпансье посоветовал остаться при войске, по примеру паладинов Карла Великого, и этого было достаточно, чтобы Карл сделал новое усилие подавить дрожь всего тела, на котором даже панцирь дребезжал от страха. Они стали спускаться вниз по извивам тропок, освещаемых одними молниями, – хотя был только полдень, тьма среди скал стояла полночная.
Ущельями возле Монте-Джиневра, среди бури, французское войско катилось в Ломбардские низины.
Девяносто тысяч человек в полном вооружении, орды бойцов, закаленных в нидерландских, пиренейских и рейнских битвах, старые арманьяки, несущие на своих рваных знаменах кровь еще Столетней войны, армада убийц, согнанная со всех концов Франции. Девяносто тысяч обученных солдат, не считая швейцарских отрядов, где каждый – хоть простой пехотинец, а стоил кучу золотых. Они шагали вперед, распевая песни, зная и бури и горы, не без презренья поглядывая на испуганные толпы французов, владея новым военным искусством, с помощью которого, наступая густыми рядами, разгромили золоченое рыцарство под Грансоном, у Муртенского озера, а потом в лютый мороз – у Нанси, где так круто расправились с противником, что только через два дня в снегу нашли обгрызенный волками труп герцога Карла Смелого, которому при жизни никакое золото, никакие диадемы не казались достаточно ослепительными, чтоб украсить его голову. На швейцарцах были куртки в черную и белую клетку, к буре они относились спокойно, искусно пробираясь по извивам троп, среди пропастей. За ними, под звуки свирелей и барабанов, шагали взводы наемников – ландскнехтов из Верхнерейнской области, ядро отряда составляли пищальники в широкополых шляпах, разукрашенных желтыми и красными перьями, несущие свое тяжелое орудие на плече, опираясь на рогатину. Пронзительно звучали в бурю резкие ноты их свирелей, выводящих на походе старые военные песни. С ландскнехтами шло также много немецких господ, многим из них не по вкусу был Максимилианов ewig Landfried 1, слишком горяча была кровь и тесны замки, тверд кулак у епископа Вормсского, ландграфа Гессенского, курфюрста Майнцского, непристойно было драться с бунтующими крестьянами Верхнерейнской и Брейсгауской областей, дворянский стяг должен реять в иных сражениях, против славнейших знамен, чем Бундшу, мужицкий лыковый лапоть, насаженный на рукоять вилы, – единственный боевой значок малохольных мятежников. Авангард составляли задорные рыцари, жаждущие первых стычек. Воинство катилось под бурей по горным тропам, среди пропастей и высоких пиков, под оглушительные раскаты грома. Девяносто тысяч бойцов и четыреста больших бронзовых пушек, до сих пор не виданных тяжелых орудий, несущих ужас и смерть. И, кроме того, бесчисленное количество малых. Стрелки, копейщики, мушкетеры, саперы, пищальники, ландскнехты, пушки, фальконеты, свирельщики, знаменосцы – все на твердом жалованье, аккуратно выплачиваемом. Да четыреста кораблей под командованьем Пьера д'Юрфе плыли по морю, ощетиненные оружием на носу…
1 Вечный мир в стране (нем.).
Предсказание исполнялось. Альпы расступились. Только один человек мог остановить этот поход, совершаемый в грозе и молнии, так же как он его сдерживал много лет, но человек этот был мертв, и когда он умирал, свод в Санта-Мария-дель-Фьоре дал трещину, как теперь трещат своды под ударами снарядов из французских фальконетов. Кривобокий сумасброд с обезьяньей физиономией и всегда разинутым слюнявым ртом, сутулый пасквиль на рыцарство, король милостью сестры своей Анны Бурбон-Божё, приказал – и смерть и гибель двинулись в поход, распевая песни бахвалов и шлюх.
В страну вступили французы.
Кое-где рокотали барабаны и плакали колокола, народ вопил молитвы и бежал в леса, но в других местах ставились триумфальные арки, и девушки, перед тем как попасть в плен к поджарым рыцарям Куртье, рядились в Чистоту, Стыдливость и Целомудрие. Уже горели первые деревни, и едкий дым пожарищ доходил до Турина. Опустошенная, ограбленная до нитки страна, с отравленными или засыпанными колодцами, была покрыта пеплом. Орды, наторевшие в убийствах и разбое, благословляли короля, который привел их в этот богатый край. На сучьях деревьев, на балках обгорелых домишек, повешенные по туреньскому способу – с обожженными подошвами, с вывернутыми из суставов коленями, с вырезанным языком – висели те, кто не сразу указал, где спрятаны деньги. Обнаженные тела женщин и девушек стыли на крыльцах, у лестниц, вдоль горящих нив. На кольях изгородей, на тычинах виноградников насажены младенцы, детская кровь текла по тяжелым налившимся гроздьям, – люто было вино войны. А в это время вдовствующая герцогиня Бьянка Савойская встречала в Турине короля постановкой духовной пантомимы, где начальные пастушеские сцены изображали "закон природы", а затем – сонеты, воспеваемые патриархами, выражали "закон милости". Потом были представлены "Приключения Ланчелотто". Утром король сел на коня и, окруженный борзыми и придворными, велел ехать для дальнейших увеселений в Асти, где ему приготовил торжественную встречу Лодовико Моро со своей супругой Беатриче д'Эсте. Там торжества обошлись особенно дорого, так как руководил ими знаменитый Леонардо да Винчи, с которым король желал тоже познакомиться. И вот перед королем, который глядел как завороженный, раскрывши рот, закружились огненные шары планет, стали подыматься в воздух, улетать и прилетать поющие гении, заговорили статуи, запылали фейерверки, забили разноцветные каскады воды и растянутый во всю ширь дворца ковер вдруг ожил, вышитые на нем фигуры оказались живыми людьми, – напрасно пробовала убежать нагая Галатея, пришлось ей упасть в объятия короля-рыцаря, пускавшего слюну.
А отряды все валили по разоренной стране. Свирельщики весело играли, поддерживая ритм шагов, рокотали барабаны, разливались песни, и за потоками войск ехали богато украшенные крытые колымаги с французскими проститутками, сопровождавшими войска из самой Франции и собиравшими богатую дань среди солдат, у которых было уже много золота, широкополые шляпы этих женщин были полны шелковых лент и алмазных пряжек.
На королевских знаменах был вышит девиз: "Voluntas Dei – missus a deo", что значит: "Воля божья – я послан богом".
Потому что эпилептик страстно желал, покорив Неаполь, низложить папу, подчинить себе Италию, вновь отвоевать Византию, разрушить сарацинское государство, покорить Азию и, по следам Александра Великого, дойти до Индии, чтобы вернуться в Париж с титулом короля Иерусалимского, в персидской одежде и со слонами вместо коней. Еще выше подкручивали концы усов французские господа при мысли об этих завоеваниях, и ни один из них не боялся пустить с молотка свои владения в Артуа, деревеньки в Оверни, замки в Шампани, – Индия за все щедро заплатит. А пока платили Синьории городов, обложенных золотою данью – хуже чумы. И платили не только золотом. Они платили картинами, гобеленами, мощами святых, драгоценными рукописями, статуями, сокровищами искусства, а главное – женской красотой. Платили. Уже тысячи тяжело навьюченных мулов были отправлены во Францию. Платили. И будут еще платить. Потому что потребуется еще много денег, прежде чем гасконские дворяне, единственной собственностью которых были отцовский меч да тощая кобыла, дойдут до Индии и наденут персидские наряды. Разве они идут не затем, чтобы освободить гроб господень? Идут крестоносцы, – так пусть же их поход оплачивают итальянские города, изнежившиеся в наслаждениях и неспособные к отпору! Разве недостаточно потратился эпилептик для подкрепления своих притязаний на Неаполь – в качестве наследника герцогов Анжуйских? А раз он будущий правитель Неаполя, так в силу этого звания он же является преемником королей иерусалимских из дома Штауфенов, и пусть христианский мир платит будущему освободителю гроба господня! А кто возместит ему расходы, связанные с откупом у последнего из династии Палеологов претензий на византийский трон? Правда, у Андрея Палеолога, кроме этих претензий, ничего не было, но он сумел выгодно обратить их в деньги, хитрый грек, имея дело с королем, который всегда слушает собеседника, раскрывши рот. А кто должен оплатить ему поспешные уступки в Нидерландах и на Пиренейском полуострове, сделанные ради того, чтоб ускорить начало Итальянского похода? Так пусть же пока расплачиваются Синьории и князья – деньгами, а прелестные дамы – своей красотой, прежде чем начнет платить Азия и слоны повезут индийские сокровища, как теперь везут сокровища мулы.
Неаполитанское наследство…
Потому что там умер арагонец, король Ферранте, – после страшных мучений, в том самом зале, уставленном его бальзамированными жертвами, где он любил сидеть, съежившись в высоком кресле, как подстерегающий паук, наслаждаясь видом мумий, одеваемых слугами по воскресеньям в праздничные одежды, – так как он тоже чтил день господень. Три дня старик выл от ужаса, чуя свою смерть, ползал на коленях перед мумиями убитых и выкрикивал их имена, челядь разбежалась, никто не хотел входить в зал, где безумствовал помешанный король, даже родной сын Альфонс боялся войти и просил отцовского благословенья, стоя на коленях за дверью, между монахами. Монахи держали в руках зажженные свечи и кропильницы со святой водой. Призвавши на помощь архангела Михаила, они велели королю открыть дверь в зал, покаяться в грехах и собороваться. В ответ старик стал выкрикивать имена мертвых, и выходило, как будто это кричат монахам и королевичу убитые королем. Потом стало слышно, как мумии падают, видимо, старик начал с ними драться; тут Альфонс вышиб дверь и вошел, чтоб помочь отцу, которого увидел в объятиях первого министра Антонетто Петруччо, поседевшего, одряхлевшего и нашедшего свой конец на его службе, отравленного за трапезой ядом под названием basium, что значит "поцелуй", по-испански – osculo. Наверно, Петруччо был уже с молодости морщинистый, робкий, испуганный, – над ним много издевались. Король Ферранте немало позабавился на его счет и никогда не отпускал его от себя, так что тот утром, перед посещеньем дворца, всякий раз просил добрых людей помолиться святым патронам о ниспослании ему легкой смерти. Он часу не проводил без опасения за свою жизнь и скоро состарился, не имея возможности из-за вечного страха ни веселиться, ни плодить детей, ни, кажется, есть. Он задаривал короля подношениями, и король брал, уверяя, что никогда его не казнит, и в благодарность за то, что не казнит, Петруччо отдал королю последнее свое поместье. И тут король пожалел его худобу и бедность и, тронутый до глубины сердца, позвал его к себе во дворец, на пир, чтобы тот поел как следует, и Петруччо поел там из королевских рук яду под названием basium, что значит "поцелуй", – и умер. Его набальзамировали, как других, и он, в одежде первого министра, стоял прямо перед королевским креслом, так как высушенный горемыка был и после смерти сам не свой от страха, королевский поцелуй пришелся ему не по вкусу, он после него кривился, а королю было смешно, он находил потешной его высушенную физиономию, покрытую и после смерти идиотскими морщинами. Возле него стоял купец Франческо Капполо, упершись только пятками да теменем в стену и выпятив живот, потому что он был непомерно толстый, а после его смерти король приказал набить ему живот, чтоб толщина сохранилась. Король Ферранте сосредоточил в его руках всю неаполитанскую торговлю, он один имел право нанимать корабли, продавать пряности, описывать имущество должников, торговать вином, зерном и солью, но Капполо знал, что это значит, и чуть не со слезами упрашивал короля отпустить его на обследование филиалов в Отранте, но король слишком опасался за его здоровье и не разрешил ему опасной морской поездки, так что Капполо долго хлопотал по торговой части, пока его тоже не набальзамировали и не стали одевать по воскресеньям в лучшую одежду. Вдоль стен стояли остальные, было их сорок девять – высохших, сморщенных, и только пятидесятая мумия была живая, ползала на коленях вокруг, билась головой об пол, выла от ужаса, этой мумией был король. Потом он задел за Антонетто Петруччо, тот упал на него, глупо осклабившись, но королю его улыбка теперь уже не нравилась, он стал драться с мертвым, так что свалил на себя и толстого Капполо. Тут Альфонс вышиб дверь и, увидев эту борьбу, позвал на помощь доминиканцев. Монахи вбежали под защитой святого архангела Михаила, и в то время как один помогал королевскому сыну вытащить старика из-под навалившейся на него тяжести, другой стал кропить все вокруг святой водой и читать, стуча зубами:
– "Exorzisamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri" 1.
Но король оторвал кусок руки у Капполо и кинулся на священнослужителя, который отступил перед этим оружием, в то время как лежащий навзничь Петруччо при виде этого глупо ухмылялся. Альфонс крепко схватил отца и в конце концов, посулив богатое вознагражденье, уговорил нескольких слуг, одевавших мумии и потому привыкших к ним, помочь ему оттащить старика на постель, в спальню. Но король не хотел расставаться со своими мертвецами, он пришел в ярость, когда его потащили насильно, начал рваться обратно, в зал, и успокоился, только когда увидел, что мумии идут к нему. Тут он с довольной улыбкой стал называть их имена – по мере их появления, в то время как доминиканец, бледней бумаги в книге, которая была у него в руках, продолжал кропить вокруг святой водой и читал дальше:








