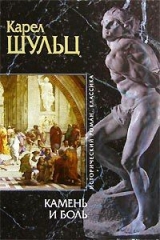
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц)
Мертвый Джакомо мстит Флоренции. И от этой мести не будет спасения, пока ее не уничтожат теми самыми средствами, которыми она пользуется. Каноник Маффеи ничего не советует, ни к чему не побуждает, ничего не затевает. Но ему многое ведомо. И он – не оязычившийся платоник, он не твердит, что Платон – это Моисей, говорящий по-гречески, он – не священник-философ, как многие другие. Он говорит просто и понятно. Говорит народу. И вот однажды ночью выкопали труп Джакомо Пацци, который не верил в бога, и устроили процессию. Понесли тело под потоками дождя на голых досках, без покрова и свеч, на каждой остановке поворачивая его лицом к одной из четырех стран света, поворачивая во все стороны – туда, где дождь хлестал посевы. Толпа тянулась сзади длинной процессией, и вода, падавшая сверху, была не менее гнилостной, чем та, что разлита по земле. Тело пронесли мимо всех ворот, мимо дворцов и церквей, в темном слиянии ночи и дождя, наконец, подошли к Арно с его размытыми берегами. И, маленько погодивши, чтоб то, что чернело на досках, впитало как можно больше воды, выкинули все это в кипучие волны реки. Утром дождь перестал. Благодарственная процессия была очень торжественная.
Леонардо да Винчи видел это. Теперь он сидит, погруженный в свои мысли, сжав голову обеими руками; за высокими окнами май, и в воздухе разлиты все его ароматы, песни и поцелуи, и любопытно то, что в мае у ароматов, песен и поцелуев другой вкус, чем в апреле или в июне, – но он об этом не думает. В его этюднике есть зарисовка повешенного Бандини, при чьей казни он присутствовал, скрытый в толпе. Иначе он не мог. Он любил его больше, чем кого-либо, но иначе не мог. Он должен был зарисовать его, покачиваемого ветром, и, кроме того, точно описать, как тот был одет: огненно-желтый берет, куртка черного атласа, черный подшитый плащ… Он не мог иначе, сам не понимая и не постигая – почему. Так холодно он не смотрел до сих пор ни на кого, как на этого мертвого, которого так любил, – так холодно и деловито, от всей их дружбы остался только вот этот рисунок, эти штрихи и изогнутые линии искаженного безумным страхом и ужасом лица… И при этом сердце сжимается в мучительной судороге, так что все замирает в великом молчанье. Он любил Бандини и любовался стилем его жизни. И вдруг все исчезло, и он стал рисовать его так холодно, точно, внимательно и бесчувственно, словно лицо первого попавшегося казненного разбойника с большой дороги. Любил он и Джакомо да Пацци, который был несчастен и красив. Сколько ночей провел он в разговорах с Франческо Рустичи, Аньоло ди Поло и остальными из мастерской Верроккьо, но ближе всего был с Джакомо Пацци, который говорил своим страстным, горячим голосом: "И если б тот, другой, вдруг передо мной расплылся, я никогда бы не поверил, что это была просто галлюцинация, конечно, продолжал бы что-то говорить ему и прошло бы немало времени, прежде чем я услышал бы свой собственный голос, оторопелую речь ни к кому…" Леонардо сжал руками виски, устремив долгий, неподвижный взгляд в пространство… Я рассказываю о себе призракам, а их нет передо мной: это опять я. Обращаюсь к себе – и никто мне не отвечает. Жду самого себя, как другого человека".
Скоро я уезжаю из Флоренции. Лоренцо Медичи посылает меня в Милан, к герцогу Лодовико Моро. Я написал ему, что умею все: ставить легчайшие мосты, удобно переносимые с места на место и в то же время очень прочные; монтировать огнедышащие бомбарды, делать камнеметы, против которых не устоят никакие укрепления, рассчитывать проекты каналов и проводить винтовые дороги, которые можно вести и под реками… Милан. Но я даже не заикнулся о том, что я – художник. Узнают. И притом – ужас перед неизвестным. В детстве я видел сон, который теперь все время повторяется. Я шел между скалами и пришел ко входу в пещеру. Наклонился туда – в глазах потемнело. Таинственные твари, видения, краски, созданные атмосферой. И рев серного пламени, с силой вырывающегося из огненного зева… Он встал, чтобы продолжать свои мысли в другом месте. Мне двадцать семь лет. О спящий! – говорю себе. – Что же ты не создаешь такого произведения, которое и после смерти оставит тебя в живых?
Он пошел по Виа-Гибелина, где находился дом его отца, адвоката Синьории. Почему он едет именно в Милан, почему не в Рим? Сикст как раз вызвал туда моего друга Перуджино, чтоб он, вместе с Боттичелли и Синьорелли, расписал там капеллу, поставленную Сикстом в честь Непорочного зачатия девы Марии, в которое он верит, и капелла названа по его имени Сикстинской. Перуджино зовет меня с собой. Я мог бы только писать и писать… но нет, еще не могу, не могу еще, еще надо много узнать, много выведать, измучить дух свой неустанным исследованием, искусство без познания лишено смысла, но когда познаю я? Все такие мертвые мысли, уносимые течением, как были унесены останки моего дорогого Джакомо, который верил в дьявола. Вечный соблазн падения! Под каким созвездием я рожден? С какой гордостью тот раз, как началось все это с Пацци, рассказывал мне старый Буонарроти, по пути на кровавую мессу, о своем маленьком Микеланджело, родившемся, когда Меркурий сочетался с Венерой под властью Юпитера. Это предвещает великие дела, сказал тогда Буонарроти. Что это за великие дела? Найду я их в Милане? А может быть, нашел бы в Риме? Нет, в Риме – нет, папа Сикст, после гибели Пацци, грозен ко всем приезжающим из Флоренции, и в Риме живется все время, как в военном лагере…
В Риме жизнь шла все время, как в военном лагере. Старик, с лицом, изборожденным морщинами от забот, молился и замышлял новые войны. Медичи отпустил Рафаэля Риарио, который вернулся бледный, и бледность эта останется навсегда. Порой она оливковая, порой пепельная, но всегда видима. Он ею отмечен.
После его возвращения из узилища старый Сикст принял его во главе Святой коллегии. Терзаемый гневом, он завязал переговоры даже с неаполитанским отверженцем, который, скорчившись в высоком кресле, сидит, сутулый, в зале, уставленном его набальзамированными жертвами, и слуги его по воскресеньям переодевают их в праздничные одежды, так как и он празднует день господень.
Это должно было означать конец Флоренции. И тут Лоренцо Медичи один, без эскорта и без оружия, без парламентеров, вступил в Неаполь и вошел в зал, где подстерегал старик. Вся Италия вздрогнула, до тех пор ни о чем подобном среди правителей не было слышно. А вышел он оттуда, подписав с Неаполем мир. И на этот раз прозвище его "иль Маньифико" разнеслось по всей стране, – иначе никто его больше не называл. Нет, я уже старый человек, а ни один из моих замыслов не удался… Другая западня была лучше. Я договорился с самими предателями-венецианцами и снарядил поход против Феррары, против рода д'Эсте. Кто в наши дни овладеет Феррарой, тот будет хозяином Италии. И тут опять Лоренцо пустил в ход свои коллекции и свои беседы с платониками и, не успел я оглянуться, помирил Феррару с Венецией. Эти вечные предатели венецианцы – и он, Медичи! В Кремоне я созвал съезд против Венеции и развязал войну, которая уничтожит их навсегда. Выступили все мои союзники, развратный город на волнах не устоит против такой мощи.
А в тот день, когда старик услышал, что Лоренцо Маньифико, чтоб опять свести на нет все усилия папского семейства к овладению Италией, созвал воюющие стороны на переговоры в Баньоло и они послушались, Сикст слег. Нет, этого не должно быть… Мне ничто не удается, все ждут не дождутся моей смерти. Венецианцы устроят, конечно, праздничный карнавал, я всеми оставлен, все ждут моей смерти, и если я умру, страшные силы вырвутся на свободу во всем Риме…
Все ждали его смерти. Как только промелькнуло известие, что папа умирает, папское войско вышло тяжелым шагом на улицы. Джироламо Риарио поспешно приказывает поднять мост замка Святого Ангела и забить снаряды в дула его пушек. Вирджинио Орсини зовет к оружию. Папа умирает. И вот уже Колонна бьются с Савелли и оба непримиримых кардинала – Джулиано делла Ровере и канцлер церкви Родриго Борджа постепенно укрепляются каждый в своем дворце. Члены Святой коллегии через гонцов вызывают свои войска в Рим. Умирает папа. Все мосты под охраной. Лавки опустошаются, так как жители спешат делать запасы. Сотня солдат стоит перед базиликой св. Петра с фитилями у мушкетов наготове. Ведь умирает папа. Делла Валле уже выступили с шайками, вооруженными до зубов, и бьют папских солдат на Пиццо-ди-Мерло, защищая свой фланг от Орсини, ведущих огонь с Монте-Джордано. Потому что делла Валле в страшном нетерпенье. За год до того, как раз в страстной четверг, они на одной из римских площадей затеяли драку с семейством Кроче. Вскоре драка перешла в настоящую битву, и тщетно францисканские проповедники с крестом в руке бросались между рядами сражающихся противников. Кровавая битва продолжалась всю ночь напролет – до полудня страстной пятницы, и тут Сикст Четвертый, поднявшись на престол, произнес свой грозный суд. В знак гнева божьего он приказал прекратить на этот день все приуроченные к страстной пятнице богослужебные обряды, и были заперты двери всех римских церквей, а перед порталами их плакал народ. И вышли отряды папских воинов, а при них – нанятые рабочие с кирками, мотыгами, молотами, и к вечеру роскошный дворец делла Валле был разрушен и обращен в развалины. Теперь сторонники делла Валле бьют ватиканских солдат, расставленных на Пиццо-ди-Мерло, а Орсини готовят вылазку от Монте-Джордано. Пятьсот солдат уже сожгли знамя и, объявив себя свободными, захватывают дома и дворцы на Эсквилине. Римские бароны поставили у своих ворот вооруженных слуг. Умирает папа. Ружейная трескотня доносится уже от Понте-Систо. А Джироламо приказал палить из пушек по замку Святого Ангела. Тяжко загудели ватиканские окна. Сикст приоткрыл глаза и услышал битву и молитвы. Священники длинными рядами стояли, коленопреклоненные, у его постели; битва кипела на улицах. Веки его снова сомкнулись. Значит, все бушует битва с венецианцами – с городом, попирающим интердикты, отравившим дорогого Пьера и подстрекавшим султана Магомета вторгнуться в Италию. Нынче ровно три года… Двенадцать тысяч христиан было убито в Отранте, на итальянском берегу, десять тысяч продано в рабство, архиепископ и остальные священники живьем распилены пилой, волна ужаса прокатилась по Италии, и я сам приказал, чтобы мне приготовили дворец в Авиньоне… Вот что сделали венецианцы: турка позвали против меня! Над такими христианами ты меня поставил пастырем, о боже…
А Лоренцо Медичи толкует о равновесии сил! Идет война и будет идти! Я укрощу их мечом, если они не послушаются слова духовного, обрушу гнев свой на их твердыни, сокрушу их…
Покрытому пылью и замученному ездой гонцу пришлось подойти к самому папскому ложу, как было приказано. И он, встав на колени перед умирающим архипастырем, дрожащим голосом сообщил новость. Лоренцо Медичи, решив установить спокойствие в стране, помирил воюющие стороны, союзники папы отпали, и в Баньоло подписан мир…
Тут сердце папы сжалось такой ужасной судорогой, что он, выпучив глаза, поспешно стал искать взглядом, на чем бы его остановить. Перед ним было распятие в руках духовника, и вот, глядя на тело, измученное и повисшее на гвоздях спасения, он испустил последний вздох. И колокола, колокола, колокола по всему Риму, под гул битвы и пушек, возвестили о том, что папа умер.
КАМЕНЬ ГОВОРИТ
Мальчик и монах сидели на крыльце, глядя на темнеющую окрестность. Монах держал руку мальчика в своих загрубелых нищенских ладонях, полон доброго желания рассказать о чем-нибудь еще. Он уже рассказал о том, как славный синьор, святой синьор Франциск велел горлицам никогда не улетать из монастыря, как он ездил обращать султана вавилонского, как видел монастырь, окруженный дьяволами, как святой брат Джинепро варил для святой трапезы кур прямо с перьями, – обо всем как есть рассказал и теперь задумался.
– Еще… – попросил мальчик. – Еще о том, как святой синьор Франциск укротил злого волка из Аггобии.
Но тут старый монах испуганно замахал рукой, так что рукав его отрепанного подрясника, развеваясь во все стороны, разогнал слова мальчика.
– Что ты, что ты! – сердито промолвил он. – Нипочем не стану!
Мальчик с удивлением поглядел на его гневное лицо. Старичок встал, чтоб уйти, – с таким видом, будто страшно оскорблен, можно сказать, на всю жизнь.
– Нет… нет… – дрожащим голосом жалобно прошептал он. – Не ждал я, что ты тоже так ко мне отнесешься, Микеланджело…
– Фра Тимотео! Фра Тимотео! – испугался мальчик, так крепко схватившись за подол монашьей одежды, что одна заплата треснула и высунула свой длинный тряпичный язык. – Фра Тимотео, не сердитесь! Я не знал, что вам будет неприятно!
– Ну да, – укоризненно промолвил старичок. – Да к тому ж еще подрясник мне разорвал. Братья в монастыре скажут: "Опять фра Тимотео с озорниками дрался". Ни минутки я у тебя не останусь, ни минутки, и обещанного ужина ждать не стану, нет… нет!.. – ворчал он с раздраженьем…
– Фра Тимотео! – плаксиво вскрикнул мальчик, меж тем как от дрожащей руки его дыра в подряснике расползалась все шире. – Я не хотел сказать ничего плохого… Это меня Франческо надоумил… Ежели, говорит, фра Тимотео опять начнет что-нибудь тебе рассказывать, попроси – чтоб насчет злого волка из Аггобии рассказал!
– Да! Все вы безобразники! Вот пожалуюсь магистру Урбино, чтоб он вас обоих выдрал, – потешаетесь над стариком, да еще вон подрясник мне рвешь. Скажет братия в монастыре: "Напился наш фра Тимотео, в канаву упал, вот и вернулся рваный такой". Но я расскажу, я не дамся, перед всей трапезной так и скажу: это мне Микеланджело Буонарроти устроил, оттого что безобразник! Вот увидишь, скажу! Думаешь, нет? Да не то что перед трапезной, а перед целым собором выложу…
– Фра Тимотео! – мальчик, отпустив подрясник, сжал руки. – Я больше не буду, никогда больше не буду спрашивать о злом волке из Аггобии!
– Это было великое чудо! – тихо, серьезно промолвил старичок. – Но никто во Флоренции не заслуживает, чтоб об этом рассказывать, никто!..
Он провел дрожащей рукой себе по лицу, и вот гнев его уже упал в дорожную пыль. В уголках поблекших губ заиграла добродушная улыбка.
– Так, значит, тебя надоумили! – промолвил он. – Франческо Граначчи, приятель твой, надоумил! Стыдно! Очень стыдно!
– Простите меня, фра Тимотео. – В голосе мальчика – мольба и слезы.
Из дома донесся запах похлебки со свининой и еще чего-то аппетитного. Ноздри у монаха слегка затрепетали. Спустился мягкий, ласковый вечер, небо стало лиловым. Был тот час, когда ласточкам уже скоро пора спать, и, как только сумрак сгустится, первые летучие мыши закружат над окрестностью, чертя свои чародейные знаки на стене темнот.
– На этот раз, так и быть, прощу, – тихо сказал монах. – Потому что тебя подбил этот негодный Граначчи и ты действовал без дурного умысла, но ты должен исправиться, Микеланджело, ты должен исправиться…
Обрадованный парнишка вложил опять свою маленькую руку в загрубелые ладони монаха. И оба опять замолчали, глядя на окрестность. Вечерние благоуханья поплыли из садов, и кипарисы сменили свой грустный сон на золотой. Мир шел по окрестности и сумеркам, звеня. Если бы старик и мальчик нагнулись, чтоб сорвать цветок, они тотчас узнали бы, что теперь это только тень. Руки каждого из них восприняли бы это по-разному. Тень отбрасывала другую тень, так что их полно вокруг, это сад теней, и с благовонных лугов веет вечерним холодом. Отовсюду наступал глубокий, величавый мир, как бы совершая какое-то великое, святое дело, и в нем была сладкая и спокойная тишина для звона, молитвы, любви и снов.
– …тогда святой синьор наш, – тихим, страстным голосом говорил старый монах, – шел по снегу, в великую стужу, с братом Львом и так говорил ему: "Брат Лев, овечка божия, если б минориты всегда показывали пример святости, если б они возвращали зрение слепым, речь немым, если бы воскрешали мертвых и изгоняли бесов, если б ведали они все глубокие тайны земли и звезд, и все науки, и говорили всеми языками ангельскими, все же – запиши себе и хорошенько запомни – нет в том истинной радости. И даже если б они обратили в святую веру всех язычников и всех неверующих и заставили бы покаяться всех грешников на свете, – опять запиши и запомни хорошенько, – нет в том истинной радости". И тут брат Лев, овечка божья, с великим удивлением обратился к святому синьору нашему Франциску, говоря: "Прошу тебя, отче, во имя божье, скажи мне, в чем же тогда истинная радость?"
Тут голос старика дрогнул, и слеза медленно покатилась по тропкам морщин, по щекам, коричневым, как из обожженной глины. Жесткая, высохшая рука его сильно сжала руку мальчика.
– Знаешь, что сказал наш святой синьор? Что ответил он на вопрос о том, в чем истинная радость? Сколько народу уж об этом спрашивало, не было человека, который бы этим вопросом не задавался, потому что каждое живое существо, паренек, хочет это знать, каждое сердце просыпается к жизни и умирает с этим вопросом. Спрашивали об этом бедные и знатные, князья и папы, нищие и монархи, и мореплаватели заморские, и тот крестьянин, что копал нынче поле вот здесь, перед нами. Много книг по этому вопросу написано, но ни одна не дала ответа. А святой синьор наш Франциск сказал тогда брату Льву: "Овечка божия, если б, когда мы сегодня, голодные и холодные, придем к воротам монастыря, привратник гневно прогнал бы нас, как двух бродяг, зря по белому свету шатающихся, и, в ответ на новые наши мольбы и просьбы, повалил бы нас в снег, и крепко поколотил, и палкой костылял бы, пока бы из сил не выбился, и потом, избитых, окоченевших и до смерти голодных, выгнал бы нас опять на снег и мороз, а мы все снесли бы не то что терпеливо, а с великой любовью, вот тут, – запиши себе и запомни хорошенько, – в этом и есть истинная радость!"
Монах замолчал. Устремил взгляд в пространство, и окрестность как бы расступилась перед его взглядом, окрестность была лишь вратами для чего-то большего, чем только картина вечера.
– Оттого что, – горячо прибавил он, – все, что мы имеем, от бога имеем, и нам нечем хвалиться. Одними только скорбями, печалями и обидами хвалиться можем, оттого что только это имеем сами, это – наше. Потому сказал апостол: "Я не желаю хвалиться, разве только крестом господа нашего…"
Он опять умолк и, казалось, даже забыл о мальчике.
– Меня тоже часто бьют, – промолвил вдруг парнишка.
Монах не слышал.
– Меня всегда бьют палкой, – повторил тот.
Только тут до сознания старичка дошло.
– Что ты сказал?
– Бьют меня, – повторил мальчик еще раз.
Монах изумленно всплеснул руками, так что рукава подрясника взметнулись и упали.
– Что ты говоришь?! – воскликнул он. – Кто же тебя колотит? Братья?
– И они тоже, – кивнул паренек. – Но, главное, папа и дядя.
– Ишь ты, ишь ты… – удивился монах, и морщины на полном сочувствия лице его засмеялись еще больше. – А мама?
– У меня две мамы, – серьезно ответил мальчик. – Одна на небе, а другая, на земле, – не бьет никогда.
– Так, так, – промолвил монах. – Одна мама, монна Франческа, у тебя померла…
– Да, – подтвердил мальчик. – И папа взял себе другую.
– Монна Франческа requiescat in pace 1, – тихо произнес монах.
1 Да покоится в мире (лат.).
– Amen, – сказал парнишка, важно перекрестив себе лоб, рот и грудь, как учила ее рука.
– Но другая твоя мама, монна Лукреция, ведь очень строгая… – сказал монах.
– Да, но только к дяде!
Тут старичок не выдержал, залился мелким смешком – от всего сердца, так что на глазах слезы выступили. Он старался приглушить свой смех, прижав ко рту широкий рукав подрясника, но смех вырывался сквозь прорехи, дыры и разливался по всей фигуре монаха, все на нем смеялось – и подрясник, и сандалии, и тонзура стала похожа на веночек смеха.
– Что ж тут смешного? – с укоризной промолвил мальчик. – У нас часто бывает очень скверно…
Монах замахал руками и хотел что-то сказать, как вдруг за спиной у них послышался новый голос.
– Что это вы так смеетесь?
В дверях стояла монна Лукреция, раскрасневшаяся у очага, с обнаженными полными руками и высоко поднятой головой в тяжелой короне черных волос.
Старичок испуганно закашлялся, кидая умоляющие взгляды на мальчика.
– Я люблю монахов, которые смеются, – продолжала монна Лукреция. Идите ужинать. Только зачем рассказываете вы мальчику такое, как последний раз? Муж очень на вас сердился, оттого что мальчик всю ночь бредил. Больше никогда не рассказывайте ему о шести посрамленьях дьявола.
– Фра Тимотео рассказывал мне, что такое истинная радость, – возразил мальчик.
Они уже были почти в дверях, но монна Лукреция в изумленье остановилась и удивленно промолвила:
– Вы это знаете? А я думала, этого не знает никто на свете. Так что же такое истинная радость, фра Тимотео?
– Это боль, – серьезно ответил парнишка.
Монна Лукреция посмотрела на него.
– Что ты говоришь?
– Да, да, – кивнул парнишка. – Фра Тимотео объяснил мне, что это боль.
Монах торопливо замахал руками.
– Это неверно! – воскликнул он. – Я говорил о нашем святом синьоре Франциске…
– Может быть, мальчик прав, – перебила она.
Монах кинул на нее быстрый испытующий взгляд. Она это заметила и мгновенно вспыхнула от смущения.
– Иногда, – прибавила она, – радость бывает так сильна, что ее не отличишь от боли. На самом деле больно. Но вы не обратили внимания, фра Тимотео, с каким странным выражением произносит мальчик слово "боль"?
Освещенный прямоугольник двери резко выступал на фоне погруженной в сумрак окрестности. В помещении было душно. Несколько свечей горело на железном круге под потолком, другие стояли на низком камине. Семья сидела за столом в ожидании молитвы и ужина. Во главе стола – двое: Франческо Буонарроти, меняла, и брат его Лодовико Буонарроти, бывший подеста в Кастелло-ди-Кьюзи и в Капрезе – неподалеку от Сассо-делла-Вериа в Аретинской епархии, где на горе Альверно святой Франциск смиренно принял святые стигматы. У обоих братьев вид серьезный, хмурый, так как дела идут неважно; к тому же у них шел спор о политике, и устранить разногласия не удавалось. Франческо был того мнения, что нужна более сильная рука, чем у Лоренцо Маньифико, а Лодовико против этого возражал, и разговор его с братом становился все резче и ожесточенней. Лодовико привел в качестве примера Милан, где даже днем на улицах небезопасно и выходить из дому можно только в сопровождении слуг. А Франческо как раз с Миланом вел выгодные денежные операции и потому стал решительно это оспаривать. Тогда Лодовико упомянул Венецию, город просто чудовищный. На это Франческо, только что получивший из Венеции все, что причиталось ему по векселям, торжествующе сослался на жителей Сиены, которые обратились как раз к Венеции за помощью, чтоб установить у себя мир. Тут Лодовико сделал такую презрительную физиономию, что Франческо вышел из себя и придал словам своим об оплаченных и неоплаченных векселях столь ядовитый привкус, что Лодовико понял их, как камень в его собственный огород. Но он отбросил этот камень важным и сдержанным жестом, как предмет, не относящийся к делу, и заметил, что уж Феррара, во всяком случае, никуда не годится. Тут Франческо, ударив кулаком по столу, объявил, что не потерпит, чтоб за этим столом, где он хозяин, оскорбляли его деловых друзей. Но ссора сразу утихла, как только послышалось слово "Рим". Они перешли на шепот. Кончилось время Сикста, теперь христианством правит Иннокентий Восьмой, союзник Флоренции и друг Медичи. Лоренцо Маньифико как раз ведет с ним переговоры о кардинальской шапке для сынка своего Джованни, который, достигнув семилетнего возраста, получил священническую тонзуру и с ней – богатое аббатство, одновременно с титулом папского протонотариуса. Теперь, уже девятилетний, он поставлен архиепископом в Эксе, во Франции, и само собой ясно, что мальчика вот-вот нарядят в кардинальский пурпур. И не только это. Лоренцо Маньифико укрепляет свои связи с папским престолом еще иначе, не одной только молитвой да кардинальской шапкой для сына. Он выдает дочь свою, княжну Медичи, прекрасную Маддалену, за карточного мошенника Франческо Чибу, папского сына. Обстановка в Риме, при понтификате Иннокентия, ужасная, но об этом во Флоренции теперь только шепчутся: Рим теперь – верный союзник республики.
Оба приблизили друг к другу головы. О римских обстоятельствах говорят уже с презрением по всей Европе. Город и его окрестности кишат наемными убийцами; богомольцы и путешественники подвергаются нападениям, целое посольство императора Максимилиана у ворот Рима было ограблено и оставлено на смех в одних рубашках, многие посланники европейских государей возвращаются с полдороги, будучи не в состоянии прорваться к Вечному городу сквозь кольцо разбойничьих шаек…
– А теперь ввел налог на убийство! – шепнул Лодовико.
– Кто? Папа? – изумился Франческо и, услышав о деньгах, поспешно потребовал дальнейших подробностей.
Лодовико принял важный вид. У бывшего члена Коллегии двенадцати много друзей среди высших чиновников республики; что им известно, то и ему.
– Да, папа, – важно выкладывает он. – Самый страшный злодей может теперь купить в Риме безнаказанность, коль уплатит за свое злодеянье установленный налог. Рим полон амнистированных убийц, и папа время от времени расставляет западни, куда снова попадутся новые злодеи, способные хорошо заплатить. Сикст продавал одни кардинальские шапки да индульгенции, а Иннокентий продает алтари, божьи заповеди…
– И все это плывет в карманы папского сына Франческо Чибе? – спросил Франческо.
– Не все. С каждого штрафа сто пятьдесят дукатов отчисляется в папскую казну, а уж остальное идет Франческо Чибе, карточному мошеннику…
– Выходит, у Маддалены Медичи богатый жених, – ехидно засмеялся Франческо.
Но это уж не годится. Лодовико не мог терпеть, чтобы кто-нибудь потешался над Медичи, будь то его родной брат. Опять поднялась свара. До сих пор Лодовико с достоинством отражал атаки Франческо. Да, Франческо – хозяин этого стола, зато он, Лодовико, – продолжатель дворянского рода, древнего рода, рода, который флорентийские хроники ведут с двенадцатого века, рода, имеющего свой герб, рода, праматерью которого была Беатриса, родная сестра императора Генриха Второго. Это, правда, не доказано и обосновать фактами было бы трудно, но в вопросах о дворянстве все-таки всегда нужно немножко верить преданиям. У Франческо нет детей, брак его бездетен, тогда как я, я дал нашему роду пять сыновей, пять новых ветвей славного дворянского рода, рода с гербом. И, ободренный этой мыслью, Лодовико уязвил брата, проклинающего Медичи от ихнего основателя Джованно Вьери Бичи до Лоренцо Маньифико, коварным замечанием:
– Правитель Лоренцо разумно поступает, заботясь о своих детях. Древние семейства как раз теперь не имеют права вымирать, и каждый член древнего рода, которому бог дал счастье быть отцом, обязан стараться о продолжении рода и о будущей его чести.
Франческо сжал кулак, который на этот раз не ударил по столу. Раненный, он не застонал, но укрылся в продолжительное молчанье. И потом только выпустил острую стрелу:
– А ты стараешься?
– Я дал роду пять сыновей! – гордо ответил Лодовико.
Мудрая старушка монна Лессандра оказалась права. Это устроилось, и не было надобности во внебрачных. Но после пятых родов Франческа умерла в возрасте двадцати шести.
– Я дал роду пять сыновей… – повторил он, счастливый и надменный.
"Стараешься?!"
На этот счет Лодовико мог бы многое сказать, но голос его заглушен новой вспышкой Франческо.
Все они – негодяи, а хуже всех Микеланджело. Если кто из них принесет роду бесчестье, так это будет Микеланджело, отпетый, настоящее исчадье ада…
В эту минуту в комнату вошла монна Лукреция с монахом и мальчиком. Все трое почуяли бурю. Дети, съежившись на скамье, совсем притихли.
– Когда я выходила, вы спорили о политике, – спокойно сказала она. – А теперь о чем?
– Много будешь знать…
– "Oculi omnium…" 1 – испуганно стал читать молитву перед вкушением пищи старый монах, словно заклиная бурю.
1 "Очи всех…" (лат.)
Но он не знал латыни, и чтенье его получилось таким шепелявым, шамкающим, странным, что совсем не напоминало латинский язык. Несмотря на это, он читал медленно, вдумчиво и горько сожалея, что в самом деле не знает латыни, а то мог бы повторить эту молитву с начала, и никто бы этого не узнал, и таким образом он выиграл бы время, и еда бы остыла, но остыл бы и гнев, и лучше спокойно поесть холодненького, чем прямо с пылу, с жару. Но молитва не может не кончиться, и все садятся, стуча ложками. Фра Тимотео, улыбаясь, вылавливает куски мяса, с наслажденьем чавкая. О чем бы завести речь, чтобы здесь поселился мир? О побежденных искушениях святого брата Илии? Это прекрасное, великолепное, развитое, исполненное серафимского огня повествование? Ну да, то самое…
– Ты! – вдруг указал пальцем Франческо Буонарроти на одного из мальчиков. – Кем ты будешь?
– Менялой, – покорно ответил двенадцатилетний Лионардо.
– А ты?
Палец нацелен прямо, не увильнешь.
– Менялой.
У восьмилетнего Буонарроти ответ всегда наготове, в карман лезть не надо.
– А ты?
Палец передвинулся немножко дальше.
– Менявой, – лепечет шестилетний Джовансимоне с набитым фасолью и салом ртом.
Четырехлетнего Джисмондо палец не вопрошает, так как ответ сам собой ясен. Но теперь он направляется медленно и коварно к мальчику, пришедшему под конец.
– А ты, Микеланджело?
Мальчик наклонил голову над тарелкой, глаза его налились кровью, последний кусок стал поперек горла. Франческо Буонарроти, положив ложку, кинул вокруг победоносный взгляд.
– Знаете, кем будет наш Микеланджело? Живописцем он будет, художником, бродягой и лодырем, будет шататься и выклянчивать работу по монастырям и княжеским дворам, позором всего нашего рода будет Микеланджело, папенькин любимец!
Монна Лукреция вспыхнула, и резкие слова ее разлетелись во все стороны, как искры из очага. Но Франческо не уступал. Слышать он не желает ни о каких Донателло, Брунеллески, Верроккьо и всех прочих! Сколько лет пришлось каждому из них есть хлеб презрения и нужды, хлеб, скуднее нищенской корки! Искусство? Нынче оно в моде, а завтра что, когда люди опамятуются? Что ж она указывает на Боттичелли, а забывает о Мазаччо, который помер в Риме, голодный, как бродячий пес? Отчего говорит о благочестивом Гирландайо, а молчит о кармелите Фра Липпи, который обесчестил свою модель, монахиню Лукрецию, когда писал с нее святую мученицу Маргариту, соблазнил молоденькую монашку и бежал с ней, живописец-кармелит, а когда папа Евгений, по-прежнему восхищаясь его произведениями, предложил ему освобожденье от всех обетов, чтоб он мог хоть жениться на той, которую совратил, монах пренебрег, и продолжал жить с монахиней, и прижил с ней сына, тоже художника… И этот человек писал сладких мадонн с локонами, с ангельским выраженьем глаз, с лицом, полным невинности и дивной небесной красоты… Бросьте толковать мне, Франческо Буонарроти, о святых образах, написанных нечистой, кощунственной рукой, я отвергаю это искусство, порожденное обителями гулящих девок и правителями-прелюбодеями, искусство, созданное людьми с душой отверженцев, людьми, взбесившимися от разврата и самых страшных злодеяний, я – человек порядочный и не могу молиться на изображение Христа, нарисованное кем-то, о ком я знаю, что он привержен блуду мужеложства! Нет, лучше я, по примеру святых пустынников, сам нарисую себе распятие, чтоб на него молиться, а вы молитесь на те и ставьте их хоть в алтарь, – это будет с вашей стороны одно богохульство, а не прославленье господа! И вечно одни и те же темы, набившие оскомину! Мадонна с младенцем, рождество Христово, поклонение волхвов, тайная вечеря – и кончено! Ничего такого, что говорило бы мне об открытии, которое художник сделал при помощи молитвы, а не одной только кисти!.. Язычникам на престоле и продажным монахам, философам в пурпуре и монахиням монастырей, из которых каждый – дом терпимости, всем им пришлось по вкусу это искусство красивых лиц и красивых красок, искусство без благочестия, без молитвы, без душевного смирения… Бог это видит! До сей поры он всегда отмечал чудесами своими простую ремесленную икону, какой-нибудь дорожный образок, перед которым можно излить душу в умиленных молитвах, но до сей поры я никогда не слышал, чтобы стала чудотворной картина Фра Липпи; или Леонардо да Винчи, или кого бы то ни было из этих ваших художников… Язычники они все и нехристи, алчущие одних только почестей, славы и денег, упивающиеся наслаждением непотребства. Но кары божьей не миновать! Теперь кара божья – единственная надежда моя. Грозная и справедливая кара божья, которой не отвратят все эти святые картинки, пусть самого искусного письма!..








