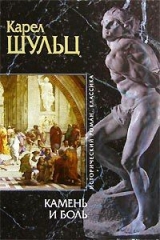
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
Микеланджело опустил голову на руки, положенные на стол, и стал пить свою усталость, как темное вино, волнующее ему кровь в жилах. Ах, как он нынче устал! И эта глубокая, прекрасная, ночная тишина… Он взял и погасил все свечи.
Только поняв, что это не сон, а на самом деле кто-то стоит за дверью и колотит в нее, желая к нему войти, почувствовал он, как ночь глуха и как он одинок. Удары следовали один за другим. Дрожащей рукой он опять зажег свечи и тревожно взглянул на щеколду, которая дрожала мелкой дрожью. Пробуждаясь от усталости, как от мертвого сна, он старался сообразить, кто может так поздно ночью к нему прийти. Вернулся Никколо? Или это кто из братьев? Не случилось ли чего со стариком отцом? Или Сангалло, либо кто из его слуг? Но все они подали бы голос, назвали бы себя, а этот таинственный ночной посетитель молчит, стоит в темном коридоре и добивается, чтоб впустили, только быстрыми сильными ударами. Ночь нависла, как черный свод. Под ним горит только вот эта свеча на столе. В низкое окно дышит холодная тьма. Опять застучал. Ночной посетитель таинствен и настойчив. Микеланджело встал, бледный, настороженный. Засветил еще одну свечу и, подойдя с ней к двери, быстро отодвинул щеколду.
– Входите! – резко промолвил он.
Дверь неслышно открылась, и Микеланджело невольно вскрикнул.
Вошедший слабым движеньем руки опустил капюшон своего черного плаща и повернул лицо к свету свечи. Это был Леонардо да Винчи.
Несколько мгновений длилась тишина. Оба глядели друг на друга, и свет двух свечей дрожал между ними. Первый заговорил Леонардо.
– Вы меня не приветствуете, Микеланджело? – тихо спросил он.
Микеланджело показал на грубое кресло у стола, а сам сел на лавку по другую сторону.
– Не знаю, – заговорил он хрипло, и голос его дрожал, – как надо приветствовать тех, кто приходит ночью. У меня не бывает ночных посещений. Я всегда один.
– Человек, который всегда один, имеет как раз больше всего ночных посещений. И я… Мы будем друг с другом вполне откровенны, да, мессер Буонарроти? Потому что я именно затем и пришел. Вот вы меня нынче вечером оскорбили при этих купцах, да, оскорбили, – не знаю почему: ведь в словах моих не было решительно ничего, что могло бы дать вам повод для этого. Вы, видимо, переутомились и находитесь в раздраженном состоянии, не владеете собой. Но я пришел не затем, чтобы потребовать от вас извинений или объяснений.
– А зачем же?
Микеланджело услышал в своем собственном хриплом голосе страх. Беспокойно забегал глазами по холодному лицу Леонардо, которое при свете свечей казалось еще бледней и морозней, чем обычно. Удивление, вызванное этим ночным посещением, превратилось в испуг. Леонардо сидел против него с таким видом, словно пришел с каким-то страшным поручением, с чем-то грозящим разрушить его жизнь, изменить его путь. Сидел тихо, как статуя из тьмы у ворот из тьмы, которые раскрываются только в другую ночь, где бесполезно будет ждать рассвета. Руки его лежали неподвижно, как чужие руки на чужом столе, и взгляд его был проникновенный и печальный. Микеланджело встал, чтобы завесить оба мраморные рельефа, но остановился и голосом, на этот раз резким, повторил свой вопрос:
– Зачем вы пришли?
– Чтоб договориться…
– О чем? Я не слыхал ни о каком новом заказе…
– Вы на самом деле думаете, что я прихожу только за этим? Но речь у нас с вами не о будущих заказах… вы не хотите меня понять?
– Договориться! Вы – что? Пришли сказать мне, что Флоренция для нас двоих мала?
– Я думаю, – холодно возразил Леонардо, – что весь мир мал для нас двоих.
Микеланджело прошел поперек комнаты и остановился у дальнего простенка.
– Вот для чего пришли? – прошептал он. – Что вы этим хотите сказать?
– Нам надо либо стать открыто врагами, – ответил своим спокойным, невозмутимым голосом Леонардо, – либо заключить вечный мир. Но не можем мы, мессер Буонарроти, жить рядом, все время друг друга подстерегая, в то же время притворяясь друг к другу равнодушными. Я за мир. Потому что если мы начнем друг с другом бороться, так не перестанем, пока один из нас не будет сражен и пока какой-нибудь правитель или папа на великой арене нашей борьбы не укажет поверженному пальцем дорогу вниз, в ад. Вы хотите доставить миру это зрелище?.. Вот почему я пришел.
– Вовсе не хочу… мне в голову никогда не приходило, – сказал Микеланджело. – Я не знаю… с какой стати нам вступать в борьбу… мы ведь идем каждый своей дорогой…
– Мессер Буонарроти… – рука, поднявшись над столом, прервала дальнейшую речь Микеланджело небрежным, усталым мановеньем, – будем друг с другом откровенны. Я уже старик и видел на своем веку столько лжи, притворства и обмана, что даже заболел тоской по искренним словам, и от вас жду теперь… не будем ничего скрывать… не будем притворяться. Сейчас ночь. Будем говорить иначе, открытей и правдивей, чем говорили бы друг с другом днем. Ведь ночь всегда обнажает сердце человеческое больше, чем дневной свет… есть такие правдивые слова, которые мы находим только ночью… и напрасно хотели бы вымолвить их днем… Это как бы речь глубин, которая должна вновь вернуться в глубины, во тьму… Так будем выбирать такие слова… Они будут предназначены только для нас… Вы, я и ночь, трое нас, tres faciunt collegium 1, и слова эти будут забыты, как только мы опять разойдемся, вы, я и ночь… начнет светать, все опять станет другим. Так вот, мессер Буонарроти, я, старый человек, пришел к вам, юноше, я, чье имя слышно теперь во всем мире, пришел ночью к вам, пока еще, в сущности, только начинающему… пришел затем, чтоб говорить о мире… потому что вы, Буонарроти, я знаю, не такой, как другие, и нам с вами понять друг друга легче, чем кого-либо другого. А вместо этого что-то разделяет нас – это чувствуете вы, чувствую я, что-то враждебное, и хорошо было бы, если б мы это выяснили. Нынче вы на меня резко и беспощадно напали, да, нарочно унизили меня при каких-то купцах… не имевших для вас никакого значения… Хотели унизить меня и унизили. А за что? Что я сказал дурного? Вам случалось, конечно, слышать и более злые слова… и сомневаюсь, чтоб вы сейчас же отвечали на них всегда с такой грубостью. Я знаю, причиной вашего гнева было не то, что я сказал. Так что же? Вы шли с работы, усталый, замученный, весь в грязи и пыли. Я не могу жить без блеска и роскоши, без благовоний, изысканности, хорошей одежды, без слуг, коней, цветов, музыки, красивых лиц и некоторой жизненной утонченности. Тут мы столкнулись… но и не в этом, я знал, причина вашей вспышки. Это, может быть, могло возмутить вас в ту минуту, но не до такой степени. Здесь есть что-то глубже, загадочней… Мы не назовем это, мессер Буонарроти?
1 Трое составляют общество (лат.).
Микеланджело подошел ближе и, глядя прямо в ледяное лицо Леонардо, промолвил:
– Я думаю, мы никогда не сможем этого друг другу назвать. Назовут другие, которые будут судить о том, что каждый из нас создал.
– Вы от меня ускользаете, Микеланджело! И довольно обидно возвращаетесь к тому, что метнули в меня вечером… Каждый из нас создает свое и по-своему… Не будем отдавать друг другу отчет о своей работе, но и не предоставим судить о ней другим… Другие! Кто эти другие? За свое долгое пребывание при миланском дворе я хорошо узнал, кто эти другие… Зачем предоставлять им то, что мы можем сказать друг другу сами?
Микеланджело нахмурился, и лицо его постарело.
– Потому что я… никогда не умею сказать того… что хочу… выходит всегда иначе, чем я имел в виду. Мне всегда была противна болтовня об искусстве, о людях, о жизни… За столом Медичи философы толковали об этом до изнеможения… я понял, какое это пустое занятие… об этом совсем не надо говорить… пользоваться словами, всего значения которых человек даже понять не может… только произносит их… а смысл потом улетучивается… Я не умею выбирать слова…
– А сам – поэт, – покачал головой Леонардо. – Я ведь слышал, вы пишете сонеты.
– Это другое дело… Я создаю стихи так же, как статуи… Я их ваяю!
– Так… – слегка улыбнулся Леонардо. – Я вижу, вы набрасываетесь на все, как женщины. Одолеть. Овладеть. Покорить. Поработить. Но это неправильный путь.
Микеланджело с удивлением поднял голову.
– Почему? Разве есть другой путь?
– Да. – Леонардо опять положил свои тонкие руки на стол и долго смотрел на них. – Цель не в том, чтобы навязать материи свою волю – излить в нее свои мысли и свои страсти… нет и нет, дело идет о чем-то гораздо более трудном и драгоценном… Оставить ей ее жизнь… раскрыть загадку этой жизни… постичь ее… материя хочет жить своей жизнью… не мешайте ей… укажите только на ее тайны… В этом великое искусство… Вот – свет. Долго считали самым формообразующим началом краску… нет, пришлось объявить более существенное – свет, тайну света, перед которым краска вынуждена отречься от своей материальной сущности и подчиниться… дайте жить свету, не навязывайте своей воли ни ему, ни краске, самое великое искусство – выражать только то, что вещь хочет выразить сама…
– Нет! – резко возразил Микеланджело. – Чтобы творить по-настоящему, я должен сперва понять свое собственное сердце. Тема – только отпечаток моей собственной внутренней жизни. Чтобы творить по-настоящему…
– Что это значит – творить по-настоящему, мессер Буонарроти?
Микеланджело, наклонившись к нему через стол, крикнул:
– Знаете, кого вы мне напоминаете, Леонардо да Винчи? Пилата… Пилата. Я не хочу говорить обидного… но – Пилата. Стоите перед божественной правдой и спрашиваете: что есть истина?
– А вы никогда не задавали себе такого вопроса?
Микеланджело, сжав руки, промолчал.
А Леонардо продолжал тихо:
– Несчастный человек тот, кто никогда так не спрашивал, вы молоды, очень молоды по сравнению со мной и, может быть, уже нашли ответ, а я не стыжусь признаться, что хоть и стар, а задаю себе этот вопрос все время. Он помолчал, потом прибавил: – Вот мы уже назвали первое, что разделяет нас, но это еще не главное, источник той ненависти – не здесь.
– Ненависти?
– Да, – кивнул головой Леонардо. – Потому что вы меня ненавидите… Это становится мне все ясней… Да и не вы один… но другие не скрывают причин своей ненависти… Я им мешаю… Они считают меня колдуном… говорят, что я знаюсь с нечистой силой… клевещут на меня, хотят занять мое место… чернят мои произведения, чтобы выставить на первый план свои… Все это мне понятно… Но вы – не то, у вас – совсем другое, и это очень горько, потому что вас ждет та же самая участь, что и меня… и вас в свое время начнут ненавидеть, чернить, я знаю… а мы, два отшельника, которые могли бы так много сказать друг другу, не можем этого сделать… Что-то разделяет нас… чего нам, как видно, никогда не устранить.
Микеланджело быстро встал и прошел по комнате.
– Вы правы, – сказал он, взволнованно разводя руками, – я ненавижу вас… и знаю за что… оттого что вы один из тех… из тех, других…
– Кто эти другие? – устремил на него странный долгий взгляд Леонардо.
– Те… – описал рукой широкий круг Микеланджело. – Те… там, наружи… ночью и днем, огромное стадо, к которому я чувствую отвращение… Время! Все вы, создающие это время! Вы хотели, чтоб я был искренен… Извольте. Я задыхаюсь, захлебываюсь вашим образом жизни и вашими благовониями… всем отталкивающим, что вы приносите с собой… Задыхаюсь в этом времени, оно валится на меня, как потоп… Порой мне кажется, я погиб. Все время стою, увязнув по плечи в какой-то грязи, мерзости, нечистотах, – и не могу вылезть, а видно, все мало – валится, валится и затопит меня, если не будет какого-нибудь чуда… Что меня мучит? Прежде я никогда не мог понять, думал, это моя собственная слабость, – нет, не так, меня мучает и терзает это время… как, бывает, мучает боль головная или в ноге, так меня мучает это время, я не могу от него убежать… надо в нем жить… но я должен как-то его одолеть, иначе оно меня сокрушит… вдруг набросилось на меня, как мародер, искалечило, оглушило, я хочу насытиться и напиться чем-нибудь совсем другим, не тем, что оно мне дает… уйти от него сквозь какие-нибудь большие ворота… Я чувствую его пагубу вокруг себя, всюду чувствую его страшный конец, как собаки заранее предчувствуют пожар… в чем непреходящая ценность, что поставили вы на место порядка, который был разрушен? Вы говорите, что на папском престоле сидит антихрист… все вокруг разваливается, не существует ни нравственности, ни добродетели, Макиавелли объявляет без всякого стеснения, что мы так дурны, оттого что нас развратило духовенство, да, это так, церковь больна, как ей помочь? Если верить в Архисводню… она сама себе поможет, но я-то в этом разложении, в этом гниенье, что? Человек! Вот ваше открытие! Вот что вы обожествили! Но я не знаю ничего более трагического, что вышло до сих пор из рук божьих, чем Человек! Хочу спастись – меня травят, как негодяя, разбойника, изверга естества, травят, как поджигателя… но как мог бы я в чем-то сам от этого оторваться. И вот жду… смерти или жизни?.. Жду… Ожиданье мое до сих пор не кончилось… не может быть, чтобы мне пришлось так жить и дальше, должно наступить какое-то очищенье… Вы меня понимаете? Этого мира уже ничто не спасет. Он окончательно погиб. Но я не хочу гибнуть. Я хочу убежать. Куда? Как? В какую сторону? Где-то есть вещи, взывающие о спасении, как я… предназначенные для великого произведения, но либо никто не приходит его исполнить, либо люди до него не допускают… Я хочу тишины, жажду тишины, чтобы жить, творить, мне нужна тишина вокруг… Но это ваше время беспрестанно кипит… вопит… я знаю, я чересчур уязвим и потому должен постоянно уходить в глубины, чтобы лучше укрыться. Время! Что вы сделали с тем отрезком времени, который был вам доверен? Не могу я убежать… и, значит, должен хотя бы ценой величайших жертв это преодолеть, либо жить и умереть в этом… И вы – один из них! Вы, Леонардо, больше, чем кто-либо! Словно когда-то именно в вас слились все пороки, скорби и недуги этого времени. Преодолеть все… и вас… поймите, кто хочет спастись, тот должен преодолеть и вас, но вы сильней других, до чего я вас ненавижу! Время! И вы! Как я понимаю Савонаролу! Он тоже боролся с этим временем, тоже хотел его преодолеть, тоже явился как будто из других столетий и направлялся в другие – и пал. А я – нет, я не хочу, не имею права упасть… не имею права погибнуть… Я должен победить вас всех, вставших передо мной, как великан в чешуйчатой броне… должен!
– Чем?
– Да хоть… просто камнем… как он… Давид!
Леонардо, немножко помолчав, промолвил:
– Вы говорили о Савонароле… который так хотел победить и пал. А ведь он выступил с самым сильным оружием, применил самое высокое: мученичество. Разве камень – сильней мученичества?
– Не один только камень… – тихо возразил Микеланджело. – Еще боль. Удары.
Леонардо переложил руки со стола на колени, и бросающаяся в глаза бледность их резко выступила на складках черного плаща.
– Я думаю о том, Буонарроти, – тихо сказал он, – что в свое время кто-нибудь скажет вам то, что вы сейчас сказали мне.
– Никогда! – возмутился Микеланджело. – Я никогда не буду никому становиться поперек дороги, всегда буду идти вместе со всеми, кто борется с этим гниением.
Леонардо, глядя куда-то в сторону, улыбнулся.
– Теперь понимаю, почему это будет Давид. Символ вашей жизни – победить ударом, камнем. Великана. А меня вы считаете за одно из сухожилий, один нерв этого великана и… не ошибаетесь. Я рад, что работал в такое время, которое позволило человеку пустить в ход все свои способности, которое освободило его… Но это не то, что вы говорите… Я хотел бы потолковать с вами об этом, когда вам будет за пятьдесят, мессер Буонарроти! Что я теперь? Леонардо да Винчи, это правда, – но что под этим кроется? Я уехал из Флоренции юношей, вернулся в нее изгнанником, на помесячном жалованье из кассы Синьории, которое Содерини подает мне, как милостыню… И я сказал себе тогда, перед своим отъездом: проснись, спящий, проснись, создай произведения, которые и после смерти твоей оставят тебя в живых, а где-то здесь блуждала тень моего бесценного Джакомо Пацци, я ее видел. Я любил эту тень, так же, как любил его живого, и все-таки я предпочел бежать к герцогскому двору, на чужбину, делать чертежи укреплений, писать портреты Моровых наложниц, быть устроителем карнавалов и праздничных иллюминаций… Хотелось бы мне поговорить с вами, когда вы состаритесь, тогда я сказал бы вам, чего пока не могу… Разве я не отвергаю этого времени, не презираю его? Что оно дало мне? Чем я являюсь в нем? Все мы, люди духа, изгнанники в такое время, которое кичится тем, что освободило дух, слуги сильных, живем только милостями правителей, нет для нас свободы искусства, из него сделали предмет торговли, рвут у нас из рук еще не готовые произведения, алкая наживы, я знаю, им нужна не картина, не статуя, им нужна только наша подпись, они продают просто наши имена… И у вас тоже будут неоконченные произведения, Микеланджело, и вы вспомните меня, над которым из-за этого смеялись и которого за это хулили… Будут и у вас… И вот мы двое, чувствующие напор нашего времени больше всех других, для которых оно, наоборот, – лишь плодоносное гноище, мы двое ненавидим друг друга… но не из-за вашего страха перед временем… Нет, дело не в этом, Микеланджело! Как раз тут мы поняли бы друг друга скорей всего, потому что кто пострадал от этого времени больше, чем я? Кем я оказался на старости лет? Странником… зависящим от благосклонности сильных… Вы говорили о потребности в тишине, но сердце любого времени тревожно… кому это известно лучше, чем мне? Кто постиг превратности судеб человеческих больше, чем я? Правитель "золотого века". Вот Лодовико Моро, который теперь, окованный, увезен во Францию… Вот Лоренцо Маньифико, от дела которого ничего не осталось… Я живу тайными летучими мгновеньями, научился ценить красоту каждой минуты… Я понимаю монну Лизу, чей портрет теперь пишу, когда она говорит мне, что помнит о Лоренцо Маньифико только то, что он как-то раз погладил ее по голове, когда она, еще девочкой, сообщила ему, что успела выучить карнавальный сонет во славу матери божьей… Что ж, разве это мало – такое воспоминание о поглаживании по голове? Мы с монной Лизой много говорим об этом, пока я с нее пишу, о красоте и улыбке этих летучих мгновений… Я умею это ценить… но не умею этим удовлетвориться… не умею, Микеланджело! Я все время стремлюсь раскрывать новые и новые тайны, в этом мое бегство от времени… в том, чтоб познать, проникнуть, исследовать, постичь! Есть великие тайны, при которых мы присутствуем… речь идет не только о причинах падения княжеств, о гибели человеческих жизней, как раз когда они находились на вершине своего могущества… нет, даже полет птиц, кривая которого изнемогает как раз в наибольшем подъеме, – тоже такая тайна… Где-то есть точка, из которой все исходит и в которую все возвращается… события, жизни и судьбы, смерть, искусство, порок, добро и зло – единый источник всего… сколько раз мне казалось, что я уже близко к нему! Я знаю, мы ни в чем не сходны с вами в искусстве, но это не так важно… У меня свои неоконченные произведения… у вас будут свои, так же как сейчас там у вас полон угол картонов с набросками тел и отдельных частей, плодами мучительных, изнуряющих часов работы, знаю, вы стремитесь к сверхчеловеческому, а то и к нечеловеческому… а я всегда останусь с человеком и с тем, что познаю своими чувствами… У каждого из нас свои враги… ваши еще растут, как тот юноша, относительно которого я вас предостерегаю…
– Какой юноша? Я не слышал…
– Тот… – улыбнулся Леонардо, – тот любопытный урбинец… он станет великим вашим врагом…
– Рафаэль? – воскликнул Микеланджело и засмеялся.
– Да… – Леонардо тоже смеялся, – он… не всегда придется вам смеяться над ним… доставит вам немало горьких минут… потому что он как раз из тех других – и даже больше другой, чем все другие, Микеланджело Буонарроти. Но дело не в нем и не в остальных. Дело идет о большем. Вы назвали это бегством от времени. Теперь я понимаю эти ваши внезапные отъезды, вы то и дело от чего-то убегаете и то и дело опять возвращаетесь на прежнее место… и в это наше время тоже вернетесь! Нет, дайте мне договорить, Микеланджело: вернетесь… Вы бежите затем, чтобы опять вернуться… Никому не убежать безнаказанно от своего времени, напрасно боретесь… это высокомерие, пустое высокомерие… А может, все-таки! Кто знает? Каждый из нас идет своим путем… Вы хотите убежать с помощью искусства… я иначе, с помощью познанья… да, для меня искусство только проводник к великим тайнам, и так эти тайны меня очаровали, что часто я посвящаю им свое искусство… Познать! Проникнуть! Добраться до того единого, из чего все исходит и к чему все возвращается – жизнь и смерть в одной руке… богатство и бедность… наслаждение и боль… все сливается… добро и зло… как в той пещере из моих детских снов… Я смотрел в нее через узкое отверстие, озаренное полыхающим в нем пламенем, но всякий раз, как чад и дым на мгновенье рассеивались, я чувствовал, что еще минутка… и я узнаю, увижу… а над этим были удивительные краски, созданные игрой атмосферы… светотени… никогда не попадавшие на холст… тайна…
Леонардо, усталый, умолк, устремив взгляд в темноты комнаты. Микеланджело выслушал его, затаив дыханье, с леденящим чувством страха, как безвольный, околдованный… хотел встать и не мог… Да, нечто подобное рассказывали ему однажды о наблюдениях мореплавателей, напрасно старавшихся спасти товарищей, неожиданно прельщенных глубью загадочно появляющихся и исчезающих омутов, гладь которых, как бы золотая и нежно-голубая, поросла невиданными кустарниками, чьи ветви, ожив, обвивают неосторожного, обрекая его на смерть… У Микеланджело было такое ощущение, словно он идет куда-то далеко, потому что должен, таков приказ, свободный выбор больше невозможен, странные, коварные глади, печальная песня великих водных потоков, благоухания дурманящих кустарников, от которых исходит такой аромат, что человек падает в обморок, сходит с ума, – край неосвященный…
– Вы сказали, Микеланджело, – слышит он Леонардов голос из далекой дали, – что я кажусь вам Пилатом… Что есть истина? Вы это знаете? Я не знаю и всю жизнь старался узнать… Что есть истина? Вы были еще ребенком, я спас вашего отца от угрозы быть раздавленным возле Санта-Мария-дель-Фьоре… И отец ваш с гордостью говорил о вас, о созвездиях, под которыми вы родились… они предвещают великое, сказал он. А я тогда уже задавался вопросом, что значит – великое, и нашел слова вашего отца смешными. Что значит – великое? Микеланджело, что есть истина? В этом – великая, неисследимая тайна, или, как вы говорите, чудо… Мы оба жаждем его – вы по-своему, я – жадно стремясь постичь, добиться последней его разгадки… и это изменило бы всю мою жизнь… Пещера с серным пламенем… светотень… И это мое открытие у меня уже отняли, – говорят, недавно один венецианец по имени Джорджоне, попавший в Милан проездом из Болоньи, привез это мое наблюдение в Венецию и там применяет его… Да мне что за дело? Я раздаю все, что имею, лишь бы только добиться, лишь бы увидеть… посвятить этому искусство – не малая цена… а я плачу ее, знаю… но охотно плачу… лишь бы узнать…
– Мессер Леонардо… – прошептал Микеланджело, наклоняясь к нему через стол.
Лицо маэстро было тихо и грустно, как те глади заморских вод, подобные омутам, вдруг обнаруженным в чужом краю, куда еще не ступала нога человека. Ночь была на устах его, он молчал.
– Мессер Леонардо… – просительно повторил Микеланджело.
– …потому что есть великое единство, вот в чем тайна, – вдруг тихо промолвил Леонардо, словно отвечая самому себе. – Еще тогда, в молодости, я чувствовал это, – в то время, когда старый ученый Паоло дель Поццо Тосканелли даром, из любви ко мне, обучал меня тайнам математики и пифагорейскому образу жизни… единство чисел, все – в одном неизвестном, которое, однако, можно установить… Жить в дисциплине, не есть мясо, не знать женщин, ни от чего не приходить в волнение, быть посвященным… Да, уже в молодости… тогда, у Тосканелли… а потом, позже… единство всех вер… тот раз, когда я хотел, воспользовавшись проездом через Флоренцию киррейского диодария, уехать на службу к египетскому султану… единство веры… мусульманская вера, Христова вера, древние мифы о принесении бога в жертву за человечество… все выходит из одной точки и возвращается в нее, подчиняясь тайне чисел… нет различия между добром и злом… ведь сама церковь поет так на литургии в страстную субботу: "Ille, inquam, Lucifer, qui nescit occasum" 1, – о Христе так поют… почему Люцифер?
1 "Вот Люцифер (Светоносец), говорю я, не знающий заката" (лат.).
Тут Микеланджело, напрягши всю свою волю, вскочил и распахнул двери.
– Уходите… мессер Леонардо!
Тот поглядел на него с удивлением, словно просыпаясь… Но достаточно было ему взглянуть на лицо Микеланджело, чтоб он сразу очнулся. Он встал, плотно закутавшись в свой длинный черный плащ.
– Вы наводите ужас, Леонардо…. – прохрипел Микеланджело. – Уходите! Я не хочу, чтобы вы после всего, что я сейчас слышал, оставались здесь здесь, где я живу… работаю… существую… где единственный мой кров и дом…
Лицо Леонардо искривила болезненная, горькая улыбка.
– Разве я сказал что-нибудь обидное? Не помню… Я сказал вам лишь сотую часть тех мыслей, которыми хотел с вами поделиться и ради которых пришел… И вы тоже будете считать меня колдуном, союзником дьявола, как другие, и для вас тоже я богохульник и нечестивец?
– Больше, чем богохульник и нечестивец, Леонардо… Уходите! Теперь я знаю, что нас разделяет…
– Я знал это раньше вас, – сказал Леонардо и, подойдя к нему вплотную, положил свою узкую руку ему на плечо. – Если мы теперь не сказали друг другу всего, твоя вина! Я ухожу, раз ты меня гонишь, такова теперь моя участь быть вечным изгнанником… Но и ты, Буонарроти, изведаешь эту участь… и никогда не забудешь меня и эту ночь…
– Не забуду! – воскликнул Микеланджело. – Всегда буду помнить, куда свалился бы, если б пошел по твоему пути…
– Свалился? – возразил с холодной улыбкой Леонардо. – О, счастливая вина, счастливое паденье! – так бы ты должен был молиться, как молятся священники. Без паденья не было бы искупления. Свалился? Куда? Разве паденье не ведет тоже на небо? А знаешь, о чем мы спорили по поводу Дантовых стихов, когда ты к нам подошел? О том темном месте в девятой песне "Рая", о терцине насчет превращения дольнего мира в горний… вот зачем я позвал тебя, Микеланджело, вот зачем: чтоб ты это объяснил!
– Уходи!
Микеланджело сжал губы, глаза его метали искры.
Еще раз скользнув по нему взглядом, Леонардо да Винчи промолвил:
– Я тебе много предсказал нынче ночью, Буонарроти, прибавлю только вот что: когда ты будешь умирать…
Но Микеланджело быстро захлопнул дверь и, задвинув щеколду, прислонился к двери всем телом, тяжело дыша. Лихорадочно горящие глаза его бегали по теням и зажженным свечам, по стенам и мраморным рельефам, по куче сваленных в углу комнаты расчерченных картонов, всюду…
Снова послышались тихие удары ладонью в дверь. Микеланджело схватился за горло, словно задыхаясь. У него кровь застыла в жилах. Удары возобновились. Гость, видимо, хотел договорить до конца. Микеланджело замер в ожиданье. Послышались медленные, тихие шаги вниз по лестнице. Неотступный все-таки уходил, тяжело ступая. Он был стар.
Микеланджело встал на колени возле стола, протянул на нем руки и, положив голову на столешницу, долго оставался так, не шевелясь.
Начало светать. Наступил новый день. С мучительным давлением в сердце, невыспавшийся, не поев, ослабевший и больной, Микеланджело подошел к забору возле Санта-Мария-дель-Фьоре, отпер калитку и засмотрелся на сверкающую статую. Его Давид почти готов, осталось немного. Камень ожил, это был уже не пролежавший сорок лет в земле мертвый болван, заваленный нечистотами и забытый. Он выпрямился и ждет того, кто в чешуйчатой броне каждый день на рассвете выступает из рядов неприятельских, чтобы в сознании своей силы и гордыни поносить сынов света.
Микеланджело снова принялся за работу.
В этом году, в середине августа, в ворота Флоренции влетел на измученном скачкой коне гонец с известием о скоропостижной смерти его святости Александра Шестого, который выпил по ошибке отравленное вино, приготовленное для другого, и по этому поводу Сангалло возликовал, крепко напившись цельного, ничем не подмешанного вина. Потом он стал жадно собирать все любопытные рассказы о смерти папы и усердно разносить их по городу.
– Испанец умер, – гремел да Сангалло, – с облегчением вздохнут теперь кардиналы, будут опять есть, как я ем, вволю, досыта, по-христиански, воздавая хвалу господу и не опасаясь папского милосердия. Вот увидишь, толковал он Микеланджело, – теперь выберут кардинала Джулиано, кряжистый дуб, а потом, милый мой, наступит наше время, ты непременно поедешь со мной в Рим, непременно, я представлю тебя святому отцу, и уж коли представлю я, который так укрепил ему Остию, что ни Александр, ни Сезар не могли ничего сделать, это будет тебе лучшим препоручительством. Конец теперь ослу этому Браманте! Я, Джулиано да Сангалло, перестрою Рим… и ты со мной, Микеланджело, ты со мной, станешь папским художником… Ну да, я отговаривал тебя от этого, но это было прежде, это при испанце, а теперь – совсем другое дело! Сдох бык Борджа, сдох и не встанет. Сезара бояться нечего!.. А знаешь, тело папы после смерти так распухло, что не влезало в гроб! А знаешь, какие грозные знамения были, когда он помирал? Сказать страшно! А знаешь, когда помер? Помер как раз в третью годовщину со дня убийства его любимого герцога Гандии, которого он хотел сделать императором. Говорят, герцог пришел за ним, весь в пламени…
Да Сангалло был не единственный, кто с увлечением разносил по городу слухи о страшной смерти папы. Все только об этом и говорили, это было как гром среди ясного неба. А новые сообщения были еще страшней первых, все они относились к покойнику, который к утру так почернел, словно должен был навеки оставаться окутанным тьмой, а искаженное лицо расплылось до неузнаваемости, так что даже близко стоящие не могли различить, где у святого отца кончается лицо и начинается горло, а тучное тело еще больше раздулось, так что втискивать его в гроб пришлось шестерым разбойникам, оттого что никто не хотел прикасаться к нему из страха перед моровой язвой. И не находилось никого, кто согласился бы провести у гроба ночь, было слишком страшно, и вихри, странные тени, огненные призраки и другие cose diabolice 1 множились без конца. Так что тело папы целых десять дней лежало в соборе св. Петра без отпевания, без свечей, без погребального покрова, без каждения, без пенья часов, без молитв, десять дней лежал там святой отец, всеми оставленный, "лицом черный, как эфиоп", без тиары, которая не уместилась в гробу, с головой, завернутой в дырявый ковер, пока наконец, из страха перед чумой, его не похоронили тайно и молча, без пения и без присутствия кардиналов, без колокольного звона и процессии, поспешно и торопливо, – гроб перетащили веревками и сейчас же замуровали.








