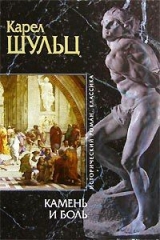
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 47 страниц)
Савонарола! "Этот монах любит тебя, любит по-своему…" – слышит Микеланджело. По лестнице Палаццо-Веккьо! Мне двадцать лет… Я уж не буду зависеть только от этого Лоренцо Пополано… Опять новые знакомства, новая работа, мои мечты, большая, огромная работа… Нет, не отступлю! Одержу победу над всем, что есть во мне и вокруг меня нечистого и смутного! "Искусство – строгий устав… – вдруг слышу я старческий голос Бертольдо, ты должен всегда носить этот устав с собой, в нем – торжественные обеты смиренья, чистоты и бедности, и бог, дарователь устава, сурово карает тех, кто…" Почему это вдруг прозвучало как раз сейчас? Неотступный голос! Многие подымались и проповедовали о конце света. Они проповедовали, а я творил. Они исчезли, а созданное мной осталось… Мечты мои! Моя работа! Вера и горечь, боль и камень… А теперь другой голос: "Ты – больше добыча дьявола, чем мы, Микеланьоло, много еще прольется крови!.." Заглушить эти голоса! Почему они так назойливы? По лестнице Палаццо-Веккьо! Мне двадцать лет! Отец мой всходил туда под резкий рокот труб… Снова голоса. И он усиленно ловит слова Макиавелли.
– Савонароле этой болезни не вылечить, – слышит он ясный, внятный голос Никколо. – Наоборот, он еще усилит лихорадку… Мне от этого всего становится грустно до отчаянья. Если бы те, у кого власть в руках, знали то, что знаю я, шлепающий здесь по лужам красильного отстоя, голодный, грязный, пребывающий в неизвестности. Понимаешь, маэстро Сангалло, понимаешь: империя! Старая, славная Римская империя, величайшая государственная идея, какую знал когда-либо мир! Империя! Но кто? Я всякий раз чудовищно ошибался в каждом и всякий раз вовремя осторожно отходил в сторону, при первом признаке их слабости, говорящем: опять не тот. Ни один из них. Один только…
– Кто? – проворчал Сангалло, которому эта тема, видимо, наскучила…
– Государь… – тихо, но пылко ответил Макиавелли. – Государь, добродетель которого целиком в его воле. Что хорошего и дурного в жизни народов? Можешь ты теперь на это ответить? Много дурного впоследствии оказалось добром, и не одно хорошее лекарство было слишком сильным – народ не выдержал. Воля правителя, деятельная, идущая твердо и неколебимо за высочайшей идеей государственной мощи, разум выше чувства, цель выше жизни. Да, государь. Я жду его и буду ему служить. И он придет, придет вопреки всем доминиканцам и папам! И с этим жалким, мечущимся человеческим стадом не справится никто, кроме этого государя, подлинного государя. А уж если не государь, так только…
– Кто, Никколо?
Голос Макиавелли вдруг как-то высох, погас. Вся его горячность, звучность, блеск неожиданно остыли, потухли. Взгляд забегал вокруг, словно поспешно ища опоры. Легкая, летучая улыбка исчезла. Тихим, беззвучным голосом он прошептал:
– Тогда только… судьба!
Они пришли.
Трактир был славный, у самых ворот. Здесь можно было пить без помехи, никто завтра не будет рассказывать по всему городу, что они пили, здорово пили, пили в сумерки страстной пятницы, никто не будет разносить этого, у Макиавелли всегда есть в запасе такие славные местечки, и он с удовольствием выслушал одобрение из уст Сангалло. Они были там не одни. Целый купеческий караван, уже готовый тронуться в путь, еще допивал посошок. Животные, навьюченные либо запряженные в высокие узкие телеги, ждали. Но челядь еще лежала под открытым небом, перед трактиром на траве, приканчивая содержимое больших кувшинов. Два купца, важные, бородатые, владельцы товаров и всего каравана, сидели в самом трактире среди нескольких вооруженных, нанятых в качестве конвоя. Сангалло сразу взбаламутил весь трактир. Он болтал, пил, бранился, заполонил собой все помещение, стучал, посылал к черту, шумно со всеми братался и в конце концов пригласил к себе за стол обоих купцов, глядевших на его суетню, широко раскрыв глаза. Они беседовали между собой о политике и продолжали этот разговор, когда подсели, даже Макиавелли, падкий до новостей, быстро пил и жадно слушал.
А эти двое, важные, бородатые, вели речь о великом сражении между французами и войсками лиги, разыгравшемся у Форново на реке Тахо и закончившемся поражением французов после великой сечи. Сам Карл, бившийся с великим мужеством, погиб бы, если б его бастард, принц Бурбонский, не кинулся на меч, направленный в грудь короля. Французы были бы разгромлены полностью, да венецианские солдаты посреди битвы вдруг кинулись на французские обозы. На чем только не стараются нагреть руки венецианцы! Так что боевой порядок оказался нарушенным, и остаток французской армады под командованием Тривульция отступил к Асти, а потом к Генуе. Но какая досталась лиге добыча! Двадцать тысяч мулов, навьюченных сокровищами искусства, и все имущество короля, и его золотые шлемы, чеканные, как у Карла Великого, и его парадные мечи, печати, переносный алтарь, полный реликвий, среди них – часть святого древа, терн от святого венца, кусок плаща пречистой девы, кость святого Дионисия, барона французского, и много других!
– И тот мул! – засмеялся бородач, махнув руками, так что взметнулись рукава. – Тот мул под балдахином!
Дело в том, что был захвачен также мул, везший под балдахином портреты всех итальянских красавиц, осчастлививших короля, портреты, не скрывающие ничего, милый триумф amoris короля – из Турина, Милана, Рима, Неаполя, Пизы, Флоренции, – немало мужей были бы этим изумлены и озадачены.
Сангалло велел принести еще вина, чтоб выпить в честь мула под балдахином, – и пил, колотил кулаками по столу, хохотал до упаду.
– Мы из Болоньи и возвращаемся туда, – сказали купцы.
Макиавелли слегка тронул Микеланджело за локоть, тот дрожащей рукой поспешно поставил свой кубок на стол.
– Что делают Бентивольо и остальные? – спросил с жадным любопытством Макиавелли.
Бентивольо! Как прозвучало это знакомое имя! Словно пчела, кружащаяся в знойный день вокруг головы. И целый рой воспоминаний. И остальные…
Болонцы стали рассказывать. Теперь синьоры Бентивольо горько жалеют, что не послушались папских призывов и вовремя не выступили… Да, кажется, они вообще не рады победе лиги и папы, так как войска дона Сезара подозрительно движутся в сторону города, никогда не перестававшего быть леном церкви. А ключи!
Таинственно понизив голос, купец взволнованно продолжал. Командующий войсками Асдрубале Тоцци предал город из-за измены жены, и кондотьер кардинала Сезара, Оливеротто да Фермо, увез оттиски ключей, потому что это он выследил любовника жены Тоцци – монны Кьяры из славного рода Астальди… Но до сих пор неизвестно, кто был этот любовник. Тоцци первым делом убил жену, да так страшно, как в Болонье не наказывали еще ни одну женщину: он отдал ее на растерзание приведенному из тюрьмы вурдалаку, человеку, который превратился в волка и перегрыз белое горло монны Кьяры, прекраснейшей женщины в Болонье, белое горло с черным змеиным ожерельем… И говорят, это было так страшно, что молодой Оливеротто, державший скрещенные меч и свечу, тоже пронзил вурдалаку горло и, воспользовавшись суматохой, скрылся с ключами, которые дал ему Тоцци в награду… А в это время служанка Тоцци, безобразная уродина, боясь за свою жизнь, позвала стражу и все рассказала синьорам о ключах, – она давно следила за хозяином… Так что в ту же ночь, сейчас же вслед за убийством жены, Тоцци был заключен в тюрьму и не имел времени убить любовника, а назвать не захотел… Он ведь любил жену, очень любил, и хоть убил ее, а не хотел марать ее память, оттого что, может быть, любовник ее был незнатного рода, не дворянин, не патриций…
И еще той же ночью над Тоцци состоялся суд, сообщили купцы. Его судили за убийство жены, за связь с колдуном и за измену городу. Он жаждал смерти и рвался к плахе, потому что душа его изнемогла и он не хотел больше жить. Но судьи понимали, что плаха – не наказанье для этого воина, которому чужд страх смерти, и к тому же в военное время не следует смущать народ казнью военачальника, изменившего городу и не устыдившегося отдать свою жену вурдалаку. Поэтому его приговорили к in pace. Но Асдрубале Тоцци, не ожидавший этого, закричал не своим голосом, а потом, вспомнив Дамассо Паллони, последовал его примеру: кинулся к стене и размозжил себе голову, так погиб Асдрубале Тоцци с Сицилии, главнокомандующий болонских скьопетти.
– Ужас обуял город, – рассказывал купец. – Все были в таком страхе, что живописец Лоренцо Коста из Феррары, придворный художник синьоров Бентивольо, – он как раз писал тогда алтарный образ "Последней вечерни" для нашего храма Сан-Джованни-ин-Монте, пользуясь этим двуногим тигром, вурдалаком, как моделью Иуды, – словно помешался. С воплями бегал он как одержимый по городу, пока его не схватили, и после этого он долго лежал больной, в жару. А потом разодрал, уничтожил свою картину. А говорят, это было лучшее его творение, мастерская работа, будто до сих пор ничего подобного не было создано во всей Италии. Такая вещь создается раз в столетие, произведение высокое, гениальное, а он его уничтожил, понимаете, разодрал и сжег – из-за того адского лица, не хотел, чтоб оно осталось здесь, на этом свете, не хотел знать свое гениальное творение из-за этого лица…
Микеланджело встал, смертельно бледный. И, не говоря ни слова, ощупывая вытянутыми руками пространство впереди, как слепой, вышел из трактира.
В ту ночь он пришел к Аминте и спал с ней.
ПЬЯНЫЙ ВАКХ
Сумрак среди чужих вещей, сумрак без ласкового шороха надвигающегося вечера. Тьма крадется, как убийца, по улицам, среди дворцов, среди голых, твердо возвышающихся стен, мимо оббитых или невредимых статуй времен Августа и Траяна, среди домов, из которых каждый – надежная крепость. В свете факелов проплывают в сумерках носилки священнослужительской куртизанки, словно позолоченная лодка по волнам. Они завешены тяжелой парчой, но еще так душно, что занавеси отдернуты, и девичьи глаза и губы улыбаются толпе студентов, которые приветствуют ее воздушными поцелуями и учтивыми поклонами. Несколько голодных оборванцев, отставших от войска, сблизили свои крысиные физиономии, тихонько совещаясь о том, как разделить между собой отдельные улицы на предмет ночных заработков с помощью кинжала. Грязь прыскала из-под копыт баронских коней, чьи хозяева ехали играть во дворец Мерканте. Папские солдаты светили фонарями и плошками на статую Пасквино, а командир, сквернослов, разбирал новые поносные надписи, написанные на ней за сегодняшний день, – нет ли среди них чего насчет его святости, – и обнаружил столько, что даже сам встревожился. Молоденькая девушка с задорными глазами, стоя перед трактиром, зазывала внутрь. Ватага молодых художников прошла по улице с одним факелом, приставая к вечерним прохожим. Солнце быстро заходило. Тьма окутала высокие башни Трастевере, легла в сады на Яникуле, застлала кровли дворцов Орсини, Сан-Марко, Нардини, Каффарели и колонну Марка Аврелия. Луна стала поливать серебряным светом сперва стену Колизея и сторожевую башню Конти. Рим потонул во тьме. На Лунгаретте зажглись фонарики иллюминации, от Порто-Сан-Спирито понеслись крики, звуки труб, выклики, топот копыт. Это герцог Гандии, любезнейший сын его святости, со своей свитой из шестидесяти дворян, возвращался в город. Факелы свиты бежали во тьме, словно ручей огня, ко дворцу Борджа, но тьма все сгущалась, она покрыла район Понте, район Парионе, район Сан-Эустакио, Аренуло, Сан-Анджело, Пиньо, Кампителли и все остальные. Тьма, непроглядная тьма.
На римские улицы вышли убийцы и стражники.
Чердачную каморку во дворце Рафаэля Риарио, кардинала от Сан-Джоржо, на Кампо-деи-Фьоре, ярко освещали несколько свечей в подсвечниках, стоящих среди кусков черствого хлеба и мисок с остывшей кашей на грубом, ободранном столе. Сидя на низком дубовом сундучке, сжав руки между колен, Микеланджело глядел на маленького человечка, совершенно лысого, вертевшегося перед ним, восторженно рассматривая картон с рисунком, изображающим стигматизацию святого Франциска.
– Гляжу и диву даюсь, – тараторил человечек. – Ком к горлу подкатывает. Ты в самом деле нарисовал это для меня, флорентиец? Такая вещь в алтарь прямо просится! Тогда мой дорогой святой Франциск заговорит со мной…
Микеланджело устало улыбнулся.
– Ты не идешь спать, Франческо? – спросил он.
– Спать? Сейчас – спать? – обрушился на него человечек. – Ложись, а я еще понаслаждаюсь твоим дарованием, да и нет у меня столько времени, как у тебя, я должен ждать, когда от нашего хозяина вернется патер Квидо, прелат Святой апостольской канцелярии; он хочет, чтоб я его еще побрил. Ах, Микеланджело! Ты художник не мне чета, я должен это по справедливости признать, не мне чета, я бы нипочем такой вещи не смог нарисовать!
Микеланджело встал, зажег еще одну свечу и, сев за стол, принялся писать своим четким, красивым почерком письмо. А человечек забегал по комнате, без конца тараторя и соображая, куда бы повесить картон. В конце концов он остановился перед своей постелью, стоявшей против постели Микеланджело, и, приложив картон к выбранному им месту на стене, воскликнул:
– Здесь, Микеланджело, здесь?
– Ну чего тебе надо? Ты не даешь мне ни минуты покоя… – вскипел Микеланджело, с раздраженьем ударив кулаком по столу.
– Не сердись, флорентиец! Я у тебя совета прошу…
– Вешай где хочешь, а еще лучше… продай!
Человечек оторопел.
– Ты что – с ума сошел? Продать вот это? Самое прекрасное из всего, что я имею? Как это взбрело тебе в голову? Ты мало молишься, Микеланджело, мало молишься, коли можешь так говорить. Продать это!
– Почему бы нет? Выдай это, скажем, за подлинный портрет святого Франциска, получишь много денег… а в Риме к таким вещам уже привыкли!
– Что ты говоришь! – возмутился человечек. – Совсем спятил?
– Одним мошенничеством больше или меньше… – с горечью возразил Микеланджело и снова опустил гусиное перо в чернила. – А теперь дай мне писать…
Человечек забарабанил молотком по гвоздям, прибивая картон. Но продолжал говорить в промежутках между ударами.
– Это ты во Флоренцию пишешь? Хозяину своему или полоумному этому, Савонароле? Про нас пишешь? Жалуешься?
Микеланджело с сердцем отбросил перо и, оттолкнув стул, пересел опять на сундук.
– Просто голова кругом!.. – воскликнул он, ероша руками волосы.
Человечек перестал стучать молотком и подошел к нему, глядя на него мягким, сочувствующим взглядом.
– Ты просто какой-то чудак, флорентиец! Чего ты теперь-то тревожишься? Это просто смешно! Быть в Риме – и тревожиться! Жить на Кампо-деи-Фьоре – и тревожиться! Быть гостем кардинала Риарио – и тревожиться!
– Гостем? – вне себя вскочил Микеланджело. – Какой я здесь гость? Вот эта дыра под самой крышей, это пренебреженье ко мне, это презрение, это гостеприимство? Так принимают художников римские кардиналы? Почему он не отпускает меня домой? Здесь я только зря трачу время, ни на что не нужный. Ты хоть его брадобрей, а я что? Флорентиец, человек из того города, откуда он вернулся, бледный, как смерть, не дослужив кровавую мессу Пацци, на что я ему? Может быть, я повинен в той смертельной бледности, которая останется у него до самой смерти?
У человечка от страха язык отнялся, он только прижал ухо к двери: не подслушивает ли кто? А Микеланджело продолжал кричать:
– Ты хоть брадобрей, а я и того нет, просто страшный безносый бродяга, флорентийский скиталец, понимаешь?.. А теперь еще и мошенник! Вот как он на меня смотрит, оттого и презирает, пренебрегает мной. Будь я шлюхой, мне б у него лучше жилось, а то – ваятель какой-то! А виноват я в этом обмане? Ни сном, ни духом. Меня самого одурачили… Я пошел на это, после того как Лоренцо Пополано мне сказал, что у вас в Риме обычно так делается… Я поверил, мне и в голову не приходило, что тут ведется фальшивая игра и со мной! И если уж кто здесь мошенник, так это как раз твой кардинал…
– Флорентиец! – воскликнул брадобрей Франческо, посинев от страха. Если бы кто-нибудь стоял за дверьми, ты больше никогда бы не вышел из ватиканского узилища. Опомнись!
Микеланджело плюнул и улегся на ложе.
– Мне все равно. Наверно, даже тюрьма не хуже этой жизни… Да мне и не впервой!..
Человечек подошел к нему, широко раскрыв глаза, стуча зубами, и сел в ногах постели.
– Ты… – начал он растерянно, – не ври… ты сидел в тюрьме?
– Да, сидел! – отрезал Микеланджело. – В Болонье. Разве ты не видишь по лицу, что я бродяга и мордобоец?
– Неправда… Неправда!.. – быстро закачал головой брадобрей. – Но в тюрьме в самом деле сидел?
– Говорю, сидел…
– Так ты… – продолжая качать головой, промолвил брадобрей, – значит, правда – мошенник?
– Может быть…
Микеланджело горько улыбнулся. Человечек всплеснул руками.
– Но, милый мой, ты еще так молод! Зачем это? Обмануть кардинала – куда ни шло. Но обманывать нашего кардинала Риарио! Это неправильно, это глупо, это великий грех!
– Но господь по доброте своей простит нам… сказал тогда этот паук…
– Кто? Что ты говоришь? Какой паук?
– Да этот… Пополано… – ответил Микеланджело, заложив руки за голову и глядя в потолок. – Лоренцо Пополано… мои добрые друзья – Аминта, и Никколо Макиавелли, и другие, потом патриций Торнабуони – отговаривали меня иметь дело с ним… но я не послушался, мне надо было работать, нужны были деньги, я не мог жить на счет домашних, отец и братья – все ждали, что я буду их кормить, дома была нужда, необходимо было получить заказ у Пополано этого… и он мне дал… Сан-Джованни, святой Иоанчик, голый, как Парис, покровитель нашего находящегося в опасности города, понимаешь, святой Иоанчик с любострастным выражением лица, покровитель города, на которого со всех сторон напирали враги. "Ничего языческого!" – так сказал мне Пополано и улыбнулся… Я понимал… Мне нужна была работа… Нужны были деньги, для дома… Тебе непонятно, но ты все-таки единственный человек в Риме, которому я могу сказать… Мне нужна работа! Античность, тайная любовь Медичи! И я сделал ему спящего купидона. Если б ты видел! Он заметался из угла в угол комнаты, как скорпион, не зная сразу, что сказать, дрожал от желания оставить статую себе, но боялся, дрожал от страха, ты пойми, только чтоб ничего языческого в городе Савонаролы, чтоб милосердный господь не покарал! Я не мог не смеяться, глядя на этого лицемера, который собирает сокровища только на небесах, печется о бедных, во время голода во Флоренции скупил все зерно Романьи и перепродавал его флорентийской бедноте по тройной цене, вот как он печется о бедных, вот как собирает сокровища на небесах. Он бегал из угла в угол, как скорпион, как паук, не зная, что делать со статуей, длинные, липкие пальцы его дрожали от восторга, когда он касался ее поверхности, когда гладил этого прекрасного спящего нагого купидона, и в то же время сердце у него падало от страха, как бы вдруг не вошли Савонароловы пьяньони, он бледнел, зеленел даже, засыпая меня цитатами из Писания и Савонароловых проповедей, и в то же время не знал, как быть со статуей, пока я не сказал ему прямо, что мне нужны деньги, хорошая сумма… Он позвал меня на другой день и объяснил мне свой план. Оставить у себя статую он не может, но деньги я получу. Дескать, он подумал насчет Рима. Но в Риме кардиналы покупают только античные статуи, найденные в земле, никто не станет покупать статую у какого-то Буонарроти из Флоренции! Поэтому надо ее на некоторое время закопать, измазать глиной, повредить немножко, а потом выдать за добытую раскопками… За нее хорошо заплатят. Я возражал, мне не хотелось идти на это, но он твердил, будто в Риме это дело обычное, будто половина кардинальских коллекций состоит из таких подделок, а потом говорит: "Коли мы ее закопаем, а потом откопаем, это будут раскопки или не раскопки?" И засмеялся, наверно, как когда кормил бедных хлебом из Романьи по тройной цене, – кормил бедных или не кормил бедных? И он, дескать, знает одного торговца, вора этого, Бальдассаре дель Миланезе, который поставляет откопанные статуи для Рима, так он будто уж продавал кардиналам такие вещи! И верит, что милосердный господь простит! Пришел вор Бальдассаре, торговец из Милана, осмотрел статую, потер руки и сказал, что никто не отличит. Мы ее закопали, потом откопали, – по ихнему выходило: раскопки. Купидон мой спал, не обращая внимания ни на Пополано, ни на Миланезе, и его продали в Рим, как выкопанную античную статую. Это было первое мошенничество в моей жизни! Поэтому я навлек на себя презренье кардинала, поэтому и ты называешь меня мошенником! Да разве я закопал статую? Я отдал ее пауку Пополано. А вор Бальдассаре заплатил мне за нее тридцать дукатов, – сказал, больше не дали!
– Врет! – воскликнул брадобрей. – Врет твой миланец. Я сам слышал, как во дворце шла речь о том, что кардинал Рафаэль Риарио заплатил Бальдассаре за эту статую двести золотых дукатов!
– Я знаю, архитектор Джулиано Сангалло, – ну, приятель мой, у которого дела с Римом, – узнав об этом, посоветовал мне пустить в ход кулаки. Ведь это меня обманули! Пополано с Бальдассаре сорвали двести золотых дукатов, я сделал статую, чтобы достать деньги для дома, там братья чуть не плевали на меня из презренья, а я получил всего-навсего тридцать дукатов! Вот какой я мошенник! Поэтому я по совету Джулиано поехал в Рим, чтобы все объяснить кардиналу. А что сделал Риарио? Он хочет, чтоб я ему и эти-то тридцать дукатов вернул…
Микеланджело выпрыгнул из постели и, сжав кулаки, зашагал по комнате.
– Я отдал статую, и они еще хотят, чтоб я вернул деньги, эту нищенскую плату… И вот он запер меня в твоем чулане, брадобрей, как в тюрьме, держит у себя во дворце, не желает выслушать, гонит меня прочь, обращается со мной как с собакой… вот каково кардинальское гостеприимство! Я теряю время! Что мне тут делать, в вашем Риме? Мне все здесь противно! Я хочу обратно, во Флоренцию! Знаешь, кем я должен был там быть, брадобрей? Членом жюри по отделке зала Консилио гранде… Да, я поднимался бы по лестнице Палаццо-Веккьо, я так об этом мечтал… А ходил я по этой лестнице? Нет! Видишь, Франческо, какой я. За месяц до первого заседания жюри уехал сюда, в ваш отвратительный Рим, к кардиналу, чтобы все ему объяснить… и чтоб не надо было возвращать деньги, чтоб хоть получить обратно статую… а ничего не могу добиться, ровно ничего: вот какой я мошенник! Брадобрей растерянно комкал пальцами свою жидкую бороду, сочувственно поглядывая на Микеланджело.
– Я верю тебе… – прошептал он. – Верю, мой милый, что все это так, как ты говоришь, ты художник не чета мне, такого рисунка мне никогда не нарисовать, я верю тебе, но беда в том… что наш кардинал испытал очень большое огорченье из-за твоей статуи: весь Рим смеялся над ним, что он не умеет отличить выкопанную статую от новой, очень его высмеивали, и он тебе этого не простит, это обида его духу, его чувству красоты, его образованности, его тонкому пониманию прекрасных языческих произведений, этого он тебе не простит, я думаю, придется тебе вернуть эти тридцать дукатов…
– Никогда! – воскликнул Микеланджело. – Не отдам, хоть пришлось бы сидеть здесь до Страшного суда… А те двое? Они тоже должны будут вернуть двести дукатов?
– Вряд ли… – смущенно прошептал брадобрей. – До Флоренции, к Пополано, далеко, а вор Бальдассаре – самый лучший перекупщик, лучший поставщик античных статуй для Святой коллегии, кардинал Риарио не станет ссориться с ним. И к тому же – это ты сделал статую, а не они…
– Тогда они все трое – воры! – промолвил, стиснув зубы, Микеланджело.
Франческо, сам не свой, опять подбежал к двери и прижался к ней ухом.
– Опомнись, милый, – в ужасе пролепетал он. – Чего ты добьешься такими речами? Лучше помолись…
– Думаю, что от такого кардинала и молитва – плохая ограда! воскликнул Микеланджело, снова ложась.
– Флорентиец! – выдавил из себя бледный Франческо. – Замолчи! Кто-то идет! Это, наверно, патер Квидо возвращается от нашего господина, хочет у меня побриться, будь благоразумен, насильем тут ничего не добьешься!
Микеланджело закрыл лицо руками и, когда вошел писарь Святой апостольской канцелярии патер Квидо, притворился спящим.
Глаза у священника были зоркие, внимательные.
– Почему твой сотоварищ не хочет говорить со мной? – спросил он, садясь.
Франческо подтолкнул Микеланджело и прошептал растерянно:
– Он очень устал, ваше преподобие, целый день по городу ходил, любовался на статуи и памятники, копировал, рисовал…
– Значит, он очень усердный, сотоварищ твой, и проводит время в Риме с пользой, – ответил патер Квидо.
Микеланджело отнял руки от лица и сел на постели.
– Я не сотоварищ Франческо, ваше преподобие, – сухо промолвил он. – Я не брадобрей, а ваятель.
Франческо посинел от страха. И тревожно поглядел на обоих.
– Я и говорю о художниках, а не о брадобреях, – спокойно возразил патер Квидо. – Разве наш милый Франческо – не художник? И он, друг твой, довольно сносно пишет красками, рисует и, говорят, в конце концов даже сделал попытку слепить статую из глины, – чем же не твой сотоварищ?
Микеланджело, сжав руки, промолчал. Патер Квидо окинул взглядом стену, прищурился, поглядел на картон с изображением стигматизации и, обращаясь к Франческо, спросил:
– Это твоя новая работа?
– Ваше преподобие шутит… – пробормотал брадобрей, занявшись торопливыми приготовлениями к бритью. – Это мне подарил флорентиец Буонарроти…
– Неплохая вещь; я подумал: твоя, – слегка улыбнулся патер Квидо и, обращаясь к Микеланджело, прибавил: – Вот видишь, вы – сотоварищи. Хорошо рисуешь.
Франческо брил усердно, и священнику пришлось замолчать. Но сам Франческо не молчал, а нес разную чушь, поспешно выкладывая последние новости, полученные от слуг из разных кардинальских дворцов, – желая во время бритья развлечь его преподобие, который вернулся от кардинала, видимо, в очень дурном настроении. И не удивительно: сам кардинал уже много дней раздражен, зол, на всех накидывается, почти не выходит из своего кабинета, не участвует в празднествах и не устраивает их, явно предпочитая одиночество, будто бы получил предостережение от своего платного осведомителя в Ватикане, – а там у каждого кардинала есть свой платный осведомитель, – будто был тайно предупрежден, так толкуют среди челяди, что святой отец опять сводит счеты с непокорными кардиналами, и кардинал Адриано ди Корнета предпочел покинуть Рим. Святой отец сводит счеты, не забывает ему, Риарио, что он – делла Ровере и перед конклавом отказался от подарков, не голосовал за Александра…
Поэтому кардинал Рафаэль приказал, чтобы подаваемые ему кушанья отведывали теперь уже не на кухне, а у него на глазах, прямо за столом, и по большей части ест одни только овощи, в которых смертоносное действие Борджевой испанской мушки значительно слабей, чем в мясной пище, но в последнее время прошел слух, что его святость получил из Испании новый яд, под названием misericordia – милосердие, более высокого качества, чем яд испанского короля, носящий название requiescat in pace; 1 этот новый – без всякого вкуса, ты не знаешь, что тебе подмешали милосердие, и помрешь только через три недели, поэтому кардинал Рафаэль теперь постился, мертвенно-бледный, сидел на воде и овощах, но только не из благочестия, и поэтому нет ничего удивительного, что он все время такой злой и раздражительный… А этот флорентиец воображает, будто он – самая важная особа во дворце и у кардинала нет других забот, кроме как о его Купидоне!
1 Мир духу его (лат.).
И Франческо передавал сплетни из римских дворцов, думая об этом, и страшно путал, так что трудно было следить за смыслом, и патер Квидо от этого только раздражался все сильней. Он, не считая, бросил на стол, между черствым хлебом и миской с кашей, несколько монет и опять окинул взглядом безмолвного Микеланджело.
– То, что рассказывает Франческо, мне не так интересно, как то, что, может быть, известно тебе, флорентиец, – сказал он. – Ты не сообщишь мне какие-нибудь новости о твоем сумасшедшем городе? Говорят, Савонарола у вас там допускает к святому причастию даже детей… ну, сдается мне, монах этот – конченый человек. Его святость долго терпел, но теперь, когда вернулся любезнейший сын его, герцог Гандии, у него будет больше досуга, чтобы заняться наведением порядка кое в чем… в частности, в вопросе о Савонароле. Это правда, Буонарроти, что у вас, по желанию Савонаролы, в Санта-Мария-дель-Фьоре причащают и детей?
Микеланджело встал и промолвил:
– И в этом дворце смеют говорить о том, что делается в Санта-Мария-дель-Фьоре?
На лице патера Квидо появилась язвительная усмешка.
– Ты скор на ответ, но если б я повторил твои слова при кардинале, то не знаю…
Микеланджело пожал плечами.
– Мне неизвестно ничего нового насчет Флоренции.
– Жаль, – ответил патер Квидо. – Всюду новостей хоть отбавляй, мы в Святой апостольской канцелярии, можно сказать, завалены ими, только Флоренция молчит. Я уж устал от бесконечных переговоров с вашим обезумевшим городом! Да, обезумевшим, флорентиец!
Голос патера Квидо вдруг изменился, он перестал быть насмешливым и лукавым, приобрел важность, значительность.
– Обезумевший город, который мутит против нас даже тех, от кого мы этого никак не ожидали. Герцог Эрколе из Феррары! Как раз теперь, когда Феррара имеет для нас такое значение! С каких пор род д'Эсте стал на путь покаяния? О Ферраре никогда ничего не было слышно, кроме казней, прелюбодеяний, кровосмешения и пыток. Все это они у себя там устраивали, и мы жили спокойно. Но вдруг герцог остался недоволен, что святой отец послал ему золотую розу в знак добродетельной жизни. И он помешался на Савонароле! Каждый день со всем двором своим ходит к мессе, на проповедь, издал указ против кощунства, приказал закрыть публичные дома, Эрколе этот – пройдоха из пройдох! Замучил кое-кого из родных, спит с любой женщиной в Ферраре, с какой ему вздумается, а солдаты его отнимают их у мужей хоть на одну ночь, велел казнить сына, пришить его отрубленную голову к трупу и носить его в открытом гробу по городу, сам шел в погребальной процессии… но установил три постных дня в неделю, через день – процессии, запретил публичные дома, мало ему было золотой розы от его святости, так получил теперь благодарность и от Савонаролы, который посвятил ему книгу своих проповедей и в посвящении написал, что это – в честь великой герцоговой добродетели. Но и этот пройдоха спятил! Слушает теперь каждый день со всем двором своим проповеди какого-то ошалелого лазариста, который вещает ему о конце света и о папском звере… А в Сиене по улицам ходит аскет Филиппо и тоже проповедует о конце света, носит на палке череп и призывает к покаянию, обличает Рим… И все это поднял ваш безумный Савонарола, каждый спятивший монах желает теперь разыгрывать Савонаролу. Святому отцу надо навести здесь как можно скорей порядок, и он, конечно, это сделает! Недавно в Риме казнили пять еретиков, они выдвигали против его святости менее серьезные обвинения, чем безумец Савонарола, – так неужели ты думаешь, что не позволено им, позволено Савонароле?








