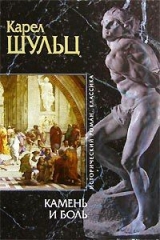
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 47 страниц)
Воздух дрожал от его ударов под Лоджиями-деи-Ланци, у стен Палаццо-Веккьо, дробился над волнами Арно, разбивался о Понте-Санта-Тринита – и вот опять поднялось гуденье, растянувшись от Прадо до Борго-Санти-Апостоли. Оно всюду, они застигнуты им, захвачены, оно бьет их, сбивает с ног, низвергает во тьму, а потом падает обратно, к стене дома, колеблет почву под их ногами. Звук – гремящий и льющийся, как расплавленный металл. Он вырывается из нутра земли, сотрясая камни, катится по улицам вдоль домов и не успеет отзвучать, как вот уже опять разверзлась земля и гремит снова и снова…
– Это львы ревут! – крикнул Франческо. – Львы Медичи! Звери проснулись в львином рву и ревут…
Тьма опять открыла пасть, и все вокруг загудело глухим ревом. Франческо оттянул дверной молоток у широких дверей. Им тотчас открыли, как тем, кого давно ждут. Тьма поглотила их. Они вошли. Сгинули.
А львы, геральдические звери Флоренции, медицейские львы, еще долго ревели в ночь, сидя в своих ямах.
ТЕРПКОЕ ВИНО
В низкой сводчатой комнате ждут молчаливые люди. Все уже сказано, и они ждут теперь тех, за кем последнее слово. На столе в серебряных кубках недопитое темное вино. Пламя свечей дрожит, выбегая из мрака, словно глаза расползающихся змей. В помещении полутемно. Все ждет. Ночь слилась с ожиданием так, что не разделить. Полночь. Недопитое вино и непроизнесенные слова.
На почетном месте за столом сидит Якопо Пацци, глава рода. Белые волосы его падают густой волной на широкие плечи. Он проявляет меньше всех нетерпенья. Он ждал этой минуты всю жизнь, может подождать еще несколько часов. Морщинистые старческие руки его спокойно сложены на столе, но это руки денег и меча. Он умеет соединять обе, как никто другой во Флоренции. Принадлежащие роду Пацци банки растят свою мощь под его строгим наблюдением, и меч его бдил все те годы, когда остальные уже потеряли надежду.
Он еще помнит время, когда старый Козимо Медичи, pater patriae 1, хотел скрутить ненависть обоих родов свадебным обрядом и торжественно возложил прекрасную внучку свою Бьянку, которая скорей под стать какому-нибудь князю, на ложе Гвильемо Пацци. Якопо тогда улыбнулся. Он улыбается и теперь тканям обоев, недопитому вину, теням горницы, по-змеиному мерцающим глазам свечек. С ним можно договориться только в минуты гнева. Когда улыбается – он страшен. Глаза его не знают ласковости, он слишком много видел и умеет смотреть прямо и твердо в корень человеческих судеб. Дело не в папе, дело не в церкви, дело – в Пацци. Во всех поколениях – Пацци дерутся с Медичи. И старый Козимо Медичи, pater patriae, уезжал в изгнание и, хоть вскоре вернулся, никогда не мог забыть о том, что когда-то был изгнан. Пацци никогда не отправлялись в изгнание, никогда не покидали твердыни, и скорей рухнут все ворота Флоренции, чем сквозь какие-либо из них сбежит хоть один Пацци. Старый Якопо – глава рода. Он молчит. Молчат и его белые волосы, и борода. Сидит, словно выточенный из мягкого камня, и меч его укрыт тенями. Старик знает, что решение о жизни и смерти можно иногда рассчитать, как количество золотых в банкирской мошне. Никогда никто еще не подсунул ему фальшивой монеты. Старые бледные губы его порой слегка шевелятся. Молится ли он, обсуждает ли сам с собой цену крови, трудно сказать. Это человек ночи. Дальше – Бандини. Его спокойствие холодно и презрительно. Это Бернардо Бандини да Барончелли, который и над Синьорией смеется, презрительно кривя губы. Все у него заранее обдумано, выверено, у него не бывает ничего непредвиденного, кроме женщин. Ничто не способно вывести его из этого величественного равновесия. Он никогда не ждал ничего такого, что способно его нарушить. А теперь вот вынужден ждать. Нескольких римских посланцев. Он смотрит на Рим сверху вниз, как истый флорентиец. Он никогда ничего не ждал. Большие жизненные события приходили всегда сами. Стоило только протянуть к ним руку. И часто он ее не протягивал – не из высокомерия, а от усталости. Так как родился он при счастливой конъюнкции Венеры с Сатурном, все шло ему навстречу само – девушки, роскошь, золото. Самые прекрасные женщины Флоренции, с устами, влажными и полуоткрытыми любовью, с руками, млеющими от страстного желания, и персями как плоды, приходят к нему; жизни, расцветающие и гибнущие, обращаются к нему, исчезают и появляются снова, предлагаются, требуя, чтоб он выразил их тишину, их ночи, а не свою тишину и свои ночи, требуя, чтоб он не препятствовал им быть такими, какими они хотят быть. Флорентийки, чтобы быть прекрасными, должны умирать молодыми. Красотка из красоток, самый прелестный и самый страстный цветок Флоренции, Симонетта дельи Альбицци не раз спала в его объятиях и умерла шестнадцатилетней, опаленная любовью, как цветущий луг молнией. Любовь не знает возраста. Тогда была осенняя пора коротких дней. Он имел все, чего когда-либо желал. В доме у него коллекции, славящиеся и при папском дворе. Его агенты покупают для него добытые раскопками статуи в самой Греции. Турецкие отделения его банка завалены золотом. Но часто все ему надоедает. И теперь все надоело. Он ждет. Заботливо осматривает свои красивые холеные руки, разглаживает завитую бороду и глядит на старого Пацци иронически прищуренными глазами. Очень может быть, что старик относится ко всему этому вполне серьезно. Словно все это не до такой степени безразлично – Флоренция, Рим, Медичи, Пацци, папа, всё… Насколько лучше было бы сидеть теперь дома и читать Сенеку, потягивать охлажденное вино, да не это банкирское, никуда не годное, терпкое, а настоящее, со знанием дела отобранное, хорошо приправленное и приготовленное, вино, подходящее именно для данного вечера, потому что, по его мнению, каждый вечер требует своего особенного вина, – потягивать, легонько гладить усталою рукою блестящую шерсть борзой и читать. Он невольно повторил последние строки читанного вчера драгоценного текста, так красиво выведенного мастером Андреа Марчелло на пергаменте: "То, чего ты жаждешь, есть великая, возвышенная, приближающаяся к богу безмятежность. Это невозмутимое состояние духа греки называют евтимией, я же – покоем!"
1 Отец отечества (лат.).
Бандини положил на стол свои гладкие холеные руки с ногтями, подпиленными на четверть, как требовала последняя мода у женщин, и снова скользнул холодным, немного насмешливым взглядом по молчаливому лицу старого Якопо. Старик, конечно, никогда не читал сочинения Сенеки "О покое душевном". Жаль! Может, стоило бы кое-что рассказать ему об этом?.. Теперь? Он улыбнулся и расчесал свою надушенную бороду. Неплохая шутка… Но почему я сижу здесь? Он пожал плечами. Это меня забавляло. Сначала Медичи, Сикст… он опять иронически улыбнулся. Но Флоренция? Глаза Бандини стали строгими, словно вдруг увидели какой-то текст, в смысл которого он не мог проникнуть. Сенека говорит: "И тот, у кого в битве отрублены руки, сумеет хоть призывом и ободрением споспешествовать своему народу. Подобно ему поступай и ты, и если судьба отстранит тебя от первого места в государстве, ты все же стой и помогай голосом, если же кто и горло тебе сдавит, опять-таки стой и помогай молчанием…"
Если же кто и горло тебе сдавит… Вдруг мороз подрал его по коже. Трепет тайного страха пробежал по нервам, у него потемнело в глазах, руки опустились. Он чуть-чуть побледнел. Но тут же опамятовался и, не умея объяснить себе причины, перестал об этом думать.
Третий ожидающий – Джакомо Пацци. Он старается держаться спокойно, но лицо изобличает его. И руки нервны, суетливы, тревожны. Он пьет вино короткими жадными глотками и, подливая, всякий раз стукает со звоном кувшином о бокал. Он самый младший среди них, почти одного возраста с Франческо, ожидаемым теперь из Рима. Смоляные черные кудри обрамляют лицо его, молодое, бледное, женственно прекрасное. Да, он прекрасен, и Франческо любит его, и Леонардо да Винчи, и мессер Боттичелли. Он прекрасен, но в глазах его горят странные огоньки, как в глазах отчаявшегося. Джакомо не верит ни в бога, ни в папу. Джакомо хотел бы верить – верить в бога и в папу. Джакомо не может верить, как не может верить его друг Пьер Паоло Босколи – платоник. Но Джакомо не может быть и платоником. Джакомо отчаянно старается верить и проводит целые ночи на коленях перед алтарем в Санта-Мария-Новелла, чтобы в другие ночи богохульствовать, богохульствовать страшно, неистово. Джакомо чувствует в сердце своем змеиные зубы, понемногу впивающиеся в него, – не сразу, а медленно, медленно, неторопливо и чем дальше, тем все медленней. Когда он слушает слово божие, зубы впиваются сильней, и сердце полнится клокочущим ядом. Джакомо просит бога смиловаться над ним и знает, что бог его не слышит. Порой ему кажется, что он существует в двух лицах, хотя и в одном образе. Тот, второй Джакомо делает всегда не то, что я, но и он тоже – я. Не раз испытывал он нежелание возвращаться домой, оттого что тот, второй Джакомо уже сидит там и ждет его. Что сказать ему и каков будет ответ? И даже если б тот, другой, вдруг расплылся, исчез, Джакомо никогда бы не поверил, что это была просто галлюцинация, – конечно, продолжал бы что-то говорить ему, и прошло бы немало времени, прежде чем он услышал бы свой собственный голос в пустой комнате, оторопелую речь ни к кому. Рассказываю о себе призракам, а их нет передо мной, это – опять я. Обращаюсь к себе, и никто мне не отвечает. Жду самого себя, как другого человека. Я ничего не знаю о себе. Жду большего, чем вы оба. Жду откровения, некоего чуда, чего-то, что изменило бы меня, мое "я"… Джакомо не верит в человеческое естество Христа…
Трое сидели за столом. Старик Якопо с каменным лицом, – опершись на меч; Бандини, для которого жизненные явления часто лишь повод к тому, чтобы скривить губы в иронической гримасе, – опершись на плащ своей скуки; Джакомо, который ждет большего, чем просто послов из Рима, – подперев голову рукой. Жизни, которые мы не сумели прожить, отходят от нас и либо угасают, либо летят куда-то, чтобы где-то там, в другом месте, осуществить свою участь и назначение. Как помешать этому раздвоению жизни? Джакомо не знает, что это можно сделать лишь простым и смиренным жестом, сложением рук, – с ладонями, прижатыми к груди, и пальцами, воздетыми к богу.
Трое сидели за столом, каждый со своей жизнью. Ждали молча. А ночь обвела их большим кругом, будто с помощью магического перстня.
Трое сидели за столом.
Четвертый висел над ними на кресте…
Это был древний крест рода Пацци. Тело Христово было здесь вздыблено в ужасающе правдивой, верно схваченной судороге умирания и покрыто большими разверстыми ранами, ссадинами и синяками. Судорожно сведенные, перебитые колени выпирали острым углом, разодранные диким волочением по земле. Тело было скорбное, таинственное, лихорадочное, истерзанное и до сих пор все кровоточило. Новая, светлая кровь, бьющая ключом из прободенного бока и смешанная с водой, заливала струпья и коричневатые пятна уже запекшейся крови. Это тело было сплошной свежей раной, мучительно обнаженной, и в некоторых местах под содранной кожей открытая мускулатура еще трепетала в невыразимых муках. Лицо успело посинеть, стало пепельно-серым; голову, наклоненную к плечу, с которого свисал лоскут кожи от большой глубокой ссадины, оставшейся после несения креста, непрестанно терзали длинные и острые, как сталь, шипы тернового венца. Шипы эти, оставшиеся целыми, торчали ввысь, не то раскаленные солнцем, не то красные от крови – трудно понять, но это были ощетиненные багряные прутья, туго сжимающие голову осужденного. Полуоткрытый рот, пересохший от неугасимого жара, жаждал еще мучений, сгорал по ним, – этот рот не говорил: "Довольно! Не надо!" Губы посинелые, полиловевшие, но узкие волны их по краям уже почернели от запекшейся крови. Истерзанное тело обвисло на гвоздях, клонясь. Глаза, не угасшие, а зрячие, были устремлены всегда в упор на смотрящего, полные мук от испытанных надругательств и ненависти, полные праха и полные последним взглядом Матери. Разодранные длани пронзены гвоздями, и судорожно, веерообразно растопыренные пальцы их врезают в тяжкий, свинцовый воздух таинственные, мистические знаки, письмена жизни. Терновый венец, страшное и царственное украшение оставленности, огромен, и ощетинившиеся, длинные, неустанно язвящие острия его, благодаря наклону головы к плечу, затеняли глаза. Каждый смотрящий в эти глаза видел их неподвижный взгляд лишь сквозь эту тень.
Jesus autem tacebat 1.
Христос там, на кресте, – молчал, так же как эти люди под ним.
Только быстрые удары молотка в дверь нарушили молчание. Удары были глухие, сдавленные, длинная галерея ответила гулким отзвуком. Трое ожидающих быстро, с облегчением поднялись. И вот вошли послы из Рима.
– Benedicite… 2 – попросил старый Якопо и стал на колени вместе с остальными.
1 Иисус же молчал (лат.).
2 Благословите (лат.).
Архиепископ Сальвиати сперва благословил, потом поднял старика. Начали с молитвы.
Нет, они не устали. Но Франческо ест быстро, жадно, обнажая белые волчьи зубы, кондотьер де Монтесекко потягивает длинными глотками. Франческо говорит и за едой. Слово "смерть" звучит легко, непринужденно, будто и не ночь вокруг. Архиепископ Сальвиати сидит спокойно, немного наклонившись, и пергаментное лицо его, озаренное свечами, еще больше пожелтело. Правой рукой он играет наперстным крестом, и при каждом движении и повороте его пальцев перстни мечут большие, тяжелые лучи всех цветов. Бандини де Барончелли глядит на перстни ослепленный. Это – сокровище редкой, невиданной красоты, римские драгоценности. Флорентийский архиепископ Антоний тоже умер с репутацией святости, но никогда не носил перстней. Э, да он всякий раз, выступая с церковной кафедры, гремел против роскоши мирян и духовенства, против азартных игр, парчи и перстней… Но против чего только не гремел архиепископ Антоний! Говорят, самые удачные шутки старого Козимо Медичи были как раз по поводу архиепископа Антония, но вот приехал человек с перстнями, и Медичи перестанут смеяться. Завтра же…
– Завтра же, – с удовлетворением произносит старый Якопо и воздает хвалу его святости.
Кондотьер де Монтесекко с удовольствием приподымает кубок, и оба старика пьют за долгое правление святого отца Сикста полными глотками. Но вино терпкое, никуда не годное, банкирское.
Джакомо молчит. Он не спускает с архиепископа долгого огненного взгляда. Этот человек притягивает его, этот человек к нему послан. Во всей Флоренции не найти такого человека, как этот священнослужитель из Пизы. Когда все будет кончено, я опущусь на колени у ног его и признаюсь во всем. "Anima mea sicut terra sine aqua tibi.." 1 Так сказано в Писании: да, без воды была душа моя, я иссох и горю.
1 Душа моя без тебя, как земля без воды (лат.).
– Мои люди готовы, – сказал Якопо. – Они будут расставлены по всей площади вдоль дворца Синьории. И как только я подам команду, ринутся на приступ.
– А остальные семьи? – вдруг спросил архиепископ. – Строцци? Ручеллаи? Саккети?
Пизанский священнослужитель хорошо осведомлен, и старый Якопо хмурится.
– Пойдут с нами, как только выступление будет подготовлено, и не станут вмешиваться, пока оно не подготовлено, ваше высокопреосвященство, – вдумчиво ответил он. – Они слишком хитры, чтобы мешать нам. В общем, это дело Пацци, а не ихнее.
– Это дело его святости, – спокойно произносит архиепископ Сальвиати. И Флоренции.
Якопо, тряхнув белой головой, прибавляет:
– Это верные сыны церкви.
– Верность требует доверия, – продолжает архиепископ. – К сожалению, я вижу, что их вовремя не уведомили. Может быть, их усердие окажется неуместным и приведет замыслы его святости скорей к неудаче, чем к торжеству.
– Никто не станет защищать Медичи!
– В Пизе слишком много говорят, – равнодушно продолжал архиепископ. Но много там и знают. Недавно ко мне пришел мой капеллан и говорит: "Монна Наннина, сестра Лоренцо Медичи, никогда не упускает случая напомнить мужу своему, Бернардо Ручеллаи, о верности роду Медичи".
Тут старый Якопо вспыхнул.
– Да узнай только они о нашем замысле, о нем тут же разнеслось бы по всему городу. У меня вооруженные, которые завтра выйдут на улицы и под окна дворца Синьории. Это понужней, чем если б все эти Саккетти, Ручеллаи и Строцци делили с нами победу. Нынче они будут нашими союзниками, а завтра…
– Что? – промолвил Сальвиати.
– …надо будет им платить.
– Разве банк Пацци – не самый богатый из всех флорентийских?
Пергаментное лицо старается наколдовать сладкую улыбку.
Якопо опускает глаза на рукоять своего меча.
– …и платить будет святой отец, не мы…
Бандини самодовольно улыбается. Нет, Пацци никогда ни с кем не будут делить победу. И, само собой, архиепископ не мог бы вернуться в Рим к его святости с каким-то новым счетом. Сикст Четвертый предпочитает собирать, а не раздавать. А счет получился бы изрядный… Сколько бы пришлось продать аббатских посохов, пребенд и индульгенций, для того чтобы оплатить его!
– Рафаэль Риарио, – торопится заметить Франческо, – приведет воинов мессера Джован Баттисты де Монтесекко, переодетых кардинальскими слугами. Вместе с нашими – этого довольно.
Тут заговорил кондотьер. Человек, закованный в железо, сказал:
– Я займу мосты и перекрестки внутри околотков. Захвачу сразу все улицы. В Риме я отобрал людей, опытных в уличных боях. Как только мне на пиру подадут знак…
Франческо Пацци громко, издевательски расхохотался. Так только молодежь смеется над стариками. Кондотьер сжал рукоять меча; он слишком изумлен, чтобы спрашивать, чем вызвано это осмеяние. Разве он сказал что-нибудь смешное? Никто никогда не мог застать его врасплох на поле боя; но теперь он застигнут врасплох смехом этого купца. Вот и архиепископ улыбается. Сальвиати придал морщинам своего пергаментного лица другое расположение и промолвил:
– Мессер Джован Баттиста, кто говорит о пире?
– Но Медичи устроят ведь пир в честь кардинала-племянника? – возразил де Монтесекко. – До сих пор я всегда убивал во время пира.
– На этот раз будет немножко иначе, – отрезал Франческо Пацци. – Вы понимаете, что мы не можем произвести нападение на Медичи, окруженных всей Синьорией и прислугой на пиру у них во дворце?
– От меня скрыли в Риме способ осуществления планов, – резко промолвил папский военачальник. – Чтобы по-настоящему выполнить приказы, мне надо теперь знать все.
Голос архиепископа тих и до такой степени бесстрастен, что, если б не доля сладости, подбавляемая к нему в виде тягучего призвука, он, из-за своей вялости, не был бы даже слышен. Он говорит словно о чем-то совсем другом, как будто вовсе даже не отвечая на вызов кондотьера:
– Наш дорогой кардинал Рафаэль, посланец папы, вероятно, не примет участия в пире. Хоть он еще юн, однако известен своими строгими нравами. Но завтра в полдень он будет в храме Санта-Мария-дель-Фьоре служить святую мессу, на которой мы все будем присутствовать. И не только мы. Я слышал, что Медичи, будучи страстными поклонниками языческой философии, тем не менее до сих пор ходят в церковь.
Тишина. Старый Якопо не понял, де Монтесекко тоже. Они – старики. Странно, что архиепископ замолчал. Только играет папским крестом – и молчит. Бандини, кажется, сообразил. У него слегка задрожали руки. Якопо сидит оцепенелый, не в силах оторвать взгляд от епископа. Этот человек мне послан. Только его я и ждал. Вот сейчас паду к его ногам и скажу: "Я иссох, всевышний от меня далеко, божеское естество его признаю, а человеческое не могу, не могу, хоть бы сердце себе раздробил, не могу, всякий раз в сердце моем клокочет яд, как только начну думать об этом, не верю, чтобы бог стал человеком, не верю в его воплощение, как христиане, не верю в перевоплощение, как платоники, – ни во что не верю…"
Тут кондотьер уразумел. Вскочил с места так порывисто, что наплечья панциря звякнули, стиснул зубы и стоял так мгновенье. Потом из сжатых губ его вырвалось:
– Убить… в церкви?
Архиепископ, прищурившись, устремил на него долгий насмешливый взгляд.
– Вы представляете себе иную возможность застигнуть Медичи? У вас есть другой способ выманить их из дворца, от их друзей и сторонников?
Монтесекко стоит с пепельно-серым лицом, жилистые шершавые руки его крошат ребро столешницы, и кажется, что рот ему свела какая-то судорога, он не может как следует его открыть, повторяет только:
– Убить во время мессы? Я никогда еще не убивал во время мессы…
– Вы подчинитесь… – холодно произнес архиепископ.
Тут губы кондотьера разомкнулись.
– Нет! – ответил он.
Архиепископ Сальвиати удивленно приподнял брови, и пергаментное лицо его дрогнуло.
– Вы отказываетесь, мессер Джован Баттиста де Монтесекко? У его святости есть и другие, более послушные кондотьеры. Полагаю, что Роберто Малатеста, который стоит теперь лагерем у Остии, повиновался бы с первого слова и охотно занял бы ваше место верховного командира папских войск.
Де Монтесекко растерянно касается жилистой рукой горла.
– Убить… во время мессы? – шепчет он. – Нет, это невозможно!.. Я этого не сделаю. Меня нанимали для убийства во время пира, я всегда убивал так, – а про мессу мне никто ничего не говорил.
Сальвиати сидит по-прежнему спокойно, пальцы его слегка шевелятся на золотом наперсном кресте, но лицо у него теперь злое, насмешливое, жестокое. Святой отец полагал, что посылает с нами самого опытного своего кондотьера, а послал дурака. Куда лучше был бы Роберто Малатеста, которого я напрасно предлагал его святости. Но святой отец слишком подозрителен, сразу подумал, что кондотьер из князей больше хлопочет о том, чтобы основать свое государство, чем о преданной службе в интересах святого престола, – и потому-то Малатеста напрасно теряет время у Остии. Вместо него, который охотно, с готовностью, беспрекословно выполнил бы все приказы, потому что никому из Малатеста никогда в голову не пришло бы раздумывать, sacrilegium 1 его поступок или нет, – при мне здесь – вот этот ни на что не нужный старик, который дрожит при мысли, что завтра придется обнажить меч не в пиршественном зале, а где-то в другом месте. Правильно советовал мне в Риме опытный апостольский секретарь Стефано Баньореа. Он сказал мне: "Возьми вместо мирянина двух духовных. Они к священным местам привыкли и не побоятся". Но пришлось взять воина. Какое несчастье! Как бы все дело не провалилось из-за глупости и упрямства этого старика… Сальвиати молчит. Франческо Пацци ударил кулаком по столу, так что вино хлынуло из опрокинутого кубка, будто кровь из раны.
1 Кощунство (лат.).
– Мессер Джован Баттиста! – язвительным голосом разрезал Франческо тишину. – Вы никогда не слышали ни о чем подобном? А где был убит Джован Мария Висконти? В храме Сан-Готтардо. А союзник наш, добрый герцог Галеаццо Мария Сфорца Миланский? В храме Сан-Стефано. Где была истреблена фабрианскими заговорщиками семья князей Кьявелли? В храме. А знаете, что для расставленных в церкви заговорщиков сигналом были слова: "Et incarnatus est…" – "И воплотившегося…" Где же хотите вы приблизиться к тирану, как не в том месте, где его меньше всего охраняют?
Архиепископ медленным, величественным движением руки остановил его речь.
– Милый сын, – примирительно, ласково промолвил он, обращаясь к кондотьеру. – Я привез индульгенции святого отца для всех участников завтрашней святой мессы и полное его благословенье всем, кто будет способствовать его замыслам.
Тут Джакомо Пацци вдруг упал на колени перед архиепископом. Он судорожно теребит край его одежды. Бледный. Руки воздеты жалобно, умоляюще. Нет, ему нельзя упустить этой минуты, время остановилось, ночь остановилась, вдруг закроются все пути, и останешься одинок, непередаваемо одинок. Не исчезнешь, ты – живой, это он, тот, другой Джакомо – чудовищный призрак, а ты здесь, стоишь на коленях у края пастырского одеянья и всю пустоту своей ущербной жизни сложил, как скверну, к его туфлям. Фабрианские заговорщики совершили убийство в церкви при словах символа веры: "Et incarnatus est…" – "И воплотившегося…"
Архиепископ поглядел на него долгим любопытным взглядом. На самом деле все Пацци такие экзальтированные?
– Ваше высокопреосвященство! – прошептал Джакомо. – Вы верите в человеческое естество Христа?
– Никогда не сомневался, милый сын, – серьезно ответил Сальвиати, никогда не сомневался в истинах нашей святой веры.
– А я не могу в это верить, – с горечью продолжал шепотом Джакомо. – В божественную природу Христа верю, а в человеческую не могу. Слишком мерзок мне человек, я гнушаюсь им, как самим собой, хочу верить во что-то, в чем нет человеческого, – да, в божественное естество Христа верую, твердо верую, а в человеческое – не могу…
– Написано… – сказал архиепископ Сальвиати, – написано: et incarnatus est de spirito sancto ex Maria Virgine et homo factus est… И воплотившегося от духа свята и Марии девы и вочеловечившаяся. И мы преклоняем колена при этих святых словах. С твоей стороны было бы большим заблуждением это отвергать. Языческие боги превращались в людей ради наслаждения. А наш спаситель воплотился затем, чтобы взять на себя боль и все горе человека. Мертвенной бледностью его мы излечены… ты знаешь этот текст.
Джакомо молчит. Архиепископ положил руки на его смоляно-черные женские мягкие волосы.
– Завтра, – говорит он, – завтра придешь ко мне, исповедуешься. Нет такого темного заблуждения, которого не рассеял бы свет веры святой. – Потом обратился к остальным: – Теперь пора отдохнуть. Не забудьте: во время завтрашней кардинальской мессы сигнал к нападению на Медичи – слова, возвещающие чтение Евангелия. Дьяконить будет каноник Антонио Маффеи. Как только он станет лицом к святой книге и возгласит: sequentia sancti Evangelii 1, так встанут благочестивые в храме, верные сыны церкви, исполнить замысел святого отца. Джулиано Медичи – на ответственности Франческо и Джакомо Пацци, Лоренцо Медичи – на моей и мессера Бандини. Вы, Якопо, будете со своими людьми на площади и, как только услышите шум в храме, поднимайте их на приступ дворца Синьории. Вы, Джован Баттиста де Монтесекко…
1 Святого Евангелия чтение (лат.).
Кондотьер, не выходивший из своего оцепенения, услышав, что его назвали по имени, очнулся. Жилистые руки его сжаты по-прежнему.
– Я отказываюсь от своего звания, – говорит он. – Я перейду на службу к Сиенским!
Холодный, насмешливый взгляд архиепископа пронзил его.
– Я отказываюсь принять в такое время ваш отказ от договора и повиновения. Приказываю вам от имени его святости, а вы повинуйтесь! Но чтоб не обременять вашей совести – не входите вовсе в храм. Останьтесь со своими людьми снаружи, на улицах. Займите мосты и захватите сразу все околотки, как вы говорили…
– Я перейду на службу к Сиенским, – повторил кондотьер.
Франческо Пацци встал и насмешливо ему поклонился.
– Вы удачно выбрали город и верный путь к святости, но в ином смысле, чем полагаете. Сиенские умеют вознаграждать своих кондотьеров. И вас постигнет участь великого кондотьера сиенского Никодема де Гомбо. Вы будете их святым! Они поступят с вами, как некогда римский сенат с Ромулом. Какой почет! Когда он освободил город от врагов, они стали ежедневно совещаться, как его отблагодарить, и пришли к заключению, что любая, самая высокая награда – недостаточна, даже сделай они его своим тираном. И решили: убьем его, а потом будем чтить, как покровителя города. Так и сделали. Таковы Сиенские, и такой будет ваша святость.
Началось молитвой, а кончили этой забавной историей, засмеялись и стали расходиться. Ушли. Слуги принялись гасить свечи. С каждым угасшим змеиным глазом тьма усиливалась. Потом убрали кубки и закрыли за собой дверь. И ночь сделалась как любая другая. В пустой горнице остался только крест. Губы были посинелые, полиловевшие, но узкие волны их по краям уже чернели спекшейся кровью. Терновый венец – страшное и царственное украшение оставленности огромен, и ощетинившиеся, длинные, неустанно язвящие острия его, благодаря наклону головы к плечу, затеняли глаза. Каждый смотрящий в эти глаза видел их неподвижный взгляд лишь сквозь эту тень.
Той же ночью кондотьер Джован Баттиста де Монтесекко, человек, не знающий места своего рождения, тайно выехал воротами Сан-Никколо, навсегда покидая город и службу папы!
Под звон колоколов
"…Тут и жизни животного достигает душа человеческая, и из животного тот, кто некогда был человеком, снова обращается в человека. Душа, никогда не видевшая истины, не примет человеческого образа. Ибо человек должен понимать истину на основании того, что называется идеей, которая, исходя из многих чувственных восприятий, слагается путем логического рассуждения в единое. А это единое есть воспоминание о том, что некогда наша душа видела, когда она с богом шествовала, сверху смотрела на то, что мы называем теперь существующим, и "ныряла" в действительное сущее. Отсюда справедливо, что одно только размышление человека, мудрость любящего, окрыляется: при помощи памяти он всегда пребывает, по возможности, при том, что, божеством будучи, является божественным.
Таковыми воспоминаниями правильно пользуясь, всегда совершая совершенные таинства, только такой муж совершенным по существу становится. Стоя вне человеческих стремлений…" 1
1 Платон. Федр, гл. 29.
Лоренцо Медичи движением руки остановил чтеца. Бронзовый рокот греческого языка в большом, просторном помещении сразу умолк. Анджело Полициано, преподаватель греческого и латинского красноречия, закрыл книгу, не дочитав предложения. В храме Санта-Мария-дель-Фьоре заблаговестили, и Джулиано Медичи, подвижной и стройный, в черной бархатной одежде, с золотой цепью на шее, набожно перекрестился.
– Пора идти, – сказал Лоренцо Медичи.
Зоркие, внимательные глаза его с любовью устремились на брата, но Джулиано продолжал сидеть.
– Пизанский архиепископ Сальвиати уже приехал нынче ночью, – сказал он.
– Что ж, – улыбнулся Лоренцо. – Есть архиепископы, которые ходят только ночными путями.
– Неужели у святого отца нет других послов и других провожатых для его кардиналов, кроме тех, что ходят ночными путями, вступают в города тайно, и рука их прославилась больше ломаньем печати на договорах, чем благословеньями?
Лоренцо равнодушно пожал плечами.
– Кто теперь способен разобраться в политике его святости? А у нас пока нет договора со святым отцом, так что пизанцу здесь нечего ломать.
– Сальвиати – разбойник и сюда явился как разбойник, – вспыхивает Джулиано, и стройные руки его крепко засунуты за золотой пояс. Он решительно не хочет вставать и идти туда, откуда благовест.








