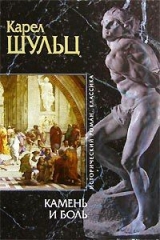
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 47 страниц)
Каноник Антонио Маффеи посвящен во все.
Золотая и тяжелая, лежит она здесь, как звезда, упавшая на мрамор. С которого круга небес? Стоял архангел направо от алтаря божьего с кадильницей в руке… Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua. Вот она лежит, холодная, чужая, и все благовония, которые она отдала когда-либо во славу божью, должны бы лежать с ней, досыта пропитать ее металл и слиться с дымом свежих благоуханных зерен, чтобы густое облако благовонного дыма восходило ровно, торжественно, а не ползло по земле, под край алтарной доски… Золотая, холодная, чужая. После каждения алтаря сам он встанет прямо, и дьякон, каноник Маффеи, окадит его, в облаках каждения будет стоять священнослужитель, который словом своим и несказанной мощью, какой и ангелам не дано, совершит настоящее чудо, пресуществит хлеб и вино в Тело и Кровь, будет держать в этих руках то самое тело Спасителя, которое, измученное и истерзанное, висело на кресте, которое скорбящая мать покоила на коленях своих, и в этих руках поднимет чашу, полную крови Спасителя, пролитой за вины и грехи наши… Но прежде чем совершится это, будет благовествуемо Евангелие.
В углу помещения шевелились безмолвные, беззвучные тени, и они тоже белые. Это воспитанники Теологического института, и между ними сияет золото ризы каноника Симони, иподьякона. Все готово! Кадильница и люди. А он все чего-то ждет. Тут каноник Маффеи повышает голос, так как ему ясно, что кардинал не понял. А новость очень важная. Антонио Маффеи недовольно поглядел на побледневшее юношеское лицо, и в пришепетывающем голосе его звучит нетерпенье. Видно, для торжества церкви следовало бы выбрать более опытного кардинала, цельного сердцем и духом, а не этого юнца с отсутствующим взглядом и скупыми на обещанья и приветы устами. Чтобы пробудить юношу, погруженного в размышления, он усиливает свое шипенье и сразу выкладывает новость, уже без восторга. Джулиано Медичи тоже пришел. Не оставил брата. Значит, в западне – оба.
Только услышав имена врагов, обратил кардинал Рафаэль Риарио лицо свое к говорящему, и не было заметно, чтоб это сообщение особенно его удивило. Каноника Маффеи, от которого не укрылось замешательство архиепископа Сальвиати, такая безучастность озаботила и явно огорчила. Разве молодой кардинал не обратил внимания, что сперва пришел один Лоренцо Медичи и что архиепископ Сальвиати долго со злобой кусал себе губы, не зная, что делать? Священнослужитель из Пизы, чья твердая рука до сих пор гнула все по желанию его святости, вдруг заколебался, хоть и был осенен архисвятительским благословением. Вышла осечка, дело оказалось не таким легким, как они предполагали. Кондотьер Джован Баттиста де Монтесекко, которому было вверено военное руководство, пренебрег вечным спасением и предал интересы святого отца и церкви, тайно покинув ночью службу папы. Старику Якопо де Пацци, кажется, дай бог управиться со своими людьми, а ему еще наскоро передали командование над папскими солдатами. Он расставил их, будто для битвы в поле, в то время как Монтесекко заботливо отобрал одних только опытных в уличных боях. Они не верят в него. Посмеиваются над ним, когда он проезжает между их рядов в своем старинном панцире. Отчего святой отец не захотел, чтоб я взял с собой Малатесту, который сидит без дела в Остии? Роберто Малатеста, сумевший обнажить кинжал против своего родного отца Сиджисмондо, никогда не отказался бы присутствовать на кардинальской мессе. Джован Баттиста де Монтесекко сбежал, старик Якопо явно для своей задачи не подходит, а Пацци слишком экзальтированны, им недостает расчета и осмотрительности, всегда столь потребных при осуществлении папских замыслов. Обнажить кинжалы… Это уже последнее слово в игре, это сумеет каждый наемный убийца за несколько золотых скуди. Гораздо важней всегда подготовка и вступление. А Джулиано Медичи не пришел! Тернист путь к кардинальской шапке, а Пизанская епархия – бедная. Нет денег на покупку кардинальского звания. Но если Папскому государству будет отдана в подчинение вся Италия, если будут уничтожены все Медичи, речь пойдет уже не только о кардинальской шапке. Что же, разве Родриго Борджа собирается и дальше занимать место кардинала-канцлера? Он? Испанец? В эту минуту уныния поддержал опять Франческо Пацци. Как этот юноша умеет ненавидеть! И как раз Джулиано он ненавидит больше, чем Лоренцо, да, Джулиано, – что-то такое поговаривают о прекрасной Примавере Ручеллаи, в Пизе узнаешь многое, и сколько уже раз чисто личное, человеческое побуждение сочеталось с великим делом божьим! Франческо не растерялся. Он потащил своего друга Джакомо Пацци, обнимая его, целуя и заклиная их взаимной любовью, в эту ризницу, хотя в Пизе говорят, что Пьер Паоло Босколи имеет на него больше влияния. Но тот послушался. И таким образом Джакомо Пацци, колеблемый во все стороны своим неверием, с сердцем, разорванным и терзаемым змеиными зубами заблуждения, не верящий в вочеловеченье Христа, был поспешно послан к Джулиано Медичи – с наказом привести его в храм. Отказавший брату уступил врагу. Лоренцовы настояния и любовь его ничего не могли сделать, а несколько нерешительных слов Джакомо-неверного достигли цели. Потому что Джулиано сказал:
– Если бы ко мне пришел кто-нибудь из твоих, которые были у ранней мессы, я бы не пошел. Усердные молитвы их мне подозрительны. И как они молились! Но раз пришел ты, неверующий и не присутствовавший на мессе, у меня есть порука и я пойду.
Он пришел. В западне – оба.
Каноник Маффеи толстой рукой довольно погладил свою щеку. Молодой кардинал, видно, ничего не знает. Голос каноника больше не шипит, он теперь вкрадчиво-сладок и назойлив.
– Не надо бы забывать о Джакомо Пацци; это несчастный, соблазненный юноша, но мудрое пастырское слово, наверно, может избавить его от терзаний. Он ведь неплохой и в глубине бедной души своей взыскует правды божьей. Будем помнить о Джакомо Пацци!
Кардинал молчит. А каноник Маффеи продолжает:
– Одно слово истины спасло бы его, а главное – пример веры. – Тут ему показалось, что он сказал лишнее, и он поспешно прибавляет: – Я имею в виду пример святых. Возьму его сам под свою опеку. С ним нужно обращаться, как с тяжелобольным. Это человек, измученный своим неверием. Он ждет, ждет, я знаю. Какого-нибудь чуда, чего-нибудь такого, что просветило и изменило бы его. Он знает, что должен во что-то верить. Он хотел бы верить в бога. Будем помнить о Джакомо Пацци!
Кардинал все молчит, и руки его сжаты. Стоит с закрытыми глазами, и губы его слегка шевелятся. Может быть, он читает молитву перед мессой?
Вдруг звонко зазвонил колокольчик ризницы, двери которой были теперь открыты настежь. Загудел, как потоп многих вод, орган, и народ воспрянул. В торжественной процессии, движущейся стройными рядами, подходит Рафаэль Риарио к полному огней алтарю. Он идет, склонив голову, важно, исполненный величия, чувствуя на себе жаркое дыхание переполненного храма, напряженное ожидание, тысячи вперенных в него взглядов, души, готовые раскрыться, словно чаши, по его пастырскому мановению, идет, внимает и отвергает, шаг его особенно тверд там, где преклонили колена Медичи и вокруг них – одни одеяния философов, потом праздничные одежды Пацци; орган гудит – ах, слишком сильно гудит, – голос его, разбившись о свод и стены, возвращается обратно, в бесконечном величии звучит древнее песнопенье; мужчины, женщины, быть может, тысячи – все крестятся; цветы благоухают томительно-сладко, и огни, огни, и столько золота, – триумфальное шествие, крестный ход, всюду люди, люди, битком набились в храм, лепятся вдоль стен; сколько среди них, наверно, моих солдат, вот падают новые блики огней, это от золота алтаря; еще несколько шагов, столько, столько сложенных рук, и уже вновь поднялась буря органа, и народ онемел. "In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti" 1. Какое облегчение! Как написано в служебнике? Едва только эти слова произнесены, ничто больше не должно отвлекать твое внимание, ибо ты служишь и приносишь жертву, – ни взгляда по сторонам, ничего, ничего, кроме совершения святой литургии.
1 Во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).
"Introibo ad altare Dei…" "Подойду к жертвеннику божию…"
Рядом шелестит голос каноника Маффеи. Глухо, словно из великой дали, слышится шорох толпы. Рафаэль Риарио произносит:
"Judica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me…" "Суди меня, боже, вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня…"
Свод храма остался безответным. Он почернел от столетий. Разливаются по нему потоки тонов органа и падают на теснящийся люд, ожидающий разрешения спора и освобождения от человека, лукавого и несправедливого. Утешенье мое, господи, заслони меня от страшного напора злых сил, – даже если врата адовы разверзнутся, врата храма пребудут крепки. Мне еще нет двадцати, а на меня уж возложено такое бремя. Я – соль земли. "Quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me…" "Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?" Этот вопрос страшен и полон сверхъестественной тайны, и я слышу в нем плач всей пытки своей, муки, при которой я хрипел бы от ужаса, – вопрос болезненнейший, с помощью которого я стараюсь не забыть, что когда-нибудь исполнятся сроки, и мне совершенно одному, совсем одному придется сосчитать все свои минуты малодушия, мученья и тоски. Словно грош медный, брошенный в расплавленное золото, стою я у ступеней алтаря твоего, господи…
– Уповай на бога, ибо я буду славить его, – равнодушно шелестит жирный голос каноника Маффеи, произнося предписанный ответ.
Это так ужасно, что кардинал задрожал. Он знает, что должен уповать на бога. Но знает также, как, по его приказанию, каноник Маффеи будет прославлять бога… Потом Риарио взошел по ступеням, и золото его ризы заиграло отблесками огней… И вот он, поцеловав алтарь, молится об отпущении грехов ради заслуг тех святых, чьи останки сложены в этом камне. Кто покровитель Флоренции? Святой Иоанн Креститель, давший свидетельство о Свете. Кто покровители рода Медичи? Святые мученики Козьма и Дамиан.
В это мгновенье была принесена кадильница. Тяжелая, золотая, холодная, чуждая. Поднимается густое, слабо благоухающее облако дыма. Кардинал Риарио кадит алтарь. "Introit". "Kyrie" 1. Орация. Он сам страшится своего спокойствия. Так ему было сказано в Риме: во славу церкви. Уничтожение медицейского гибеллинства. Мгновенье близится стремительно, неудержимо. Молятся ли Медичи? Впрочем, можно ли пожелать им более прекрасной и достойной смерти? И все же у него дрожат руки. Тщетны усилия эту дрожь подавить: он читает священные тексты и дрожит. Но лицо его стало суровым, окаменело. Губы шевелятся медленно, произносят все важно, торжественно. Нет, не думать, не думать ни о чем, кроме обряда, так предписывает служебник. Вот иподьякон Симон читает текст из книги пророка Даниила, так как теперь пост.
1 "Introit" – входная молитва (лат.). "Kyrie" – "Господи, помилуй" (греч.).
"И ныне услыши, боже наш, молитву раба твоего и моление его и воззри светлым твоим оком на опустошенное святилище твое…"
Да, так молился святой пророк в посте, и вретище, и пепле, в пору унижения народа своего под властью Дария, царя из рода Мидийского. Отзвучал голос Симонов – глубокий, удивительный голос. И каноник Маффеи уже дочитал молитву перед чтением Евангелия и стоит на коленях со святой книгою в руке, просит:
– Благослови, владыка…
В это мгновенье кардинал Риарио побледнел. Побледнел так, что сам почувствовал свою бледность, как морозную пыль на лице. Ледяная рука вдруг погладила это лицо и согнала румянец со щек. Он знает, что надо благословить и произнести нужные слова, но горло сжалось от странного давления, и самый язык стал куском льда, коснеющий, застывший. Он чувствует на себе удивленный взгляд каноника, хочет поднять руку – и не может, рука его вдруг омертвела, мороз, холод, лед, – наверно, и рука теперь оказалась бы такой же бледной, как его лицо, если б поднять ее так, как подымается и опять опускается рука мертвеца. Это не его рука, а чья-то еще, какого-то постороннего, бледность разливается теперь, наверно, по всему его телу, но он не дрожит, он окаменел, застыл. В то же время он остро чувствует все вокруг – склонившуюся толпу, огни и золото, дым кадильницы, знает, что сейчас ему надо сказать дьякону, приготовившемуся читать Евангелие: "Dominus sit in corde tuo…" "Господь да будет в сердце твоем и на устах твоих для достойного и надлежащего благовествования…" Знает, что надо произнести это, и не может, губы сведены не судорогой, а морозом, губы холодны и мертвенны, губы бледны и бескровны, едкая усмешка каноника Маффеи, который, видимо, догадывается, что ему страшно, – но это не страх, не ужас, это больше, это мороз, холод и лед. Отчего такая глубокая тишина во всем храме, отчего все эти люди молчат, как это может быть, чтобы столько сотен людей, собравшись вместе, были так напряженно, так ужасающе тихи, ледяная рука все время сгоняет румянец с моего лица, острым когтем прорвала мне жилы, и они полые, пустые, нет во мне крови…
Каноник встал, не дождавшись благословения. Он уже идет читать Евангелие, тяжело дыша после только что произведенного усилия, вызванного тщетным коленопреклоненьем. Кардинал должен обратиться к читающему. Прислонившись боком к алтарю, он старается сделать это. И взгляд его падает на дарохранительницу. Золото ее не человеческой отлито рукой, оно сияет так солнечно, что ослепило его. А в нем – холод, ужасающий, темный холод. Бледность навсегда.
"Sequentia sancti Evangelii" 1, – внятно прошипел голос каноника Маффеи.
1 Святого Евангелия чтение (лат.).
Первыми закричали женщины.
Их резкий, пронзительный крик взвился к высокому своду, разбился там с налету и снова упал вниз. Ему ответило глухое гудение мечущихся мужских голосов, и потом все разразилось неистовым гамом. Ибо Франческо Пацци, волчьим движением кинувшись на Джулиано Медичи, одной рукой схватил его за горло, а другой стал колоть обнаженным кинжалом – быстро, молниеносно, меж тем как Бандини сбил с ног Лоренцо, руки которого были зажаты, как в тиски, руками Сальвиати. И, заранее приготовившись, люди обнажили мечи в храме и открыли свои папские отличия, бросаясь ближе к пресбитерию и рубя направо и налево. Ударили в набат, и дикий рев наполнил храм. Люди, выпрямившиеся было для молитвы, глядят безумными глазами. Все слилось в сплошной бесформенный хаос, вздувающийся и мечущийся на стены, словно стремясь разрушить храм, чтобы камни обрушились на победителей и побежденных. Франческо Пацци, сплетясь руками и ногами с Джулиано, колет так осатанело, что попадает и в себя, на напряженном бедре его уже две кровоточащих раны, но он не чувствует боли. Лоренцо, движением плеч стряхнув нападающих, кинулся на помощь брату. Но Сальвиати дернул его назад, и не раз уже коснулся бы его кинжал Бандини, если бы друзья Лоренцо, философы, не втиснулись между ними обоими. Подхватив Лоренцо, они тащат его в безопасное место, за дверь ризницы. В храме стоит рев – это рев крови. Уже несколько человек с папскими знаками затоптано ногами остальных. Духовенство у алтаря обступило Риарио, бледного – бледного навсегда. Каноник Симон судорожно вцепился в Маффеи.
– Месса… месса… – шепчет он, выпучив глаза.
Маффеи старается внешне сохранять хладнокровие.
– Si, sacerdote celebrante, violetur Missa ante canonem, dimittatur Missa 1, – отвечает он, тревожно глядя на беснующуюся толпу.
1 Если во время мессы ход ее будет нарушен, она должна быть прекращена (лат.).
Нет, это надо было устроить лучше… Святой отец должен был послать другого человека, а не этого кардинала… Единственный настоящий человек здесь – Сальвиати.
Священнослужитель из Пизы, подняв руку в перстнях, указывает пальцем вслед убегающему Лоренцо. Желтое, пергаментное лицо его страшно. На нем гибель. На нем смерть. На нем – отчаянье. Злобный взгляд полон ужаса. Он видит головы папских воинов в клокочущих волнах толпы. Народ душит воинов, рвет их на части, разбивает о камень колонн, о грани дубовых скамей, об углы алтаря. Пущены в ход, как оружие, тяжелые подсвечники, они будто молнии сверкают в разъяренных руках. Франческо Пацци, весь измазан кровью, подымается от трупа Джулиано. Но напрасно. С треском захлопывается за Лоренцо тяжелая дверь ризницы. Он скрылся. А Сальвиати и Франческо вырвались из храма и увидели на площади новую картину опустошения. Ибо старик Якопо, вздымаясь высоко в седле, обнажив меч, тщетно побуждает народ к нападению. Видимо, его собственные люди ценят жизнь выше жалованья наемников. Конь обезумел под градом камней и падает. Старик поднялся, но меч его сломан. Он изумленно оглядывается, словно не понимая. У Санта-Кроче бьются исступленно, свирепо. Папские бойцы пускают в ход все свое военное искусство, но народ ломит и ломит, – и вот уже ему удалось вгрызться в эти ряды и поколебать их. По Понте-Санта-Тринита валит ощетинившаяся оружием толпа флорентийских красильщиков, они орут славу Медичи, сметая заслоны врага, не получающего команды. Со стороны Понте-Веккьо спешит цех сукновалов – тяжкие палицы их гремят, цех мясников, блестя топорами, добивающими раненых, цех суконщиков, золотарные и канатчиковые подмастерья, с ножами и кинжалами наголо. Вся Флоренция поднялась в крови, под звон набата. Оружие – кинжалы, мечи, камни, дреколья. С Олтрарно мчатся песковозы, любители самых диких побоищ, и панцири папских воинов трещат под тяжкими ударами молотов и острых заступов. Лучше уж сорвать со своей куртки римский знак да выбрать в сплетенье улиц и улочек, которая потемней, чтоб переждать там бурю и ярость.
Но на площади Делла-Синьория, – выстроенные до сих пор крепким квадратом, папские лигурийцы, отважнейший отряд телохранителей, готовых к бою один на один. Стоят недвижно, так как до сих пор не получили приказа, стоят посреди убийства и, стиснув зубы, твердо глядят на оружие, сжатое в напряженных руках. К ним кидается Сальвиати. Последняя отчаянная попытка. Безумная попытка. Ведь кардинал Рафаэль Риарио, самый милый сердцу его святости, уже брошен в темницу, с лицом мертвенно-бледным и без богослужебного одеянья, которое с него сорвали, не читая никаких молитв.
Последняя отчаянная попытка. Потому что старик Якопо, глава рода, уже схвачен в воротах Сан-Никколо, в момент бегства, – первый Пацци, решивший скрыться из города. Ему связали руки веревками и отвели в тюрьму, где он теперь ждет палача… Архиепископ Сальвиати становится во главе лигурийского квадрата. Этот священнослужитель умеет говорить по-военному. Несколько команд, и ряды лигурийцев двинулись. Черные шлемы, залитые солнцем. Новая команда и мановенье руки в перстнях. И лигурийцы ринулись в атаку на дворец Синьории. Сальвиати впереди. Величайшая резня поднялась на лестнице. Ибо дворцовая стража и синьоры, не имевшие права покидать здание во время исполнения своих служебных обязанностей, теперь спускаются со ступени на ступень – вниз, и острия их мечей ловко протискиваются между лигурийскими копьями, которые редеют и с треском падают наземь. Но папские воины, протянув копья задних рядов через плечи и под мышками передних, наступают короткими волнами, и защитники Синьории валятся с пронзенными горлами. Лигурийцы – уже на последнем повороте лестницы. Сальвиати впереди. Тут навстречу им снова хлынула толпа дворцовой стражи, и тяжелые дубовые скамьи, писарские налои, чеканные металлические столики синьоров обрушились с глухим грохотом на головы наступающих. Они заколебались. Ухватившись в последнем напряжении за деревянные перила, с телом, словно переломленным пополам, знаменосец выпустил из рук папскую хоругвь и сквозь ощеренные зубы, вместе с проклятьем, испустил свой последний вздох. Растут груды тел. Идет тяжкий бой копьем и кинжалом на лестничных площадках, под градом дубовых бревен. Но никто не сдается.
Подобно ящеру, ощетинившему свои острые чешуи, ползет поток черных шлемов, боец за бойцом, прижимаясь к перилам, твердо, с упорной яростью. Нога архиепископа скользит в крови, которой – изобилье. Руки его тоже окровавлены, и с них уже сорвано несколько перстней. Голос его сух и непреклонен. Он скомандовал, и боец, скорчившись у громады сваленных налоев и скамей, вынул огниво. Потому что из налоев вывалилось множество писарских свечей хорошего воска и с сухими фитилями. Боец, выполняя приказ, зажигает теперь их связки и кладет под высушенные, выпаленные зноем деревяшки. Взмахом копья лигуриец перешиб меч, лезвие которого безвредно скользнуло по голове поджигателя. Потом еще один шквал, под которым затрещала и словно оползла лестница. Створы дворцовых ворот, высаженных из дверей, рухнули, дальнейшее сопротивление стало бесполезным. В проеме, с окровавленным мечом, полный беспощадности, встал во весь рост среди своих вооруженных людей Лоренцо Медичи и ринулся на отступающих.
Бросая своих, Сальвиати пробился сквозь ряды бойцов, и, хотя несколько рук старалось схватить его за горло, он увернулся и был схвачен уже на углу, узнанный людьми, как раз волочившими Франческо. И так как палач был в это время занят в тюрьме, где доживал свои последние мгновенья старый Якопо да Пацци, криком решено было воспользоваться в качестве эшафота окнами дворца Синьории. Обоих схваченных привели туда вместе, так же как они приехали ночью из Рима, и рука смерти легла на их лица. Франческо шел с трудом, исколотый своею собственной рукой и почти что голый, так как долго сопротивлялся и лоскутья одежды остались в руках у тех, кто тащил его по улицам. Он шел, шел, только тихо стонал и поглядывал помутнелым взглядом на Пизанского священнослужителя, который его поддерживал и желтое пергаментное лицо которого застыло в отчаянье и безнадежности. На лестнице им пришлось много раз перешагивать через мертвые тела, причем убитые лежали в большинстве случаев навзничь. Шедшим на смерть невозможно было не видеть их лиц. Так прошли перед их взором самые разнообразные способы умирания. Но им был сужден только один.
Окна флорентийской Синьории.
Удивительный путь к кардинальской мантии, удивительная награда за службу его святости, удивительная плата за кардинальскую шапку! Родриго Борджа, испанец, наверно, сохранит и в дальнейшем свое звание кардинала-канцлера церкви. Вздох Франческо, у которого опять вытекла кровь изо рта, прозвучал у самой груди Сальвиати, потому что зашатался жестоко изранивший себя своим же оружием, и раны его с каждым шагом болели все сильней. И вот они оба стоят уже перед поспешно раскрытыми окнами, и множество рук держит их колени. Тогда Сальвиати последний раз выпрямился во весь рост. Выпрямился, как прошлой ночью – на стременах своего белого коня, когда впервые увидел Флоренцию в лунном свете. Выпрямился в полном сознании силы своего сана, и нахмуренное гордое лицо его вдруг вспыхнуло. И, обращаясь к тому, кто хрипел у него на груди, он произнес голосом твердым, величавым:
– Каешься ли в грехах своих, совершенных в ведении и неведении, во всем, чем обидел господа нашего, чем в жизни своей прегрешил перед богом?
Франческо, с полным крови ртом, не имея возможности говорить, покорно кивнул головой и сделал попытку поднять сломанную руку ко лбу, груди и плечам. Тогда Сальвиати, снова возвысив голос, торжественно осенил его крестным знамением, со словами:
– Ego, facilitate mihi ab Apostolica Sede tributa, indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concedo! Ergo, ego te absolvo… in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen!.. 1
1 Я, властию мне престолом апостольским данною, полное прощение и отпущение всех грехов твоих тебе дарую! Итак, разрешаю тебя… во имя отца, и сына, и святого духа, аминь!.. (лат.)
Стоявшие с уже приготовленными веревками опустились на колени, присоединив свои голоса к общей молитве. А кончив молитву, опять схватили обоих… Окна флорентийской Синьории…
Город затих не сразу. Тело Джулиано перенесли в другую церковь. А плач Лоренцо по брату тяжело отразился на утехах философов. Анджело Полициано так и не окончил свою поэму о турнире Венерина сына Амора с холодным Джулиано. Эрос, по словам божественного Платона, – один из четырех видов неистовства. А в конце всего – последнее слово: тайна…
Архиепископ Пизанский висел на окне флорентийской Синьории, и под веяньем ветра тело его все время прикасалось к телу верного Франческо, и рука его, повернутая ладонью наружу от бедра, – к руке верного Франческо. Всему конец, говорили широко раскрытые глаза. Всему конец был уже в тот день, когда мы выехали из Рима, был конец уже в ту ночь, когда лунный свет слетел с туч, – внезапно, как белый меч, рассек тьму, и мы увидели Флоренцию, полную ночной весны. Был уже давно конец всему, говорят глаза его, только теперь видящие дальше папских замыслов.
Всему конец. Старик Якопо, глава рода, лежал охладелый в подвале, и палач, совершив над ним свою обязанность, отправился не спеша на площадь, где народ ждал казни Джакомо да Пацци. Но зрелище получилось отвратительное, народ разбежался, и благородные члены Синьории тоже покинули огороженное для них место, потому что, как только палач начал Джакомо душить, этот безбожник стал призывать дьявола. Не ради своего освобождения из рук палача, не для того, чтобы сохранить жизнь, – он звал его в упоении, словно взывая к могучей силе, только что им обнаруженной… Словно призывал откровение и чудо, в конце концов все-таки ему явленное, – так звал он дьявола в смертный час свой, как другие призывают бога, звал его радостно и благодарно, в восторге изрыгая проклятия столь страшные, что палач искусным движением быстро сдавил ему горло, которое Джакомо с готовностью подставил, ибо должен был во что-то верить и, не умея поверить в человеческое естество Христа, уверовал в силу ненавидящую, уверовал в дьявола.
Не мог уж Сальвиати исполнить обещанье свое рассеять его заблужденье светом истины веры святой, и не мог он также известить его святость, как выглядят теперь окна флорентийской Синьории. Потому что язык его уже почернел, распух и был весь покрыт мухами.
СМЕРТЬ ШАГАЕТ ПОД ДОЖДЕМ
Только Бандини бежал. Погоняемый страхом, пробрался он, пользуясь общей сумятицей, за ворота и бежал, бросив свои коллекции, прекрасный дом и прекрасных женщин, своих борзых, золото и своего Сенеку, чья книга "De tranquillitate animae" 1 осталась лежать недочитанной на шитом шелковом плате, покрывающем налой. Так он читал ее, одетый в изысканную одежду, гладя холеной рукой свою надушенную бороду и усы, еще в тот вечер, перед тем как пойти на роковое совещание с Пацци, и вдруг похолодел от какого-то зловещего предчувствия, которое тогда уже сидело с ним за совещательным столом, попивало их терпкое вино, неважное банкирское вино, и он не сумел тогда объяснить себе этот порыв страха и не думал больше о нем. "Если же кто тебе и горло сдавит…" Значит, нужно все-таки верить предчувствиям и приметам, как учил старый маэстро Паньоло, а он на это всегда лишь снисходительно улыбался.
1 "О покое душевном" (лат.).
Бандини бежал, оставляя за собой трупы загнанных коней, бежал и остановился только в Венеции. Но там вспомнил о турецких отделениях своего банка, полных золота, и поплыл.
Константинополь. Но после первого же известия о нем, полученного от францисканских монахов, тщательно переписывавших всех христиан на каждом корабле, Флорентийская республика обратилась к султану Магомету с просьбой выдать беглеца. А султан, погубитель Византии, относился с отвращением ко всякой измене и особенно ненавидел всегда готовую к бегству трусость. Кроме того, было бы неумно вызывать гнев Флоренции, врага того самого папы, на которого он собирался идти войной, рассчитывая, что, как ему удалось навсегда сокрушить Византийскую империю, так сумеет он сокрушить и уничтожить и силу папы. С какой стати из-за неверной собаки, сбежавшей после измены, вводить в гнев того, кто может понадобиться? Магомет как раз отправлял послов в Римини, Милан и Венецию, – он знал для чего. Неплохо было бы сделать приятное и Флоренции. И вот Бандини де Барончелли был ночью схвачен, связан и под сильной охраной отвезен в трюме турецкого корабля обратно, к итальянским берегам.
Между тем Флоренция страдала от страшных ливней. Дождь шел не переставая, все хляби небесные разверзлись, и поток вод пролился на измокшую землю. Вязкая глина поползла по гниющим, зловонным каналам за городом, и берега Арно были размыты полыми водами, затопившими оставшийся без благословенья урожай. Вода, словно хищный зверь с блестящим и непрестанно раздувающимся брюхом, пожирала все, встречавшееся на ее извилистом пути. Тела утопленников разбухали перед городскими воротами. И глаза их, устремленные в себя, напоминали глаза снулых рыб. Вода стала бичом, и распахнутые небеса изливали все новые и новые потоки. Небосклон обложной, земля без плотин, все убегает в бесконечность. Люди ходили, шатаясь, мучимые теперь еще и голодом, а вода, хоть и не имела тяжести, была претяжелая, сгибала плечи, ломала их. Она падала четырнадцать дней и четырнадцать ночей, жабам – и то много, они попрятались под стены домов, в изножья кроватей любовников, в патрицианские сени. Солнце растаяло в седых туманах – его нет. Тучи, тяжелые и всегда налитые, спускаются все ниже и ниже к земле, размытой и воняющей рыбой. По временам небо кажется желтым и снова зеленеющим по окоему. Эх, кабы пришли былые страшные грозы, разогнали бы эти тяжкие тучи гнева! Но напрасны процессии с обвисающими хоругвями, погашенными свечами и размокшим пеньем молитв, падающих обратно в топь земную.
Хуже всех пришлось крестьянам в округе Перкусины. Они пришли, залепленные грязью, притащили с собой жен и детей, громко горюя о затопленных посевах свеклы, хлеба и клевера, об утонувшем скоте, о разрушенных хижинах. Изнуренные, отощавшие фигуры наполнили площадь. Лица их были размякшие, бесформенные, цвета заплесневелого млечного сока. Но кулаки их подымались твердо, и было страшно, как бы эти толпы не восстали против Синьории, а то и против бога.
И тут каноник Антонио Маффеи вспомнил о Джакомо Пацци. Разве не говорил он уже тогда, в ризнице, кардиналу Риарио, что не забудет о Джакомо? Вот и вспомнил, только иначе. Ведь этот непрерывный ливень, может быть, просто месть мертвого, в упоении изрыгавшего проклятия и призывавшего дьявола, когда его душили на эшафоте. Теперь месть мертвого ничем не сдержишь. В старых книгах написано, что такую месть можно укротить только теми средствами, к которым прибегает она сама. Каноник Маффеи много знал. Ясно доказав свою невиновность и глубокое возмущение тем, что его святым служением во время кардинальской мессы так злоупотребили, он стал важной особой, и советов его искали уж не одни только кумушки и богомолки. Много народу, с отчаянием подымая глаза к свинцовому небу, раздумывало о том, что он недавно сказал. В Пьяченце один ростовщик, видя, что настал его смертный час и приходится расставаться со своим золотом, страшно поносил бога и призывал дьявола. После смерти полил дождь, почти вот такой же, как этот. Говорили, что дождь не перестанет до тех пор, пока тело ростовщика не будет вырыто из освященной земли Сан-Франческо и брошено водам. Хотя архиепископ резко против этого возражал, нашлись смельчаки, которые выкопали ростовщика ночью, протащили его по улицам и отдали должникам, чтоб те осквернили его самым мерзким способом. Затем труп был выставлен под дождь и только после этого то, что от него осталось, прогнившее под действием воды, было брошено в По. И на другой день ливень прекратился. Крестьяне уныло пошли к своим женам, частью ютящимся по краям площади, частью разместившимся в церковных помещениях. Не надо вечно насчет всего спрашиваться у архиепископа.








