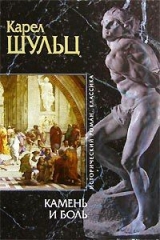
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
– Архиепископ из Пизы жаждет кардинальской шапки, – говорит Лоренцо. Но Пиза – бедное архиепископство. У них там нет денег на покупку пурпура. Так он хочет выслужиться иначе. Он всегда отличался излишним рвением. Нетерпеливый обычно терпит неудачу. Вообще я не боюсь архиепископов, которые ходят ночью. И тем подозрительней отношусь к кардиналам, которые появляются днем.
– Наши львы, – возразил Джулиано, – наши львы ревели почти всю ночь.
Лоренцо удивленно поднял голову и нахмурился.
– Это уже серьезней… – тихо промолвил он.
– Ландини до сих пор не идет за нами, – продолжал Джулиано.
– Что ж, – опять уже улыбнулся Лоренцо. – Гонфалоньер республики, видимо, задержался на встрече кардинала-племянника.
– Рафаэль Риарио приехал с необычно многочисленной свитой, и многие из наших, бывавшие в Риме, узнали среди его спутников переодетых папских солдат.
Лоренцо, по-прежнему с улыбкой, кладет обе руки на стройные, до сих пор еще почти мальчишеские Джулиановы плечи.
– Джулиано, – спокойно произносит он, – я знаю, что ты бесстрашен. Но и опасения твои неосновательны. Никто здесь не решится сделать что-нибудь против нас. Для этого выбрали бы другое время. Никогда Флоренция не была нам более верна, чем теперь.
Джулиано молчит.
– Уже три дня тому назад, – продолжает Лоренцо, – я получил текст договора, который предлагает нам кардинал Риарио от имени святого отца. Он очень выгодный.
– Timeo Danaos et don ferentes, – отозвался сухой голос Полициано. Боюсь я данайцев, даже дары приносящих.
Плыл колокольный звон. Металлический голос, не только ломающий молнии и отгоняющий бури, но и оплакивающий мертвых. Сейчас он сзывает. Улицы, конечно, уже полны народа, спешащего в храм, словно нынче праздник. Редко принимает Флоренция в своих стенах кардиналов. Прошло время, когда флорентийская роза притягивала своим благоуханием и на улицах стояли триумфальные арки с надписями, гордыми до кощунства. Не то что какой-то кардинал-племянник, а сам папа Пий Второй, к тому же сиенец, приехал когда-то, в сопровождении десяти кардиналов и шестидесяти епископов, полюбоваться флорентийской весной, и гонфалоньер Бернардо Герарди имел возможность блестяще острить с его святостью о парче папского облачения, что она больше обозначает: superbiam или sanctitatem, тщеславие или святость, ткань тяжелая, величавая, воистину архиерейская. Встреча была славная. Вдоль улиц стояли на коленях перед мулами кардиналов королевские пленные, Югурта со своими нумидийцами переходил под власть церкви, и сам патрон города, святой Иоанн Креститель, вдруг спустился с портала, на крылах восьми ангелов, и подал святому отцу ключи от городских ворот. Когда на площади закружились шары планет, под которыми был рожден Пий Второй, и из каждого шара вышел гений рода Пикколомини, рухнул блистающий мишурой столп идолопоклонства, а на другом столпе, мраморном, высоко подняв факел, запела ликующую песнь – Вера…
Но тогда… Тогда еще архиепископы не приезжали ночью, а кардиналов, в чьей свите не было физиономий из римских солдатских кабаков, приветствовали самые прекрасные девушки города, полные прелести и очарования, – здесь Милосердие, там Умеренность, дальше Смирение и, наконец, Благочестие.
Теперь такие вещи можно увидеть лишь во время карнавала. Кардиналам известны другие пути. Но ни одному из них святой Иоанн Креститель, небесный покровитель Флоренции, не подает ключей от городских ворот. И правитель Медичи, конечно, знает, почему Сикстова племянника Риарио не приветствуют аллегориями Смирения и Милосердия.
Улицы шумят. Хоть нынче королевские пленные не поют своих сонетов на перекрестках, под рабским игом, и зрелище – скудное, народ валит толпами со всех кварталов к Санта-Мария-дель-Фьоре, на кардинальскую мессу. В кропильницах явно недостанет святой воды, и в переполненном храме даже в самую святую минуту едва ли кому удастся преклонить колена.
Металлический голос колоколов и металлический голос наполненных народом улиц долетает даже в зал, полный солнца и красок. Пестрые плитки множат отраженья огней. В больших стройных вазах – одни только розы, флорентийские розы, полные музыки, сновидений и крови.
– Не пойду слушать мессу, – решил Джулиано и потянулся к книге, которую Полициано перед этим читал и не докончил.
Лоренцо стал серьезным.
– Тебе надо пойти, Джулиано! – строго сказал он.
Он стоит выпрямившись, уже готовый к отходу. В одежде из черного бархата, простроченного белым атласом, и тяжелые аметистовые застежки у горла – единственные на нем драгоценности. У пояса – кинжал в чеканных золотых ножнах. Пронизывающий взгляд его смягчился, руки – стали мирными, успокоились. Он глядит ясным взглядом на брата, который пока в возрасте рассеяния и юного высокомерия и чье выразительное лицо полным-полно страсти, молодости и любви. Видно, что сердце все время трепещет новым и новым познанием, лицо непрерывно и неустанно говорит об этих трепетах, каждый мускул, каждое движение век, каждый маленький изгиб губ – все изображает горящую глубоко внутри пылкую жажду жизни. Джулиано не умеет владеть собой. Джулиано никогда не будет политиком. Но он молодой и красивый, и все будет у него молодое, и красивое, и жаждущее жизни.
– Надо, Джулиано! – тихо повторяет Лоренцо. – Почему ты не хочешь к мессе?
– Потому… – Джулиано говорит теперь твердо, коротко, голосом игрока, которому выпало в конце концов счастливое число. – Потому что Пацци утром, еще на рассвете, уже были у ранней мессы.
Тут Лоренцо, пораженный, снял руки с братниных плеч, и сердце его затопила, заполонила тоска. Дело, оказывается, серьезное.
– Кто служил? – с усилием спросил он.
– Сальвиати.
– И… они молились?
– Очень усердно, – ответил Джулиано с горькой улыбкой. – Даже слишком. Как люди, неравнодушные к тому, что принесут им ближайшие часы, и ожидающие не только празднества. В церкви никого не было, кроме них: Франческо Пацци, Якопо Пацци, Бандини Барончелли. Архиепископ Сальвиати благословил каждого особо, и только после этого храм был открыт для всех.
– Видно, нынче же что-то готовят.
– Что-то? – Джулианов голос звучит все насмешливей.
Тоска, да, тоска. Не буря гнева, не ненависть и отвращение, не быстрое обдумывание ответных мер и способа отразить удар. А тоска. Странное, удивительное, тягостное ощущение тоски. Отчего? Может быть, это то, что Платон называет несходством сущего. Сорвать бы сейчас с себя черную одежду и надеть панцирь, подать команду вооруженным воинам и на расставленную западню ответить ударом. Если б я сейчас дал приказ, сомкнулись бы челюсти ворот и никто бы не скрылся. Нет, я не сделаю этого. Отчего? Тоска. Что я создал? Никогда еще Флоренция, итальянские Афины, не цвела, как теперь. Я – не тиран народу, который любит меня, поет мои песни, богатеет под моей властью. Я собрал здесь такие сокровища искусства, что в Европе нет короля, который бы мне не завидовал. Я сочиняю для народа карнавальные песенки, я люблю свой народ и этот город. И охраняю Италию. Хочу для нее мира. Хочу, чтобы папа был властелином духовным и руководил нами в святом благочестии. А он хочет быть также властелином светским и управлять нами в интересах своей семьи. Если я хоть на мгновенье перестану сдерживать захватнические стремления и аппетиты всех этих его племянников, сейчас же всюду вспыхнут войны, и в стране, ослабленной непрестанным взаимным истреблением, охваченной голодом, каждый будет делать, что хочет. И Альпы расступятся, чтоб пропустить французские войска, и Магометовы мусульманские орды заполонят страну. Тоска от тщетности всего. Нет, не смотрят вдаль все эти Риарио, делла Ровере, родственники, племянники, дяди, старик в тиаре, энергичный и злобный, беспрестанно ссорящийся со всеми итальянскими государствами и рассылающий свои интердикты. Тоска. Почему? Нужно действовать. Быстро. Немедленно. Что это я вдруг так ослаб? Слишком люблю своих римских элегиков, слишком много занимаюсь Платоном, – нет, это пустая мечта… Действовать. Действовать круто, беспощадно.
…illius tristissima noctis imago
qua mihi supremum tempus in urbe fuit…
"…той печальнейший образ ночи, когда уж недолго мне в городе быть оставалось…" Довольно! Сейчас – вспоминать Овидия! Сейчас, когда я одним словом могу закрыть ворота и направить острия копий в грудь врага, сейчас вспоминать Овидиевы томления! Да, так называл это философ: несходство сущего, откуда когда-нибудь брызнет струей для того, кто не проник до его ядра, вся слабость жизни. А может быть, и то, что в памяти моей вдруг всплыли именно эти Овидиевы стихи, неспроста: это знаменье! Поэт, сосланный на варварский Понт, не умирал от большей тоски, чем умирал бы я, если бы мне пришлось расстаться с тобой, Флоренция, если бы я был удален от тебя, дорогой мой город, город пламенный, город навеки любимый, tristissima noctis imago, печальнейший образ ночи, если б я знал, что даже свет звезд остановился над моим городом, нарушая свой чин, – но от неги и любви.
Джулиано стоит совсем близко.
– Ты слышишь, что я говорю? – произносит он горячо и страстно. – Тебе все ясно? Пизанский архиепископ Сальвиати приехал тайно в ночи, жаждет выслужить себе кардинальскую шапку, Рафаэль Риарио приехал нынче утром с большой свитой, в которой много переодетых папских солдат, Якопо Пацци расставил подозрительных незнакомцев вдоль мостов и на перекрестках, перед дворцом Синьории…
Лоренцо повернулся к брату, и лицо его было уже спокойно. Обычным своим голосом он промолвил:
– Из всего этого важны только две вещи, Джулиано, только две. – Он посмотрел прямо в глаза брату. – Две вещи: утренняя месса и рев львов…
Колокольный звон умолк, больше медлить нельзя. Кардинала уже облачили в богослужебное одеяние, и храм Санта-Мария-дель-Фьоре переполнен. Святой воды на всех недостало.
– А ты? – Джулиано схватил руку Лоренцо, но тот легонько ее высвободил.
– Я пойду, – ответил он. – Не верю, не верю я, чтоб они были способны на что-нибудь подобное. А если б и так, я всегда предпочитаю смотреть прямо в лицо событиям. Ты это знаешь… Да если б я не пошел, было б еще хуже!
– Ты сумасшедший! – вспылил Джулиано, и жила гнева, пульсируя, выступила у него поперек лба. – Ты сумасшедший, коли сам лезешь в западню. Не посмеют, не посмеют. Ты думаешь, Сикст не способен на все? Думаешь, во время мессы ты в безопасности? Они молились – и как молились! А потом каждый из них в отдельности получил особое папское благословенье. Сикст! Он дает разрешение на все, когда дело идет об интересах его семьи. Знаешь, что поют о Риме? Там все продажное: алтари, священники, святыни, бог… Да, так поют о Риме – и не только у нас, но и в Германии и в Англии… Все в Риме продажное – убийство и злодеяние, когда это касается интересов делла Ровере. Сикст! Его политика…
– Именно поэтому и пойду, – сказал Лоренцо. – Сумасшедший – ты! Представляешь себе, какую сеть замыслов начнет ткать Сикст, как он обрадуется, если узнает, что во Флоренции к Медичи торжественно прибыл кардинал-племянник с договорами, а Медичи не явились на его мессу? Как сейчас же полетели бы ко всем итальянским дворам посольства…
– Ну так иди! Иди! – Джулиано сжал кулаки, и рот его полон слюны. Иди! А я не пойду!
Лоренцо слегка пожал плечами и повернулся к остальным присутствующим… Они стояли далеко от обоих братьев, у дверей в зал, и, видя, что те о чем-то спорят, не вмешивались. Кто, когда, будучи философом, вздумал бы принять участие в разногласии братьев, к тому же еще правителей? Они ждали.
Здесь был гонфалоньер республики Кристофоро Ландини. Совет пятисот должен бы трепетать перед его решениями, но не трепещет. Часто во время заседания возникает необходимость что-то ему объяснить три, четыре раза – и еще мало. Потому что нет ничего более ему чуждого, чем дела политические. Редко-редко возьмет он в руки какой-нибудь документ, – ведь для этого есть нотариусы, секретари, группа советников, cancellarium, collegia. Но он, преподаватель поэтики и риторики, написал комментарии к Горацию, комментарии к Вергилию, "Камальдульские диспуты", "Три диалога". Хотя вся его ученость стояла здесь с ним в осанистой, величественной позе, нельзя не упомянуть также о трех книгах элегий под заглавием "Ксандра" – по имени предмета его великой любви монны Александры, ибо и этот платоник испытал свою боль.
Рядом стоит его ученик Анджело Полициано, который читал Лоренцо Платонов диалог "Федр", перед тем как послышался колокольный звон из храма Санта-Мария-дель-Фьоре. Когда Козимо Медичи, pater patriae, вызвал знаменитых ученых Аргиропулоса из Византии и Андроника из Фессалоник, Полициано стал первым их учеником. А вторым – Лоренцо. Так росли они вместе над текстами философов. Он не только платоник, он – гуманист. Никто не сравнится с ним в критике и толковании античных авторов. Не щадя сил в исследовании всего доступного рукописного материала, он изучает все, и его приговор является всегда окончательным решением самых спорных вопросов. У ног его садятся студенты из Германии, Англии, Фландрии, приезжают из Шотландии и Фламандии, приезжают из Швеции и Польши, приезжают из северных королевств. Португальский король Иоанн хочет послать ему летописи о славных делах мореплавателей и об африканских морских путешествиях в итальянском переводе с латинского оригинала, чтобы эти великие дела, – так пишет он, не оказались засыпанными на свалке человеческой бренности. Но он также поэт, и народ распевает его баллады о розах, подобно тому как ученики жадно глотают его экзегезы. Он стоит возле гонфалоньера Ландини, поглощенный размышлением о том, что слышал. Он один был свидетелем всего спора и молчал, в глубине души считая, что прав Джулиано. Он дивится вдумчивой мудрости Лоренцо, сам бог выбрал для Флоренции такого правителя. Когда они вместе заполняли первые тетради чернилами под строгим наблюдением Аргиропулоса из Византии, он не мог еще предполагать, какое дарование таится в таком тогда непоседливом и рассеянном Лоренцо. Он смотрит на него с удивлением, а на Джулиано – с любовью. Ты молод, Джулиано, ты молод и полон юной прелести. Я пишу о тебе поэму, большую поэму, которая явится неожиданностью для всех. Станцы о турнире. Я – философ! Джулиано, ты устроил турнир в честь своей возлюбленной, прекрасной Симонетты, и никто не одержал над тобой победы, кроме Амора, сына Венерина. Эрос – как называет его Платон. Есть четыре вида неистовства, говорит божественный Платон. Это верно, что Эрос – один из них. Ибо он – тайна. А последнее слово тайны, согласно божественному Платону, опять-таки лишь экстаз, species 1 неистовства, любовь…
1 Вид (лат.).
Стоящий позади них Марсилио Фичино улыбается. Наверно, опять сочиняет какую-нибудь острую, насмешливую эпиграмму на поэта Луиджи Пульчи, знаменитого автора эпической поэмы "Морганте", с которым он постоянно в ссоре. Марсилио Фичино, крупнейший из всей медицейской академии, как раз заканчивает труд своей жизни: "Платонова теология о бессмертии человеческой души". Но для философа полезно также изощрять разум свой остротами насчет других, и тут самый подходящий человек – этот Луиджи Пульчи, умеющий хорошо ответить. Биться с Луиджи Пульчи – наслаждение, но утомительно перебрасываться шутками с Пико делла Мирандола, который сейчас говорит с Джулиано, а воротник у него, такой высокий, похож на воротник шута. Да разве он не шут? Хочет примирить Аристотеля с Платоном. Какое безумие! Флоренция всегда будет платоновской, предоставим Аристотеля доминиканцам и церкви! Но Пико проводит слишком много времени с священниками, роется в Писании, постится и умерщвляет плоть, хочет реформировать церковь и не верит ни в черную магию, ни в астрономию. Марсилио Фичино потешно сморщил свою узкую лисью физиономию. Adversus astrologos – двенадцать книг против астрологов написал этот ханжа, как раз когда я составил для Медичи хорошие, правдивые гороскопы. Помирить Платона с Аристотелем! Какая несуразица. С тех пор как старый Козимо Медичи, pater patriae, умер с Платоновым диалогом в руке, Флоренция стала и навсегда останется платоновской. Уже в лето господне 1397-е флорентийцы призвали из Византии ученого Хрисолога, столь знаменитого, что сам византийский император горько сожалел о его отъезде и велел ему через три года вернуться. Тогда его лекции привлекали такую тьму народа, что ученики забивались в аудитории с сумерек на всю ночь, чтоб обеспечить себе место; юноши продавали золотые украшения, одежду, даже оружие и коней, чтобы купить себе Ласкарисову греческую грамматику или заплатить за домашние уроки греческого. А после славного флорентийского собора 1439 года, на котором встретились папа Евгений Четвертый и византийский император Иоанн Палеолог, чтобы торжественно отметить слияние римской и византийской церквей, – окончательно определилось, что нежная и прекрасная Флоренция становится самым мудрым из всех итальянских городов. Козимо Медичи, pater patriae, объявил об основании Платоновой академии. Против Аристотеля, которого церковь считает чуть не своим доктором, против этого великана в шлеме, "Суммы теологии", стоящего на пьедестале доминиканской инквизиции, наша Академия отважилась высоко вознести утонченность платонизма, мудрость Филона, толкователя александрийской школы, который был вторым воплощением Платона, и бесконечное, бессмертное познание божественного Плотина. Альберт Великий и ученик его Фома Аквинский думали, что навсегда изгнали Платона, – нет, мы опять торжественно его приняли, и возвращение его было триумфом. Козимо Медичи был решительно сторонник Платона. Он выписал грека Иоанниса Аргиропулоса из Византии, вверил ему своего внука Лоренцо и тотчас прогнал ученого обратно, когда убедился, что этот магистр – тайный аристотелик и толкует Платона тенденциозно. Я же навсегда останусь верным учению премудрого Гемиста Плетона (где то время, когда он ходил по садам Медицейским со мной и византийским императором Иоанном? Нет уже Византии!) с его толкованием трех переворотов, трех ступеней сущностей, идей, кругов, экстазов, воплощений и перевоплощений… Что рядом с ним противный, вечно хмурый Пико делла Мирандола со своим безнадежным аристотелевским опытом. Правитель Лоренцо высказал мудрую мысль: "Нельзя быть добрым христианином, не зная Платона". Но народ нас не понимает, народ от нас отворачивается, народ считает нас язычниками. Надо им как-нибудь поразумнее растолковать. Я поднялся на кафедру Святого Ангела, и меня, каноника, не хотели слушать. Я сказал им: "Что же вы отворачиваетесь и бушуете? Наш Платон – не кто иной, как Моисей, говорящий по-гречески…"
И Фичино, вспомнив об этом случае, не удержался от смеха – сперва тихонько, про себя, но потом уже не мог скрывать, смех его становится все сильней, громче, неудержимей, подымается в нем, бьет из него, разбрызгивает мелкие морщинки его лисьего лица и опять собирает их, вздувается и перехватывает у него дыхание, кружит под ложечкой, мучительно сжимает ему сердце, осклабляет больной, беззубый рот, увлажняет его слезные железы, возгоняет кровь до высохших щек; Фичино согбен смехом, придавлен смехом, это барабанный бой и трубный глас смеха, разливающийся по высокому залу. На него оглянулись, озабоченные, удивленные. При нем никто не чувствовал себя спокойно за столом Медичи. Но редко можно было слышать, чтоб он смеялся без насмешки, от всей души, как теперь, среди глубокой тишины и в ожидании приказа правителей. Тут Марсилио Фичино, с перекошенным ртом, из которого вылетали теперь только стоны и вздохи, словно он уже пресытился смехом, объяснил, почему он так смеялся. Платон – это Моисей, говорящий по-гречески…
Лоренцо скользнул по Фичино взглядом. Может быть, так и надо. Может быть, все ощущение трагического одиночества, неясность грядущей судьбы и ответственная минута великих решений – все это, может быть, должно кончиться остротой каноника, превратившего даже церковную кафедру в подмостки гаера. Может быть, этот хохот – единственный возможный итог. Лоренцо подошел к Джулиано, но тот строптиво не принял его руки. Потом вдруг поцеловал брата прямо в губы, стремительно его обняв.
И вот они уже идут. Идут полными толп улицами, народ расступается перед правителем, многократные отголоски кликов и приветствий, ликующих возгласов дробятся о дома площади. Лоренцо идет спокойный, улыбающийся, в одежде черного бархата, простроченного белым атласом, и тяжелая аметистовая пряжка у горла – единственная на нем драгоценность. Вокруг Лоренцо черно мерцает горстка его друзей, большей частью в одеяниях гуманистов. Без охраны, без вооруженного эскорта, слегка опираясь на руку гонфалоньера республики, идет Медичи со своими философами на кардинальскую мессу.
Портал Санта-Мария-дель-Фьоре забит желающими проникнуть в храм, однако не всеми руководит благочестие. Но даже те, кто галдит всех сильней, быстро дают проход. Восторженные голоса, выкрики. Раскрасневшийся, сдержанно-взволнованный, продвигается в толпе пожилой человек, подгоняя короткими злыми окриками слугу, тщетно старающегося раздвинуть перед ним толпу пошире. Слуга тащит хозяина, как мул поклажу. Вдруг в толпе поднялась новая волна, пробежало несколько шквальных порывов, и хозяин, уже без слуги, зашатался, словно упал с седла. Но его тут же поставили на ноги сильными толчками те, кто с ревом ломился вперед, осыпая дикой руганью каждого, кто становился им поперек дороги. Валит сплошная мешанина тел, беспощадно сметающая все на своем пути. Он с негодованием называет свое имя, но крик стоит такой дикий, буйный, шальной, а брань такая злобная, что имя тонет в ругательствах, и он умолкает, сберегая дыхание, которого в обрез. Его пинают, швыряют во все стороны, сшибают с другими, ломают, тащат, мнут и в конце концов вдруг кидают к стене, где он охотно притулился бы, но прежде чем он успевает нащупать какую-нибудь нишу, решетку или какую ни на есть опору, волны опять отрывают его и несут дальше, слегка приподняв, так что он еле касается земли ногами. Назад – уже невозможно. До церкви еще далеко. Солнце горячее. Толпа жаркая. Это человеческий жар, у которого свое собственное пламя, бьющее вверх, к знойному небу, к раскаленному небесному своду. Сдавленная толпа колышется из стороны в сторону, и ему, еле дышащему в этой жаре, кажется, что, взглянув в сторону, он увидит страшную угрозу гибели, так как в колыханье толпы даже дома по всей площади как будто валятся, коробятся, сползают с мест, рушатся. И рев при этом такой, как во время сражения или бегства из горящего города. Когда он уже падал под ноги остальных, его подхватил какой-то молодой человек лет двадцати шести и пробился с ним сквозь волны человеческих тел. Мускулистые руки молодого человека настолько облегчили его продвиженье, что оба наконец выбрались поближе к стене, где им удалось ухватиться за круглую бронзовую скобу ближайшей двери и постоять, пока не прокатятся мимо новые волны человеческих тел. Потом вокруг них стало свободней. Можно было перевести дух, перемолвиться словом; к синьору вернулась краска в лицо. Он от души поблагодарил молодого человека, притом – с подчеркнутой любезностью. Тот отвесил ему глубокий поклон. Взгляд синьора с восхищеньем остановился на его стройной, гибкой фигуре. А молодой человек, еще со шляпой в руке, словно не решаясь надеть ее перед такой важной особой, с изысканной вежливостью осведомился о здоровье мессера и его семьи.
– Мы только недавно вернулись, – объяснил синьор. – Живем в Сеттиньяно, и для меня было бы честью, если б вы к нам пожаловали, Леонардо.
Молодой человек вежливо поблагодарил.
– А монна Франческа здорова?
Лодовико Буонарроти Симони слегка нахмурился.
– Не совсем здорова, но по-прежнему весела. Хорошая женщина. И счастлива, что мы опять во Флоренции.
Вокруг стало почти совсем свободно. Последние ряды втеснились в храм, и теперь оба медленно идут за ними, причем молодой человек учтиво поддерживает мессера Лодовико, который вдруг разговорился. Ему редко представляется случай с кем-нибудь побеседовать. Семья их живет теперь в большом уединении. А ему не к лицу вступать в разговор с кем ни попало. Всего пять лет тому назад Лодовико Буонарроти Симони был членом совета Синьории, входил в число двенадцати членов Коллегии Буономини, но потом ему пришлось уехать в Кьюзи и Капрезе – на должность подесты. Впрочем, это было в традициях семьи, так как уже отец его был подестой в Капрезе, – да за традицию теперь редко хорошо платят. А тяжело из скромных канцелярских доходов платить еще другим чиновникам, слугам, содержать дом, иметь лошадей, хорошо одеваться. Теперь он вернулся с женой монной Франческой ди Нери ди Миньято дель Сера и с двумя своими сынками, Лионардо и трехлетним Микеланджело. Флоренция, конечно, уже забыла члена Коллегии Буономини. Подеста из Капрезе – во Флоренции ничто. И он живет вместе с семьей брата Франческо в небольшом именьице в Сеттиньяно, выручки от меняльной конторы брата на Ор-Сан-Микеле едва хватает на два дома, хоть брат, все более озлобляясь, и взял себе привычку слишком распространяться о том, как он, Лодовико, должен руководить семьей… А монна Франческа нездорова. После рожденья Лионардо у нее пропало молоко, а когда родился сыночек Микеланджело, она не смогла его кормить. Советы есть как можно больше салата, миндаля, риса, молочных супов и потом этих особенных смесей из молодых семян пинии, белой каши и неразбавленного красного вина оказались напрасными. Ничто не помогало, и для маленького Микеланджело пришлось взять в Капрезе кормилицу, жену одного каменотеса… Это очень плохо! Ведь ребенок с молоком матери всасывает материнские свойства, это известно, а монна Франческа – примерная женщина. У сынка Лионардо не особенно хороший гороскоп, там довольно неблагоприятные знаки и в конце концов даже чума. А крошка Микеланджело родился в два часа пополуночи под очень странным сочетанием звезд: соединение Меркурия и Венеры находилось прямо под властью Юпитера. Это обозначает великие события. А вот материнским молоком не удалось вскормить – это плохо, очень плохо! Монна Франческа нездорова, и у мессера Буонарроти Симони много с ней хлопот, потому что он хотел бы иметь много детей, как честь рода требует, и грустно думать, что монна Франческа, которой только двадцать два года, может быть, больше ни одного ему не принесет. Бабушка, мудрая монна Лессандра, утверждает, правда, что положение еще поправится, но пока – не видно…
У входа в храм они простились, так как Леонардо хотел еще приветствовать своего доброжелателя, мессера Бандини да Барончелли, но, зная, что мессер Буонарроти презирает политические взгляды Бандини, не стал ему об этом говорить. Воспользовавшись неожиданно возникшей у входа сумятицей, он поспешно откланялся. Лодовико еще раз оглянулся на него. Вздохнул. Какой услужливый, разумный, благовоспитанный молодой человек, только совсем не думает о своем будущем! Он – один из лучших учеников маэстро Верроккьо, и последняя картина его "Благовещение", недавно привезенная из церкви Сан-Бартоломео-Монте-Оливето, – отличная работа, чистая работа, притом и благочестивая. Да, но что в том: ведь он – только художник…
Мессер Буонарроти глядит ему вслед почти с сожалением: какой это был бы способный нотариус, унаследуй он традицию своей почтенной семьи, семьи да Винчи, которая дала Флоренции столько хороших нотариусов! Право, нужно удивляться, что отец его, мессер Пьеро да Винчи, позволил ему поступить в мастерскую живописца. И то сказать, дело идет о незаконнорожденном… Мессер Буонарроти Симони втиснулся в переполненный храм, и важная физиономия его приобрела еще более величественное и торжественное выражение. Нет, ни один из его сыновей не будет учиться ремеслу вертопрахов, ни один не будет есть ненадежный хлеб искусства! У брата Франческо нет детей, ему некому передать свою солидную меняльную контору на Ор-Сан-Микеле. Они будут менялами и банкирами! Ни одному из них не придется слоняться со своей малярной кистью или резцом по княжеским дворам либо монастырям, которые платят мало и неаккуратно. Впрочем, у него нет и не будет незаконных! Монна Лессандра, мудрая старушка, уверяет, что положение поправится…
Леонардо да Винчи! Жалко его. Учтивый, услужливый, разумный молодой человек, говорун малость и выдумывает всякие чудные изобретения насчет перенесения церквей, поднятия мостов да изменения речных русл, но он – из хорошей семьи нотариусов и, конечно, покопавшись в запутанных деловых бумагах такого монастыря, как Санта-Аннунциата, например, быстро отрезвел бы. Сомнительная честь – быть художником! Хотя правитель Лоренцо Медичи год тому назад купил у Верроккьо для дворца Синьории статую Давида и натурщиком был как раз Леонардо, но Буонарроти при мысли об этом даже вздрогнул. Подумать страшно! Если б кто-нибудь из его сыновей встал вдруг в Палаццо-Веккьо так вот нагишом, в том славном Палаццо-Веккьо, куда он, Буонарроти Симони, входил только под громкие фанфары труб – в качестве члена Совета двенадцати…
КАРДИНАЛ РАФАЭЛЬ РИАРИО БЛАГОВЕСТВУЕТ ЕВАНГЕЛИЕ
Кардинал Рафаэль Риарио, в тяжелом богослужебном облачении и побледневший от холода ризницы, уже готов. Ему еще нет двадцати, но он кажется старше в расшитой жемчугом золотой ризе. Не молодит и полумрак ризницы, слабо рассеиваемый окнами и светом свечей. Возле него стоит, тоже уже облаченный, каноник Антонио Маффеи, очень тучный, так как пребенда у него доходная, а слабость человеческая часто впадает в искушения, и каноник Маффеи, охотно уповающий на милосердие божье, иной раз до того подвержен этим искушениям, что о некоторых его проделках добрые кумушки целого квартала задавались вопросом, выдуманы они быстрым на выдумки мессером Боккаччо или были на самом деле. Тучной плоти трудно бороться с искушениями, все дело в этом. Теперь он стоит совсем рядом с кардиналом и что-то почтительно ему нашептывает, слегка пришепетывая – не то от холода в помещении, не то оттого, что прикрыл рот мясистой рукой. Молодой кардинал как будто не слышит. Он не сводит глаз с большого, сильно позолоченного предмета, лежащего перед ним на мраморном столе. Свет свечей играет на этом золотом шаре, но как бы разверзая его выпуклую поверхность. Это предмет священный, но внезапно вокруг него распространился какой-то запах жженого, чего-то нечистого, мутного, и отверстие полно предательства. Кардинал не может оторвать от него взгляд, и взгляд этот – не ласкающий, а скорее испуганный, неуверенный.
Это кадильница.
Когда ее подадут ему, он окадит алтарь, – и он уже заранее чувствует слабый аромат фимиама. А потом ее возьмут у него и унесут, и с ней двинется процессия свечей. Это будет торжественная месса, кардинальская месса. А потом… Потом ее вынесут к Евангелию.








