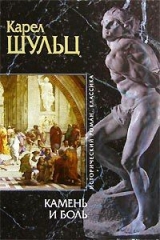
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц)
Завидев на галерее священника, гонец быстро подъехал к нему. Тот испугался.
– Из Рима? – воскликнул он.
– Из Рима, – прохрипел в ответ дворянин и, покинув седло, залепетал от усталости и даже слегка зашатался, не так, как прежде – мим в роли пьяного.
Тут Франко поспешно позвал Лоренцо, который, перебирая рукой золотые кудри своего любимого пажа, в то же время внимательно следил за любовным бегством ахейской нимфы Аретузы, отвергающей домогательства Алфея. Потому что он велел повторить эту сцену, чтобы довести ее до совершенства.
Выйдя из зала и увидев гонца, он побледнел и сдавленным голосом спросил:
– Маддалена?
Дворянин поспешно опроверг это предположение и промолвил:
– Джироламо Риарио убит.
Тишина. Стояли трое, один из них – священник, но никто не пожелал папскому сыну вечного покоя, царства небесного и отпущения грехов. Лоренцо взглянул на гонца удивленно, вопросительно:
– Убит? Кем? Почему?
Тот пожал плечами. Как только в Риме было получено это известие, он был тотчас послан во Флоренцию. Это были заговорщики, какие-то неизвестные люди, но не катилиновцы… Лоренцо подошел к окну, давая понять, что хочет остаться один, и священник увел с собой гонца – на отдых. Из зала по-прежнему доносились звуки лютен и сладкая мелодия песни.
Из Сикстовых племянников, из всех этих Риарио и делла Ровере, единственным серьезным противником остался теперь только Джулиано, кардинал храма св. Петра в оковах, – остальные просто смешны…
Джироламо мертв. Тот самый Джироламо, который хотел быть единственным правителем Италии, стереть с лица земли остальные государства и объединить страну в одну державу под скипетром делла Ровере, – бессмысленные расчеты, которые я неустанно разрушал, чтобы захватнический дух папской родни не уничтожил у нас все, и в страну, ослабленную междоусобицей, не вторгся с оружием в руках иностранец. Джироламо, под конец влачивший жалкое существование в Форли, теперь мертв. Почему его убили? Кому он еще стоял поперек дороги? Почему убили? Почему нельзя было оставить его в живых до естественной кончины? Сикстовы надежды гибнут и после смерти этого папы, да, ни один замысел незадачливого желчного старика не осуществился…
Почему убили Джироламо? Будто бы какие-то неизвестные, но не катилиновцы… Таких мерзавцев нужно предавать позорнейшей пытке на плахе… Неужто и таким дозволено нынче убивать князей? И кто же стоит за спиной убийц? Кому мешал теперь не имевший никакого влияния Джироламо? Значит, остается только кардинал Джулиано делла Ровере, упрямый, несговорчивый старик, позволяющий себе подымать оружие даже против кардинала-канцлера Родриго Борджа, – этот никогда не сдастся, нет, нет, конечно… Как он отнесся к известию о смерти Джироламо?
Да перестаньте вы со своим пеньем, лютнями, писком флейт! Какая пакость! Надо наказать лютниста Кардиери и танцовщицу Аминту, мой дом – не бордель возле Арно!
Джироламо! Он метил высоко, но кто же в наше время не метит высоко? И этот самый Педро Луис Борджа при Каликсте метил высоко, и Джироламо при Сиксте, и нынче Франческо Чиба, сын папы Иннокентия, метит высоко… Да никогда у них ничего не выходит, у этих папских сыновей. На их замыслах всегда какое-то непонятное заклятье…
Франческо Чиба – самая большая моя ошибка. Это – мой ужасный промах, и я расплачиваюсь за него счастьем своей дочери, золотой своей девочки, своей Маддалены… Чиба, карточный мошенник, заядлый игрок в кости, негодяй, ворующий даже из папской казны, истасканный распутник, завсегдатай борделей… Никогда не забуду, как жадно ждал я тот раз первых сообщений о его поведении, когда верховный папский кондотьер Орсини вдруг изменил и перешел на неаполитанскую службу, а Салернский князь Сансеверино отравил в ту ночь неаполитанского принца-кардинала из Арагона… Кардинал Борджа быстро принял меры, чтоб уничтожить французское влияние, он страстно жаждал сообщений о шагах своего зятя Франческо Чибы… Да, я получил сообщение. Франческо Чиба за одну ночь мошенническим образом обыграл кардинала Рафаэля Риарио на двадцать тысяч дукатов… Это было единственное сообщение о нем… И еще то, что кардинал Рафаэль имел доказательства, что игра была фальшивая… Так вел себя папский сын, когда зашаталась тиара…
Джироламо Риарио мертв. Какой это был мужественный человек, какой сильный противник всех этих людей! Да, значит, остается только кардинал Джулиано… Он опирается на французскую поддержку против Борджа и Иннокентия, опирается пока безрезультатно… Пока? Безрезультатно? Не допусти, боже, чтобы Карл Восьмой в припадке безумия захотел перейти Альпы… Но почем я знаю, какую коварную игру ведет этот Лодовико Моро в Милане? Больше пятидесяти тысяч человек вымерло у него там от чумы, а он по-прежнему думает о войне и о том, чтобы натравить французов на Неаполь!
Джироламо мертв. Он был мужественный человек, в тысячу раз лучше этого отвратительного Чибы, на которого я так безрассудно поставил! Маддалена! Ты, как сейчас, стоишь передо мной, моя девочка, такой, как была маленькая. Мы хотели, чтоб ты стала не только самой прекрасной, но и самой умной принцессой Италии, мучили тебя, – Полициано был ведь строгий учитель, и ты много плакала, и у меня до сих пор хранятся на память Платоновы "Диалоги", по которым ты училась и где на полях делала своей нежной ручкой неумелые греческие пометки, над которыми мы с Марсилио Фичино потом всегда так смеялись! Ты, моя…
А теперь – жена карточного мошенника, посетителя борделей! Что хорошего видела когда Флоренция от Рима? И до каких пор еще будет Флоренция давать самое лучшее Риму? Женой истрепанного негодяя, закадычного друга пьяной солдатни… Омерзенье! И весь Рим – не лучше! Как было на последнем заседании консистории, когда кардинал Борджа, в присутствии папы, назвал французского уполномоченного, кардинала Балуа, грабителем, подлецом и пьяницей, а кардинал Балуа – Борджа мавром, цыганом и сыном испанской потаскухи? Так разговаривают кардиналы, в консистории, под председательством папы! Отвратительный Рим! Моя Маддалена! Какой этот Джироламо был мужественный, гордый, как почетно было с ним бороться. А эти? Омерзенье! У меня три сына – Джулио, Джованни и Пьер. Один умный, другой добрый, третий глупец. Который из них переймет мое дело, мою мечту и мою любовь? Джироламо мертв. Значит, он кому-то еще мешал. Простые люди не убивают князей, и, говорят, это не были катилиновцы… Умерли Сикстовы мечты! Пьер Риарио, которого старик хотел сделать папой ценой ломбардской короны, уже давно мертв, умер при жизни Сикста, и дух его, говорят, наводит страх и воет в залах Ватикана. А теперь Джироламо, который должен был стать императором из рода делла Ровере… Навсегда мертвы Сикстовы мечты. Джироламо мертв.
И вот теперь он будет тысячу лет ждать выбора своего нового земного жития, – так учит божественный Платон, тысячу лет душа его будет решать, и только она понесет ответственность за свой выбор, даже бог не может решить, только она, и получит для нового жизненного пути своего на земле такого демона, какого сама себе назначит, – так истинно учит нас божественный Платон, – и после выбора своего эта душа станет тотчас читать свою судьбу, самой себе предназначенную, по звездам, и судьба эта будет бесповоротная, прямо зависимая от движений планет… И больше никогда, никогда не вернется на место, из которого вышла, разве только через десять тысяч лет, – так долго придется ей ждать новых крыльев, божественных крыльев. А прежде этого срока она новых крыльев не получит, если только это не душа философа, – но Джироламо им не был, нет, не был… Душа философа, послушного законам. Каждый становится бессмертным лишь через заботу о душе, только тем, что прилагает все усилия достичь божественного образца, – да, только таким путем может человек сохранить и в позднейшем существовании свою человеческую сущность, ибо провинившиеся души, не улучшившиеся ни в одном из своих существований, получают в дальнейшем низшую телесную форму, в зависимости от характера своих вин, форму звериную, – так учит божественный Платон в "Меноне" и в "Федре"…
Анджело Полициано вышел из зала и, увидев у окна правителя, прикрывшего лицо руками и погруженного в печальные размышления, молча остановился поодаль. Но Лоренцо услыхал шаги и, не отнимая рук от лица, сказал:
– Ты выпорол Скарлаттино?
– Нет, – удивился Полициано. – За что его пороть?
– Ах, это ты, мой Анджело, – промолвил Лоренцо и, подойдя к нему, положил руку ему на плечо. – За его глупую остроту о Савонароле…
– Но ведь он говорил только среди нас, и ты не велел ему повторять.
– Это правда, – кивнул Лоренцо. – Но кого-то ведь я велел наказать…
– Это Кардиери, – улыбнулся Полициано. – Кардиери и Аминту. За любовь.
Лоренцо поглядел на него серьезно.
– Тяжело мне, мой Анджело!
– Ты бледен, – заботливо прошептал Полициано. – Плохие вести из Рима? У принцессы Маддалены тяжелая беременность?
– Джироламо Риарио убит, – ответил Лоренцо.
Полициано быстро замигал, потом устремил взгляд на сады.
– Он был твоим великим врагом, правитель…
Но Лоренцо горько улыбнулся.
– Великим врагом? – повторил он. – Если б только он был сейчас жив…
– Я тебя не понимаю. Ты жалеешь его?
– Анджело, – прошептал Лоренцо Маньифико. – Сколько пробудет душа его во мраке?
Полициано пожал плечами.
– Точно сказать трудно, но не менее тысячи лет. А что?
– Мне пришло в голову… если б он там по своему свободному выбору вдруг сам решил… потому что бог не может в это вмешиваться… судьбу какого-нибудь Медичи…
– Что ты говоришь! – воскликнул с испугом Полициано, сжав его руки. Это невозможно, ты же знаешь! Когда низшие боги, читаем мы в "Тимее", получив бессмертное начало души, создали человеческое тело, они поместили бессмертную душу в мозгу. Потом вложили честолюбивую душу в грудь, а гневливую поместили между блоной и пупком. Так гневливая душа, лютый зверь, по определению Прокла, удерживается пупком, словно цепью. У Медичи душа в мозгу и в груди, тогда как Джироламо – человек распутный и гневливый, а не философ…
– Что знаешь ты, Анджело, о темных стремнинах в душах Медичи!
– Лоренцо! – воскликнул Полициано. – Что с тобой сделалось? Так потрясло тебя известие о смерти Джироламо? Или ты усматриваешь большую опасность в его смерти, чем в существовании?
– Я вижу гибель… страшную гибель… – прошептал Лоренцо.
Полициано задрожал, побледнел.
В то же мгновенье пронзительный, резкий крик разорвал воздух позади них, безумный крик человека, которого убивают, на которого вдруг обрушилась оторопь ужаса и смерти. Тотчас вслед за тем послышался дикий лай целой своры псов, лай терзающий, кровожадный, а дальше опять визг и вопли страха. Все это переплеталось, сливалось, и вот уже псы накинулись на несчастного и стали отдирать его мясо от костей, и опрокинутый на землю безоружный человек судорожно корчится под их клыками, отчаянно защищается, но псы уже вцепились ему в руки и ноги, и вот острая красная слюнявая пасть схватила его за обнаженное горло, и завыли человек и пес, и голос уже был не человеческий и не звериный, а скуленье отверженца, голоса преисподней и лай адских псов, ведущих травлю в вечности. Клокотанье крови поднималось в разорванном горле, подобно пузырям из грязи мясных лохмотьев, но собачья свора не выпускала добычу и рвала, драла и рвала, драла и рвала…
У Лоренцо в глазах потемнело. Призраки, мраки, гневливая душа, это лютое зверье, адские тени, судьба Италии, остывшее тело Джироламо Риарио, красные пасти псов, их хватучее раздиранье, гибель… Стремительно повернувшись, он сорвал висевшую у них за спиной шелковую завесу.
Там стоял забавник Скарлаттино с идиотской улыбкой.
– Здорово, а? – заговорил он уже человеческим голосом. – Я только недавно научился. Нужно прижать вот так ладонь ко рту. Это последний номер моей карнавальной программы. Очарую всех.
Полициано стремительным движеньем заставил кинжал правителя опуститься.
– Ты – философ, Лоренцо! – воскликнул он.
Маньифико разжал ладонь, расслабил пальцы, и кинжал зазвенел на плитках галереи. Скарлаттино, бледный от страха, только тут понял и пустился наутек, завопив уже по-настоящему.
Медичи тяжело дышал. Полициано несколько раз прошелся взад и вперед, заложив дрожащие руки за спину и с тревогой глядя на правителя.
– Ты чуть не убил его, Лоренцо…
– Да, – кивнул князь. – Я и хотел…
– Никогда я не видел, чтоб ты убивал, – предоставь это другим…
– Пойми, мой Анджело, – начал с усилием Лоренцо. – Мне порой кажется, что я не живу, а участвую в каком-то фарсе. Какое несоответствие! Каждая моя трагедия, каждая роковая минута в моей жизни кончается какой-нибудь пошлостью, дурацкой шуткой, низменной, плоской потехой, – всегда, Анджело! Помнишь, как мы стояли тогда в том зале, собираясь идти к мессе кардинала Рафаэля, к мессе семейства Пацци? Тогда я в одно мгновенье переживал целые судьбы, решалось многое, больше, чем вопрос о том, буду ли я вечером жив, ты знаешь, решалась судьба Флоренции, моего государства, моих видов на будущее, чудовищных замыслов всей папской родни, решалась судьба Италии… И тот раз это было Фичиново издевательство, его неудержимый смех, лисье лицо Фичино, который вспомнил какую-то свою проповедническую остроту и расхохотался по поводу нее в ту минуту, когда я принимал важнейшее, судьбоносное решенье. И теперь то же самое. Я уже видел Альпы, проломленные для прохода французских войск, обезлюдевший Ватикан, сожженную Флоренцию, видел войну, гибель и мор… а этот шут возьми и ворвись в мои мысли со своим карнавальным коленцем! Несоответствие сущего, совершенно ясное для философа! Но я, Анджело, очевидно, не философ, раз не могу проникнуть в его суть, не понимаю его, так что лучше буду всегда обнажать кинжал, чтоб рассечь такую ухмылку, маску…
– Пойдем, – промолвил Полициано.
– Куда?
– В церковь… или к твоим коллекциям, – ответил философ. – Но лучше в церковь. Увидеть красоту. Кроме этого, тебя сейчас ничто не успокоит. Пойдем. Картины, статуи, фрески, красота… Пойдем!
Лоренцо улыбнулся. Пристально посмотрел на Полициано. Опять улыбнулся. Полициано смутился и отвел глаза. Лоренцо снисходительно положил руку ему на плечо. Тогда Полициано отдернул завесу у входа в комнаты правителя. Но Лоренцо отклонил это мягким движением головы. И взял плащ.
– Ты же знаешь, Лоренцо, – прошептал Полициано. – Я ведь думал, так лучше…
– И был прав, – уже спокойно ответил Лоренцо. – Пойдем…
Они пошли. Боковыми улицами. В лавках ремесленников даже грубое слово пело. Похоронные братья несли покойника. Дети гонялись взапуски. Банкир отсчитал золотые скудо, и монах поблагодарил. Крестьяне, ставши в кружок, слушали новости. Несколько фламандских и шотландских студентов, оставив кувшин с вином, низко поклонились правителю Флоренции и своему профессору, ради которого приехали в Италию из дальних краев. От беседки, где они сидели с девушками, веяло ароматом цветов. На улице Ди-Барди поднялась драка. На улице Ди-Барди вечно какие-нибудь драки, но на этот раз бой шел такой веселый, что даже собака, лежавшая у бронзовых дверей, лениво поднялась и пошла посмотреть. Из аптек пахло мускатным орехом и горьковатыми листьями средством для укрепления здоровья и для плодовитости. Шерстобиты пели в такт работы, золотарь вышел из своей лавки посмотреть на солнце купленный смарагд. Рядом шелестел и размачивался шелк. Караван мулов дружно постукивал копытцами по мостовой, а погонщик разгонял кулаками мальчишек, решивших потихоньку сунуть репейник под хвост последнего мула. Группа девушек, покраснев, засмеялась шутке солдата, а тот разглаживал усы тыльной стороной руки, щурясь на глубокие квадратные вырезы их платьев. Все поворачивались к Медичи, рукоплескали, смеялись, махали рукой… Из дворцовой колоннады выбежала десятилетняя девочка, низко присела перед правителем, – тот остановился, погладил ее по черным волосам.
– Я уже выучила для карнавала, правда, – прощебетала она, вытаращив большие черные глаза на золотую цепь Полициано.
– Что же ты выучила?
– Сонет во славу матери божьей, – серьезно ответила девочка.
– Молодец, – улыбнулся Лоренцо Маньифико. – Только не забудь.
Они прошли порядочный кусок дороги, а он все думал об этой девочке, у Маддалены тоже были такие волосы, легкие, волнистые…
– Чья она? – спросил он.
– Ее зовут Лиза, – ответил Полициано. – Это – дочка Антонио Марио ди Нольдо Герарди.
Лоренцо кивнул. Из рода гонфалоньеров.
– Все готовятся к карнавалу, – сказал Полициано, радуясь, что нашел предмет, о котором можно говорить без умолчаний. – Вот увидишь, наши карнавалы опять станут лучше венецианских, и мы возобновим их былую славу. Уже теперь во всей Италии к устройству празднеств призывают одни флорентийцы, и, конечно, опять осуществятся слова папы Бонифация, что флорентийцы – пятая стихия Италии. А на какую тему будет нынешний наш карнавал, Лоренцо?
– Триумф консула Павла Эмилия, – сурово промолвил Медичи.
Полициано закусил губу и умолк. Он понял.
– Триумф консула Павла Эмилия, – повторил Лоренцо. – Но у меня нет еще эскизов костюмов для процессии. Надо отыскать какого-нибудь художника, лучше бы всего из новых, молодых. По нынешним временам это, может быть, будет наш последний карнавал, мой Анджело, и поэтому – пусть триумф Павла Эмилия. Последний карнавал! Фра Джироламо, конечно, порадовался бы, если б это был последний флорентийский карнавал!
– Фра Савонарола? – не понял Полициано. – Какое он имеет отношение к нашим карнавалам?
– Я пригласил его во Флоренцию, – ответил Медичи.
Тут Полициано не выдержал, воскликнул, заикаясь:
– Ты… пригласил Савонаролу… во Флоренцию?
– Почему бы нет? Если он враг, лучше держать его у себя на глазах. А друг – тем более, милости просим. Не забудь: все, что есть в Италии славного, принадлежит Флоренции.
Полициано шел молча, склонив голову. Что это? Просто причуда или хитрый ход против Рима? Они уже входили в церковь, их охватил полумрак. Лоренцо снял шляпу, склонившись в глубоком поклоне, и дал святой воды Полициано. Тот, дотрагиваясь до его влажных пальцев, не выдержал и в тревоге заговорил:
– Не знаю, Лоренцо… Мне страшно. Я боюсь Савонаролу во Флоренции… А не кажется тебе, что иной раз эти издевательства, эти отвратительные шутки над твоими трагическими минутами… это несоответствие сущего… создаешь ты сам?
Но Лоренцо не ответил, так как в это мгновенье крестился большим крестом.
Из бокового нефа доносился шум мальчишечьих голосов и солидный голос учителя. Но при виде вошедших маэстро Доменико Гирландайо тотчас прервал объяснения и любезно пошел им навстречу. Церковные нефы тонули в мягком сумраке и отплывали. Тень и свет чередовались, как день и ночь; пришедший мог пройти безмерное расстояние времени, – столетьями, веками по-прежнему чередовались день и ночь, не сосчитать уже, сколько раз все чередовались день и ночь, и было это лишь свет и тень под узкими окнами. Свод коробился, как после пожара, и был такой же почернелый. Статуи сияли молитвами, свечами, цветами. Золото полыхало по пурпуру, а тот кровоточил по золоту. Божья матерь уезжала на ослике в Египет с младенцем на руках, и святой Иосиф, опираясь на палку, важно шел за ними. Он был святой, так как постоянно имел матерь божью перед глазами, всегда жил в ее близости. Тоны органа молчали, но и без того что-то все время слышалось в воздухе, – может, отзвуки их начали только теперь доходить, падая с высокого свода.
Граначчи стоял рядом с Микеланджело. Граначчи уже вернулся из Нурсии, города Сполетского герцогства. Он бледней, чем был до поездки. Глаза у него все время блуждают и жмурятся против солнца. Он вернулся от вещей Сивиллы, и, наверно, там творились удивительные дела, потому что он об этом молчит, ничего не рассказывает, а Микеланджело не спрашивает, Микеланджело боится. Граначчи беседовал с дьяволом, Граначчи продал душу дьяволу. Мертвая язычница, мертвая возлюбленная, холодней снега, любовь, смеющаяся мукам, как лавр суровая, камень живой… Граначчи погиб. Хотел стать славней всех, затем и был в пещере мертвых. Но Микеланджело с удивительной ясностью видит, что после возвращения в рисунке Граначчи – никаких изменений. Он рисует и пишет красками так, как прежде. Хорошо сделано, ошибки нет, но… и только, и только… Страшно подумать, что, может, душу погубил за… ничто. Ад умеет так обманывать.
Вернулся от вещей. Это сложные обряды, – говорит, пришлось обещать, что я женюсь на мертвой, буду принадлежать только ей, и она мне поможет, эти мертвые обладают удивительным, великим могуществом… Микеланджело боится его. Что он там пережил, что там было? С мертвой – он, живой! Приор Служителей девы Марии за такие дела был сожжен… Cives Bononiensis coire faciebat cum daemonibus in specie puellarum 1 – так объявляли о нем, ведя его на костер. Микеланджело боится. Но Граначчи ничего не рассказывает, даже нарочно говорит только о вещах совсем будничных, привычных… Но он бледен, глаза блуждают, и улыбка его – уже не мальчишеская, а резко прочерченная волнистая черта на лице, часто жестком, оцепеневшем от тяжелого внутреннего напряжения.
1 Гражданин Бононы (болоньи) совокуплялся с демонами, принявшими вид девушек (лат.).
Медичи, остановившись перед ними, стал беседовать с Доменико Гирландайо.
– Я возьму у тебя кое-кого из них, – слышат мальчики его голос. – Мне нужны живописцы для карнавала, но я их тебе не верну. Оставлю их в своей Академии, в садах, под строгим присмотром старенького Бертольдо, понимаешь, мне нужно опять пополнить штат своих художников…
Мальчики слушают в изумлении, затаив дыхание. Всем застелила глаза золотая мечта. Стать художником Медичи, расти под присмотром старого Бертольдо – лучшего друга божественного Донателло, воспитываться вместе с сыном Лоренцо Маньифико, пировать среди членов Платоновой академии, среди людей, одни имена которых внушают почтение князьям, герцогам, королям, папам… Золотая мечта! И Гирландайо дрожит от радости. Да, из его учеников хочет Маньифико выбрать себе художников – не из мастерской Верроккьо или Перуджино, из его! Лоренцо переводит испытующий взгляд с одного лица на другое, по мере того как мальчиков называют. Напряженное мгновенье. И внезапно в него вкрадывается тень тайны.
Маньифико молча смотрит на бледное лицо Граначчи. Граначчи дрожит, руки его крепко сжаты. Лоренцо смотрит на других ребят, потом опять медленно поворачивается к Граначчи. Нет, он не спрашивает даже Гирландайо. Он смотрит только на паренька. Тень не рассеивается. Тень стоит неподвижно. Окна, день и ночь, свет и тень.
– Ты! – указывает Лоренцо на Граначчи. – Ты мне нравишься. Сумеешь сделать эскизы костюмов для процессии консула Павла Эмилия?
– Сумею, – уверенно отвечает Граначчи. – И не только это. Я готов.
Маньифико улыбнулся над лаконичностью ответа и ждет. Мальчику нужно бы сейчас стать на колени, почтительно склониться, благодарить правителя, поцеловать ему руку, обещать… Но Граначчи не склоняется, не преклоняет колен. Граначчи стоит молча, и взгляд его еще больше потемнел. Гирландайо смущенно приносит за него извинения, но Лоренцо с доброй улыбкой махнул рукой. Тут только Граначчи заговорил.
– Чего тебе еще? – удивился Лоренцо.
– У меня есть друг, – хрипло произносит Граначчи и уверенным движением подталкивает Микеланджело вперед. – Я люблю его. Без него не пойду.
Все замерли. Но правитель засмеялся и, положив обоим мальчикам руки на плечи, промолвил:
– Редко встретишь нынче такую дружбу, ребятки! Что ж, возьму вас обоих: друг твой, наверно, достоин такого поступка.
Косогор.
Уж не ноябрьский, а весенний, апрельский, полный солнца. Микеланджело, со слезами счастья, мнет руку Граначчи.
– Никогда тебе этого не забуду, Франческо, никогда.
Но тот молчит. Не улыбается. Волнистая линия рта, прочерченная на холодном, оцепеневшем лице. Это уже не мальчик, умеющий радоваться и смеяться. Он глядит на камень косогора и слушает пылкие, упоенные слова Микеланджело, не шевелясь. Да, здесь они стояли тогда… здесь он впервые о ней услышал… Вдруг Граначчи хватает его за руку, лицо у него измученное, и он шепчет с горькой нотой отчаянья:
– Микеланджело! Микеланджело!
Микеланджело испугался. Первый раз Франческо говорит таким голосом.
А Граначчи шепчет.
– Поклянись, что никогда меня не оставишь!
Он тянет его в сторону. Они стоят перед воротами на римскую дорогу. Смеркается. Легкие апрельские сумерки. Высокий крест перед ними, Флоренция всегда ставила У своих ворот кресты. Большак полон народу. Сейчас ворота запрут, пора возвращаться в город. Мальчики стоят перед крестом, спиной к дороге. Позади неимоверный шум – голоса купцов, топот коней, грохот колес, крики всадников, протяжные призывы и просьбы нищих, молитвенное бормотанье странствующих монахов.
– Вот здесь поклянись, что никогда меня не оставишь! – сказал Франческо. – Что лучше сейчас умрешь, чем когда-нибудь покинешь меня… Что готов принять любую муку, если меня забудешь!
– Клянусь! – поднял руку Микеланджело, потрясенный звучащим в голосе Франческо отчаяньем, испуганный видом его, завешенного сумраком лица.
– У меня нет никого, кроме тебя, Микеланджело… – прошептал Граначчи.
Тут позади них послышалось приглушенное чтенье молитв. Перед крестом остановились три монаха. Трубы на башне прозвучали уже второй раз. Дорога опустела, зубчатые ворота скоро закроются, и только черные крепостные стены будут торчать в сером пространстве. Но если господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
– Пора идти, – сухо промолвил Граначчи, смерив монахов враждебным взглядом.
Но один из них обратился к нему и с обычной у странствующего монаха смиренной улыбкой сказал:
– Вот запирают ворота. Мы пойдем с вами, пареньки. Они пошли.
Граначчи молчал.
– Вы – первые, кого мы встретили при входе в город, – заметил второй монах. – Такие встречи никогда не бывают случайными. Кто вы, парни?
– Мы художники, – гордо промолвил Граначчи.
– Так, так, – улыбнулся второй монах. – Можно было догадаться, что первыми, кого мы встретим, подходя к Флоренции, будут художники.
– Мы – художники Медичи, – гордо пояснил Микеланджело.
– И мы идем к Медичи, – тихо произнес один из монахов.
Они шли по Флоренции.
– Меня зовут Франческо Граначчи, а это мой друг Микеланджело Буонарроти, – сказал Франческо.
Тут в разговор вступил третий монах, до тех пор молчавший. Голос у него был резкий и неприятный, каркающий.
– Буду помнить эти имена, не забуду, – сказал он. – А вы запомните мое. Я – фра Джироламо, по прозванию Савонарола.
СТУК В ВОРОТА
"Если бы ты знал, город, что служит к миру твоему, – но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего".
Костлявая, исхудалая рука промелькнула в воздухе – могучим жестом, так что рукав рясы съехал, обнажив ее желтизну. Каркающий, резкий и мучительно скрипучий голос монаха быстро разлетелся во все стороны вслед за этим движеньем.
– Граждане флорентийские, валяющиеся в мерзости своей, в нечистотах и грязи грехов своих, – так взывает к вам Христос, и взывает в слезах. Написано: videns civitatem, flevit super illam – смотря на город, заплакал о нем. Божьи слезы… и о вас! Не написано, что плакал, когда был избиваем, заушаем, мучим, терзаем, бичуем, терниями увенчан, ко кресту пригвожден и три часа в ужаснейших муках на древе Голгофы истязаем, но написано: смотря на город, заплакал о нем. Несчастная Флоренция! Смотря на город, заплакал. Каким разрушением заплатишь ты за то, что не узнала времени посещения твоего! И каким огромным будет разрушение сие, что даже сын божий заплакал? Чем же можешь ты избежать этого? Чем спастись? Чем освободиться? Думаешь, бог еще смилуется над тобой, ты, худшая блудница из всех городов-блудниц, блудница непотребнейшая, блудница мерзкая, блудница дряхлеющая, блудница окаянная? Итак, чем же хочешь ты спастись, если бог помилует тебя? Взываю об одном: покайся! покайся! покайся! Никогда больше не должна оставлять тебя мысль о превеликой скорби жениха твоего и сладкого искупителя Иисуса Христа! Житие наше и умирание да пребудут вечно в ранах и во внутренней сладчайшего воплощенного Слова, знаешь ли ты это, Флоренция, погибель души? Больше никогда не должна ты быть пучиной греха, о город, полный тьмы, мерзости и блуда. Что дала ты до сих пор своему искупителю? Уксус и желчь, удары и жестокость. Безжалостная Флоренция! Но ты получишь за это воздаяние свое. Ты должна была быть жемчужиной в божественном венце его, а стала шипом в его венце терновом, должна была быть радостью и любовью, домом молитв и благодарений, всем этим должна ты была быть, небесная невеста, а погляди теперь на мерзость свою, погляди на одежды свои, разорванные в распутстве и похоти, погляди на то, чем ты стала на этих свиных пастбищах, – погляди, не бойся поглядеть, не гнушайся сама себя, не отвращай ока от безобразий своих, погляди, чем стала! Но горе вам, вожди и правители здешние, ведшие и правившие, ведущие и правящие! Трубы божьего гнева ждут вас, и не избежать вам их. Ибо написано: vos autem fecistis illam speluncam latronum, – а вы сделали его вертепом разбойников!
Слушатели оцепенели. Флоренция, королева тосканская, никогда до сих пор не слышала, чтоб о ней говорили такие слова. В переполненном храме нечем было дышать. Рыдания женщин сливались с суровым голосом монаха, худая фигура которого металась на кафедре быстрыми ломаными движениями, резко выделяясь на золоте стен.
– Перед тем как идти на смерть, он мыл ноги ученикам своим. Размышляли вы когда-нибудь об этом, спесивые, раззолоченные граждане флорентийские? Встает из-за стола Творец, а творенья сидят. Он на коленях перед учениками. О добрый Иисус, что делаешь? О сладкий Иисус, зачем склоняется величие твое? О тихий Иисус, ты посрамляешь меня в столь великом униженье! Погляди, надменный патриций, погляди сюда, на эту вечерю, погляди, ты и ныне – перед ликом божиим и никогда не сможешь от него скрыться, – погляди, что делает твой творец, твой спаситель! Учись смиренью, учись, патриций, купец, художник! Но проповедовать во Флоренции смирение? Горе тебе, город, мнящий себя лучшим в Италии, а на деле – наихудший! Христос стоял на коленях!.. Слушайте, вы все! Христос стоял на коленях… Что ты на это скажешь, душа моя? Кто когда слышал подобное? Слышал я слово твое, господи, и убоялся, видел дело твое, господи, и ужаснулся. А что сказала бы ты, душа моя, если бы… если бы… нет, страшно сказать, но все же вымолви это, душа моя: что сказала бы ты, если б увидела Его стоящим на коленях… даже перед предателем Иудой?








