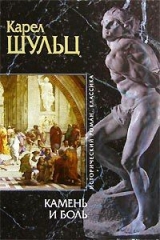
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 47 страниц)
– Кто ты такой? Как тебя зовут?
– Я – Микеланджело Буонарроти, ваятель.
Альдовранди в изумлении быстро встал. Сквозь сухую желтизну его лица проступил легкий румянец, у него задрожали руки. Пурпур одежды кроваво зардел в свете факела, и старик, коснувшись длинной черной тростью плеча юноши, воскликнул взволнованно:
– Говори правду, флорентиец, потому что от меня зависит, отпустить тебя или отдать палачу. Ложь не спасет тебя, а только усугубит кару! Ты в самом деле – ваятель Микеланджело Буонарроти или обманно выдаешь себя за него?
Микеланджело быстро шагнул вперед, и голос его был резок и прерывист.
– Я – Микеланджело Буонарроти и ни за кого себя не выдаю… Я – это я… Я бежал из Флоренции… хотел спастись… но не спас ничего и себя тоже… всюду одинаково темно… это было напрасное бегство, напрасные дороги… в Венеции я не мог найти работы… я – беглец, который хочет опять на родину… Я – Микеланджело… вот эта цепь – от княгини Альфонсины… перстень – от Клариссы Орсини… посмотри, на нем вырезан герб Медичи… я получил оба подарка за одно свое произведение… может быть, ты слышал… за статую из снега… я – Микеланджело… погляди на мое лицо… меня все знают – из-за этого уродства… а коли не веришь, дай мне камень… прошу выдать мне камень – как личную препроводительную грамоту… погляди на лицо мое и дай мне камень… тогда узнаешь, что я – в самом Деле Микеланджело, ваятель… коли слышал обо мне…
Между тем Альдовранди подошел вплотную к нему, наклонил его голову к себе и промолвил:
– Я много слышал о тебе, Микеланджело…
Потому что старик тщательно следил за всем, где что было выдающегося, беспрестанно мучаясь мыслью, что не может так прославить Болонью художниками, как прославилась Флоренция, которой он всегда завидовал. Сколько, сколько раз по ночам, проведенным в старческой бессоннице, мечтал он о том, будто он, патриций, глава знатного рода, живет при дворе Лоренцо Маньифико в качестве его друга и советника, беседует с медицейскими платониками, слушает, как декламируют Эсхила и Овидия, руководит устройством карнавалов и политикой Италии… А просыпался всякий раз в Болонье, где могущественные Бентивольо думают только о новых крепостях, толпах солдат алчные, грубые, кровожадные, такие непохожие на обаятельного князя Лоренцо… Старик не забывал, как никогда не забывает зависть. Отшельник в пурпуре, любитель гармоничной жизни, переутонченный собиратель сокровищ искусства, гнушаясь пустоты жизни в Болонье, ревниво следил за всем, что делалось во Флоренции. И вдруг вот он перед ним, один из художников Маньифико, очутившийся в тюрьме, как бродяга, вот он, о котором агенты доставляли ему сведения, что именно этого художника Лоренцо особенно любит и ценит, вот он, с лицом, отмеченным ударом кулака мордобойца, с горящими глазами, в измятой, выцветшей одежде, вот он, найденный в тюрьме и безоружный, твердящий все время одно и то же: прошу выдать мне камень, как личную препроводительную грамоту, дай мне камень и увидишь, что я в самом деле Микеланджело Буонарроти… Альдовранди повторял только:
– Так это – Микеланджело; значит, ты – Микеланджело Буонарроти…
Он повторял это так, что Микеланджело поглядел на него с безмолвным изумленьем, и это было изумленье изгнанника, который вдруг опять услыхал, как имя его снова произносят с любовью. А прижатые к его вискам руки старика напомнили ему родной край.
Старик, снова обняв его, промолвил в восторге:
– О, beata nox, блаженная ночь, в которую я познакомился с тобой, Лоренцов ваятель! Как удивительно сводят боги друг с другом людей! Еще немного – и тебе пришлось бы горько пожалеть о своей опрометчивости и о том, что ты – флорентиец!.. Но с этой минуты ты – мой гость! Ты приехал ко мне в Болонью, Микеланджело, и мой дом, мой дворец, мои коллекции – все теперь твое. Никогда больше не возвращайся во Флоренцию, – там французы, они жестоко хозяйничают там, творя казни и насилия, радуйся, что ты у меня, я тебя никогда, никогда не отпущу, о, felix dies, о, beata nox 1, когда я тебя узнал! Ты будешь теперь работать для Болоньи, нет, мы тебя никогда не отпустим, как эти глупые венецианцы! Что венецианцы сделали когда умного? Видел ты в Венеции искусство? О юноша! Как ты еще молод и неопытен! Венеция и кошель – это да. Но Венеция и искусство? Теперь конец твоему странствованию, ты здесь, а об остальном позабочусь я, и синьоры Бентивольо тоже будут рады, спроси моего дорогого Косту…
1 О, счастливый день, о, блаженная ночь (лат.).
И Альдовранди, вдруг вспомнив о Лоренцо Косте, распорядился скорей привести художника из подземелья. Капитан, порядком сбитый с толку происходящим, обрадовался, что можно уйти. И факел его, под влиянием воспоминанья о пятнадцати золотых дукатах, дрожал.
– Мои друзья… – осмелился завести речь Микеланджело.
Альдовранди улыбнулся.
– Не беспокойся, их отпустят, я прикажу! И коли ты всегда так заботишься о своих случайных приятелях, Микеланджело, так возьми и меня под свое покровительство, я не побоюсь объездить с тобой весь свет!
"Кто этот человек? – раздумывал Микеланджело. – Ясно, что кто-то имеющий власть выпускать узников и передавать их палачу… Одежда его пурпур, жезл – черная трость с слоновой костью… Он пришел судить меня, а уводит, предлагая свое гостеприимство, и я не умею даже поблагодарить… Кто этот человек, прикрывающий меня сейчас своим могуществом, словно краем своего пурпурного плаща?"
– Ты видел Болонью? – спросил старик, когда они опять были в караульне.
– Очень мало. Нас задержали вскоре после того, как мы пришли.
– Якопо делла Кверча… – благоговейно промолвил Альдовранди, подняв палец. – Помни, флорентийский ваятель, – Якопо делла Кверча…
– Да, – кивнул головой Микеланджело. – Не было ваятелей выше Донателло и божественного Кверчи.
Старик в восторге сжал его руку.
– Ты прав, Микеланджело! Божественный Кверча! Я хорошо знал Якопо, он часто бывал у меня: это был великий художник, и оттого-то после его смерти здесь особенно чувствовалась пустота…
– Но у вас был здесь Никколо Пульо…
Лицо старика болезненно сморщилось.
– Году нет, как умер дорогой мой Никколо Антонио, я держал его руки в час кончины, и дело его осталось неконченым. В Болонье ваятели скоро умирают… Но ты нет, ты нет, Микеланджело! – поспешно прибавил он, словно успокаивая. – Ты останешься очень надолго среди нас…
Сперва послышались шаги, потом появилась тень, но шагов тени не было слышно, а прервал их беседу человек. Лоренцо Коста вернулся – в одежде, пропитавшейся сыростью, и с взглядом, в котором любопытство было смешано с досадой. Видя волненье старика, бледный румянец его сухих щек и возбужденный взгляд, он с тем большим вниманием посмотрел на юношу, который сделал легкий поклон. Альдовранди взял обе руки того и другого, соединил их и, не в силах превозмочь своего волнения, сказал:
– Если б дочь Юпитера, дева Минерва, если б Аполлон были свидетелями этой минуты! Посмотри, Коста, какого узника я освободил! Знаешь, чью руку ты жмешь? Это – Микеланджело Буонарроти, флорентиец, только что приехал из Венеции, чтоб украсить Болонью своими бессмертными твореньями! Тот самый, которого бесценный Лоренцо Маньифико любил больше, чем всех других художников! Это – Микеланджело Флорентинус, покинувший неблагодарную родину, чтобы отныне посвящать дары своего божественного духа Болонье. А ты, Микеланджело, знай, что держишь руку знаменитейшего феррарского живописца Лоренцо Косты, который создал нам здесь чудеса искусства. Это – Коста, artifex egregius praeclarus, omni laude pictor dignissimus 1. А теперь, друзья, уйдемте отсюда, забудем про эти места. Знай, что с этой минуты Микеланджело – мой гость. Проводи нас, а завтра утром приходи и покажи ему Болонью, – все, что у нас тут самого прекрасного!
1 Художник превосходный, славный, живописец, всяческой похвалы достойнейший (лат.).
Коста поглядел на Микеланджело равнодушно. Рука его была холодная, влажная – след пребывания в подземелье. Микеланджело, с новым поклоном, сказал:
– Мессер будет так любезен, покажет мне прежде всего самое прекрасное, что есть в Болонье: свои собственные произведенья; я ничего другого не желаю и прошу его об этом.
– По вашим манерам и речам, – ледяным голосом ответил Коста, – сразу видно воспитание медицейского двора. Я не умею так льстить, но, конечно, выучусь у вас.
– Мы должны о нем позаботиться, – сказал Альдовранди. – Надо поскорей найти ему какую-нибудь работу, чтоб он от нас не сбежал, ведь флорентийцы такие непостоянные… А я еще сказал ему, что в Болонье ваятели скоро умирают! – засмеялся старик. – Это вздор, не думай об этом. Познакомлю его теперь с Бентивольо, да еще есть дома – Санути, Феличини, Кромассо, много других… И я…
– Вы, наверно, очень устали, мессер Альдовранди, – сухо произнес Коста. – И я корю себя за то, что ради меня было предпринято это ночное посещение тюрьмы.
– Ты себя коришь… а я радуюсь! – засмеялся Альдовранди. – Иначе я не встретил бы Микеланджело… И чем больше я об этом думаю, тем больше диву даюсь! Тут, конечно, великое предзнаменованье, как по-твоему, Микеланджело?
– Да, это – предзнаменованье, – кивнул головой Микеланджело и прибавил: – Но для меня в нем нет ничего удивительного. Меня всегда освобождают из какой-нибудь темницы…
– Ты так часто в них бываешь? – отозвался резкий голос Косты.
Микеланджело поглядел на художника и промолвил:
– Есть темницы не только из железа и камня, и попадает в них тот, кто добивается великой духовной цели, мессер Коста.
Коста равнодушно пожал плечами.
– В области духа нет темниц.
И улыбнулся.
Микеланджело ничего не ответил.
Они опять шагали по темной земле площади в сопровождении неслышных слуг со светильниками. Шествие медленно двигалось к палаццо Альдовранди. И пока старик воодушевленно беседовал с Микеланджело, Коста гордо молчал. Страшные, обезображенные лица узников, слабо освещенные его факелом, мелькали у него перед глазами. Одно из них было особенно ужасно. Угрюмое, почти нечеловеческое, со скрытыми проблесками безумия, оно в свете его факела злобно оскалилось на него. Человек стал бешено рваться в своем железном ошейнике, не обращая внимания на боль, так как хотел избавиться от этого света, хотел опять во тьму. В ожидании смерти стоя, прикованный к стене, он осклабился такой страшной гримасой презренья, что у Косты побежали мурашки по коже, он отскочил и чуть не выронил факела, чадящего во тьме.
– Завтра… – слышит Коста голос Альдовранди, – завтра, Микеланджело, я сообщу о твоем прибытии в Совете и буду счастлив, если мне удастся сделать так, чтобы первые же твои работы были для города.
Тут Коста, не выдержав, промолвил:
– Можешь быть уверен, Микеланджело Буонарроти, что ты станешь теперь первым художником болонским, будешь sculptor egregius, praeclarus, omni laude artifex dignissimus. Ты умеешь льстить. Но это положение незавидное. В одну прекрасную минуту неожиданно лишаешься всего.
– Если б я лишился всего, – спокойно ответил Микеланджело, – хоть о такой высоте не мечтаю, то поступил бы так же, как золотых дел мастер герцога Анжуйского.
– Что это за история? – поспешно спросил Альдовранди, словно желая что-то предотвратить.
– У герцога Анжуйского был один золотых дел мастер, – ответил Микеланджело, – искусством своим не уступающий древним художникам. Но однажды он лишился не только того произведения, которому отдал много лет жизни, но и всего, что создал прежде. Видя, что погибло все дело его жизни, и усмотрев в этом перст божий, он, смиренно упав на колени, обратился к богу с такой молитвой: "Благодарю тебя, всемогущий боже, царь неба и земли! Не дай мне и дальше вдаваться в это заблуждение, искать что-нибудь помимо тебя!" И, раздав все имение бедным, ушел бы в пустыню своего духа, потому что есть пустыни духа, мессер Коста, так же как и темницы духа…
– Насчет этого проповедует вам во Флоренции Савонарола? – усмехнулся Коста.
– Нет, – спокойно возразил Микеланджело. – Это еще задолго до Савонаролы написал для нас и для всех художников, ради смирения их духа, в Комментариях своих один из величайших сынов Флоренции, ваятель Лоренцо ди Чоне Гиберти, – может быть, ты знаешь его бронзовые двери в нашей крещальне, чудо света…
– Вы там всегда готовили путь Савонароле! – засмеялся Коста.
Альдовранди плотней закутался в свой плащ. "Мой промах, – подумал он, ведь я хорошо знаю Косту, и надо мне было скрыть от него свою радость. Самолюбивый Коста, засушенный, раздраженный, ни во что не верящий. Его разъедает, точит червь, а я даже забыл спросить у него, нашел ли он там, в подземелье, своего Иуду! Какая неосмотрительность! А Коста несдержанный, резкий, не особенно склонен считаться с законом, да к тому же феррарец, ему ничего не стоит пустить в ход кинжал…" Альдовранди нахмурился. Коста молчал. Перед глазами у него снова возник образ человека, прикованного в подземелье. "Потребую этого… пускай выведут мне его на свет… я сделаю лицо его, полное нечеловеческого отчаянья, знаменитым и бессмертным… болонский узник будет давно лежать в могиле, а на картине моей по-прежнему из века в век рассказывать людям о своем проклятье, о своей ненависти, о погибели своей души…" Уйдя в мысли об этом, Коста уже не замечал Микеланджело. Альдовранди был ему смешон. Никто до сих пор не видел, чтобы старик так изменился! Болонский патриций, трепещущий перед гневом Бентивольо, вздумал вдруг разыгрывать из себя Лоренцо Маньифико… Косте стало так смешно и в то же время противно, что он не мог скрыть усмешки. Они стояли прямо перед дворцом, и старик поспешно подал ему руку:
– Ты нашел, что искал?
Коста кивнул.
– Да, и буду просить вашего разрешения, мессере, чтобы этого человека привели ко мне в мастерскую. Он мне понадобится.
– Где он? – спросил Альдовранди.
– Очень глубоко, страшно глубоко, но не в in pace.
– Обещаю тебе, – заверил его Альдовранди, – что ты получишь этого человека.
– Что вы пишете, мессер Коста, – спросил Микеланджело, – что вам нужны такие модели?
Коста улыбнулся и промолвил небрежно:
– Да задумал большую картину "Пробуждение весны", темперой…
Альдовранди успокоительно положил ему руку на плечо и сказал:
– Мой дорогой Лоренцо шутит. Он готовит алтарную картину "Последняя вечеря" и сейчас искал модель для Иуды. Поэтому я и ходил с ним в тюрьму.
– И нашли? – с любопытством спросил Микеланджело.
– Да, – отрезал Коста. – И если вам интересно, могу сказать, что у этого Иуды лицо совершенно расплющенное, словно отмеченное, нос…
Микеланджело, побледнев, сжал кулак.
– Покойной ночи, Коста, – поспешно простился Альдовранди и, взяв Микеланджело под руку, вошел с ним в широко открытые ворота дворца.
ТЕНЬ ОХРАНЯЕТ, ТЕНЬ СТЕРЕЖЕТ
Коста остался один. Он зашагал по улицам в глубокой задумчивости. Этот приблудный флорентиец совсем овладел сердцем старика как раз в такую минуту, когда Альдовранди так необходим безраздельно мне… Нужно действовать быстро! Пойти сейчас же, с утра, к Бентивольо и устроить, чтобы Микеланджело либо изгнали из города, либо опять посадили в тюрьму. Но тогда я навсегда восстановлю против себя Альдовранди, – старик мне никогда не простит! Нет, надо как-то иначе… Злоба росла с каждой новой мыслью. Коста сжимал кулаки и говорил с ночной темнотой. Спит уже монна Кьяра или еще нет? Как хорошо было бы пойти сейчас к ней, положить голову ей на грудь, закрыть глаза и только дышать… слушать, как бьется ее сердце у твоих висков, почувствовать на волосах ее тонкие миротворные пальцы, потом легкое, чуть влажное прикосновенье ее губ к твоему лбу, поцелуй и поглаживанье… мир и покой… нега глубокой тишины в ее молчаливой, понимающей ласке… молчать и только вдыхать ее… Но монна Кьяра теперь уже не одна. Муж, верховный военачальник болонских скьопетти, вернулся из Рима, да еще привез с собой гостя Оливеротто да Фермо, молодого римского дворянина на службе у церкви, кондотьера на службе У папского сына дона Сезара. Вечером, конечно, долго пили да, того и гляди, теперь еще сидят за столом, среди серебряных блюд с фруктами и сосудов с вином, в свете розовых свечей… Молодой дворянин рассказывает всякие истории из жизни папского двора, от которых монна Кьяра краснеет, прелестная, очаровательная, длинные черные волнистые волосы искусно причесаны, глаза как фиалки… Косте кровь ударила в виски. Нынче все отмечено дьяволом – с самого утра. Бывают такие дни, в которые чуть не с рассвета до всего коснулся нечистый коготь дьявола, словно день этот не посвящен никакому святому и темным силам позволено вредить, выворачивать все наизнанку, каждую надежду тотчас обращать в пепел… Мерзкий день и мерзкая Болонья, город, который он уж столько раз проклинал, где приходится драться за каждую работу, клянчить у Бентивольо, пресмыкаться перед ними, почтительно целовать руку каждому аббату, отвешивать глубокие поклоны всяким лавочникам и писаришкам из Синьории… А теперь еще этот шатун! Значит, безумный старик нашел себе нового любимца! Меценат в пурпуре, однако не очень-то склонный сорить дукатами, строящий свои оценки применительно к отзывам молвы, корчащий из себя знатока, жалкий подражатель великим благодетелям из числа князей… С легким сердцем покидающий одного художника ради временной выгоды, ожидаемой от другого… Любитель модных изяществ, потчующий теперь своего нового баловня у себя во дворце, осыпающий его там всякими посулами, обхаживающий, улещающий… Сейчас! Наверно, вот в эту самую минуту, когда я блуждаю здесь в темноте, словно выгнанная из дому собака!
И муж монны Кьяры вернулся. Наверно, уже не пьют, наверно, пошли спать. Командир скьопетти, победоносный Асдрубале Тоцци вернулся из Рима после двухмесячного отсутствия, человек отважный и страстный, и жена его монна Кьяра – самая прекрасная женщина в Болонье… наверно, больше уже не пьют с римским гостем, наверно, пошли спать… Сейчас! Наверно, вот в эту самую минуту…
Коста задрожал под наплывом мучительных видений и остановился, всхлипнув от боли. Прислонился лбом к стене дома, – камень был ласковый, холодный. Костова рука понемногу подымалась к горлу, словно он хотел сорвать с себя что-то мерзкое, живое, вздрагивающее, которое там присосалось. Он прикусил губу, стиснув зубы, и медленно потекла кровь. Глаза его горели, жгли. Он дрожал, и зернистый камень царапал ему лоб. А перед ним – пустота. Густой кромешный мрак, в который он выкричал бы всю свою боль, не будь горло его захлестнуто тугой, заузлившейся петлей страданья. Все кончено, он не способен ни к какой работе, и будь сейчас при нем картон его "Последней вечери", он разорвал бы его в клочья… Все кончено. Лучше б оставаться ему в Ферраре, быть писарем…
Мне тридцать четыре года, а что я могу сказать о себе? Когда я был так молод, как этот флорентиец, я ходил в мастерскую моего дорогого учителя Козимо Туры и тоже был полон замыслов, мечтаний, веры в будущее… Это было золотое время фресок во дворце Скифанойя в Ферраре, как сейчас вижу старого Козимо Туру в длинном черном плаще, забрызганном красками, с черной бархатной шапочкой на лысой голове, стоящего на лесах и обращающегося к нам, словно с церковной кафедры. Шамкая беззубым ртом и размахивая руками, он кричал нам: "Никаких призраков, Джованни! Никаких химер, Франческо! Никаких привидений, Лоренцо! Каждый пиши, как видишь".
Никаких призраков, никаких химер, никаких привидений! Зачем не остался я ему верен? Зачем бежал от него сюда, зачем так мучительно преследует меня теперь мысль, что в краске и живописи непременно должны быть призраки и видения, чтоб было прекрасно?.. Зачем не могу я больше писать по-прежнему, подчиняясь правилу: пиши, как видишь!
Предо мной тьма и ничто. Я всеми отвергнут. Не могу работать, отвергнутый больше всего самим собой. Друг мой Франческо Франча на все мои сомнения – ни слова. Альдовранди нашел себе нового художника и закрыл для меня двери своего дома. Что же ты, моя единственная, что же ты, любовь моя, страстная и живительная, лежишь теперь на ложе другого, который слышит биенье твоего сердца у своих висков и чувствует твои миротворные пальцы на своих волосах и губах… любовь моя… в то время как я блуждаю здесь ночью, словно выгнанная из дому собака…
И тут перед ним вновь возникло найденное лицо, вдруг вырисовалось так отчетливо, в такой совершенной подробности, словно тот человек из подземелья встал прямо перед ним. Он видел его ясно, потому что лицо это, кажется, можно было хорошо видеть лишь во тьме. Его озаряла тьма. Оно требовало черного освещенья. Чем для других было солнце, тем для него была тьма. И было в этом лице, выпяченном перед его глазами, такое отчаянье, что он задрожал от той же самой жути, как там, внизу, при первом взгляде на него.
Вот его задача, а он совсем без сил. Столько мук видел он при осмотре закованных узников, а его собственная, личная боль все-таки жгучей всего. И мечущиеся глаза его вдруг помутнели от ужаса. Он со стоном отпрянул от стены. Потому что его вдруг молнией пронзило ощущение, будто, прижатый к холодной стене, он – такой же точно беспомощный темничный узник с вделанным в стену железным ошейником на шее, из которого он отчаянно, но тщетно хочет вырваться и никогда уже не освободится… Он с испугом поглядел на стену, невольно ощупывая шею. Улица. Город. Черная Болонья.
Он задохнется. Надо как-то умерить этот страшный гнет. В глазах у него был сплошной кровавый туман. Он постоял еще немного, по искусанным губам его пробегала злая усмешка. Да, да, он начнет с него, с этого, ближайшего. Хоть пригрозит как следует. Авось этот флорентиец поймет, что нельзя безнаказанно отнимать хлеб у других художников, лишать их будущего…
Стиснув зубы до боли в деснах, с волосами, слипшимися от пота, сжав руки, длинными шагами зашагал он обратно, к палаццо Альдовранди.
А в это время Микеланджело осматривал там в свете свечей самые ценные предметы из собраний старика, без конца восхищаясь, так как эти вещи были действительно прекрасны. Потом он рассказывал о Флоренции и о своем пребывании в Венеции, до тех пор пока у Альдовранди веки не отяжелели дремотой, и старик пошел ложиться, отказавшись на этот раз от привычного чтения Данте и удовольствовавшись обещанием Микеланджело, что завтра они будут читать Данте вместе.
Тогда пошел спать и Микеланджело, до того усталый, что все события сегодняшнего дня казались ему сном, – он стал нарочно перебирать их в памяти, чтобы запомнить хорошенько. Они тайно вошли в ворота Болоньи и затерялись на многолюдных улицах, но бдительное око стражи скоро распознало пришельцев, и в них сразу вцепилось несколько рук, как раз когда они проходили по галерее возле университета. У них не было печати на пальцах, и их повели сквозь равнодушные толпы, привыкшие к подобным зрелищам. Солнце погасло, воздвигся мрак темницы. Надежда покинула их, и только в нем одном заговорило упрямство. Он метался по камере, словно пойманный зверь, ища, как бы вырваться. Сюда доходил глухой гул голосов из подземелья, стонало железо, откликалась земля, ревели своды, снова хлынул черный поток подземных голосов. Он думал, что смерть совсем близко. А потом вошел этот старик в пурпуре. Сел, чтоб судить его, имея власть отдать узника в руки палача. И вдруг старые ладони прижались к вискам, как воспоминанье о родном доме. А теперь – золото, мраморная облицовка, великолепие красок и статуй, мягкие ковры и заморские ароматы, легкие ткани и княжеская роскошь, патрицианское гостеприимство… Днем шла речь о палаче, ночью – о славе и почете.
Беглец готовится лечь на батистовые подушки и увидеть во сне родной дом. Бывают дни, говорит он себе, когда словно все явно отмечено благодатью господней, отчетливей и ясней, чем обычно. Такие дни, когда как будто с самого рассвета ко всему прикоснулось ангельское крыло, и покров святого, которому посвящен этот день, простирается над чистым и нечистым, подобно солнечному свету, могущество злых сил слабеет, каждая печаль превращается в радость, каждый пепел в надежду.
Он никогда не ложился, не сотворив молитвы на сон грядущий, – так и нынче достал из-под плаща свой псалтырь. Вот уж несколько лет, как он привык каждый вечер читать один из ста пятидесяти псалмов, начиная с первого, доходя за полтораста дней до последнего и на другой день начиная опять первым. Вскоре он заметил, что книга эта для него – не только молитвенник, но и великая памятная книга, в которой как бы записано все, прожитое им за день, – подробней, чем сумел бы сделать это он сам. Лишь в зеркале псаломных стихов все события прожитого дня вставали в подлинном своем виде. Привык он и для грядущего дня искать в псалме, который на очереди, указания, объясняющего смысл всего, что иначе осталось бы загадочным, ключа, которым он этот смысл отпирал. Нередко ключом был один-единственный стих, но нарушь порядок, возьми другой псалом, и ключ к завтрашнему не подошел бы. И он стал верить, что, строго соблюдая порядок этих ста пятидесяти псалмов, он воспроизводит некий сверхъестественный остов своей судьбы. И на этот раз он встал на колени у постели, но в то же мгновенье вошел слуга, с поклоном подал ему лист бумаги и тотчас снова исчез за дверью, завешенной роскошной тяжелой занавесью. Микеланджело в изумлении прочел единственную фразу, с трудом разбирая наспех кое-как набросанные буквы. Написано было только: "В Болонье ваятели скоро умирают".
Ночь. Дни и ночи, все нанизано на четки времени. Светает, темнеет. Ночи и дни. Чужой город.
"…и потому, святой отец Доменик, равный патриархам, моли бога обо мне!"
Микеланджело встал от могилы святого Доменика и опять взялся за резец. Храм Санто-Доменико был светлый, радостный, полный благоухания от цветов и каждений, теплого света от свечей и солнца. Месса уже кончилась, и молящиеся отходили от распятия, возвращаясь к своим лавкам, мастерским, вину, оружию, горшкам и сковородам, – и в этом была великая тайна. Только минуту тому назад они были свидетелями совершившейся на Голгофе великой жертвы. И тотчас вслед за этим, выходя из храма, учтиво осведомлялись друг у друга о здоровье, озабоченно толковали насчет слабого спроса, насчет недорода. Никто из них не вопил от ужаса, что жертвой был не кто иной, как сын божий, не бил себя в грудь и не бегал по улицам, по которым среди живых ходили и мертвые. Расходились с улыбками. Горожанки поправляли свои наряды, девушки шли под ручку, несколько кавалеров торопились к кропильницам, чтоб их опередить, монах с досадой замечал, что никто нынче не покупает индульгенций, а проповедь была слабовата; служки бежали по длинному нефу, громко гомоня, старая сводница погасила свечи, потом стала договариваться с матроной, прикрывающей вырез на груди молитвенником, несколько зевак, остановившись у гроба святого Доменика, принялись глазеть на нового художника, флорентийца, которому поручена высокая задача – продолжить работу маэстро Никколо Антонио ди Пульо, заслужившего за прекрасную роспись свода надгробия почетное прозванье дель Арка. Но маэстро Никколо в прошлом году умер, не докончив своего творения, и смерть его горько оплакивали. Не только потому, что маэстро Никколо был добрый человек и хороший художник, – болонцы, оплакивая его, оплакивали также недоконченное надгробие. Велико было преклонение Болоньи перед святым Домеником, покровителем города. Очень многие полагались даже больше на защиту святого Доменика, чем на синьоров Бентивольо, и втайне шли разговоры о том, что лучше бы докончить надгробье святого, чем возводить тройные укрепленья у ворот. Но синьоры Бентивольо больше надеялись на стены, и после смерти Никколо дель Арка никто об окончании надгробья даже не заикался, – на деньги, предназначенные ваятелю, были наняты новые ватаги вооруженных. Как вдруг явился этот флорентиец, придворный ваятель Лоренцо Маньифико, и пристал у мессера Альдовранди, знатного члена Консилио деи Седичи, чье имя звенит как золото среди художников. И высокопоставленный патриций, разведав, откуда тот явился и на что способен, участливо предложил городу поручить работу пришельцу. Зеваки стояли вокруг, открывши рот. Они видели, что художник – набожный, так что с этой стороны препятствий для окончания надгробия святого нету, а им сказали, что он к тому ж и дешевый, за каких-нибудь тридцать дукатов взялся вытесать для надгробия три статуи "Ангела с подсвечником", "Святого Прокла" и "Святого Петрония". Так что они были довольны. Обычно набожные обходятся дороже.
Микеланджело по-прежнему жил во дворце у мессера Альдовранди. Днем он работал над надгробием, а по вечерам сидел у постели хозяина и читал ему Данте – до тех пор, пока дух старика не оставлял всякое мирское попечение и веки его не смежались. Однако время от времени Альдовранди останавливал чтение, и Микеланджело должен был рассказывать о Флоренции, о Лоренцо Маньифико, о его философах и художниках, а старик с восхищением слушал, вздыхал и сетовал в глубине души на то, что ему не довелось жить там, да, там, а не под властью жестоких и равнодушных ко всяким искусствам Бентивольо…
– Почему ты уехал, Микеланджело? – спросил он однажды, и Микеланджело не ответил, сделав вид, будто не слышал.
А когда Альдовранди спросил еще раз, Микеланджело ловко перевел речь на другое и стал распространяться об этом другом, радуясь, что сумел так обвести старика, заставил его, видимо, забыть свой вопрос. Но Альдовранди никогда не забывал. Особенно никогда не забывал знатный член Совета шестнадцати те вопросы, на которые не получил ответа. Он сам стал искать ответ. Отъезд вызван не Савонаролой… Микеланджело говорит о нем всегда с величайшим уважением, он даже имеет при себе запись двух Савонароловых проповедей и с увлечением их перечитывает, но Альдовранди от них не в восторге, – бесформенно, неизящно, нет стиля, сплошь одни вопли, выкрики, бешеные вспышки, зловещие предсказания; легкой гримасой тонких губ и вялым манием руки он прервал чтение, попросил – лучше что-нибудь из Петрарки. Нет, дело не в Савонароле… Тогда единственно, что может быть, это – женщина. Старик был очень доволен своей проницательностью, И чем больше глядел он на обезображенное лицо Микеланджело и наблюдал его застенчивость, тем больше укреплялся в этой мысли. Так, значит, – женщина! Жаль, потому что из-за этого душевная чуткость не позволит патрицию завести с Микеланджело речь о женщинах, а старик любил беседовать о женщинах, особенно с художниками, откровенно наслаждаясь рассказами последних о их любовных приключениях. Но каков бы ни был повод, заставивший Микеланджело покинуть Флоренцию, юноша теперь здесь и окончит роспись свода над святым Домеником, присоединив свое имя к славным именам Никколо Пизано, Никколо дель Арка.








