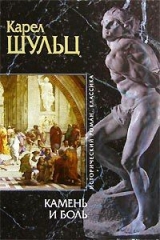
Текст книги "Камень и боль"
Автор книги: Карел Шульц
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 47 страниц)
– Мессер Джулиано да Сангалло, строитель дворцов и храмов, величайший архитектор Италии…
"Нет, малый в своем уме! – Сангалло угрожающе заскрипел зубами. – Малый отвечает вполне разумно, малый не сбрендил. А будит меня в полночь вопросом, чем жрал Сципион Африканский дыню? Господи, почему у меня слуги всегда такие болваны, как этот Нума Помпилий либо этот Тиберий, который так по-дурацки храпит – одним носом. Идиот, храпит так, будто у него войлок во рту!" И Сангалло, сжав одну руку в кулак, другою стал искать плеть.
– Вы мне разрешили, мессер… – испуганно шепчет Помпилий, с ужасом следя за этими, такими уже знакомыми ему движениями. – Сказали, – хоть в полночь буди меня… Помните, ведь ваш прежний слуга Сципион Дыня!..
Тут Сангалло вспомнил свою шутку и покатился со смеху. Редко кто умел так смеяться, как маэстро Сангалло, делавший это охотно и часто. Теперь широкоплечая фигура его так и корчилась, так и сотрясалась от смеха, налетевшего внезапным порывом, ударом грома, бурей. Сангалло держался за живот, ударял себя кулаками по бокам, в которых чувствовал колотье, бушевал смехом, проходившим всю гамму звуков, заливался смехом и слезами, а потом, уже не в силах смеяться, только стонал, вздыхал и ругался, но в конце концов, наклонившись к непонимающему, выпучившему глаза Помпилию, таинственно прошептал:
– Так я скажу тебе, братец. Слушай и запомни: Сципион Африканский вовсе не жрал. Понимаешь? Вовсе!
Нума Помпилий посинел.
В голосе Сангалло послышались теплые нотки сочувствия. Важно покачивая головой, маэстро прибавил:
– Он только смотрел, как мы едим, и через три дня помер от голода и горя. Так-то. И я, лишившись Сципиона, был вынужден взять вас двоих, дураков. А теперь… – загремел он, опять заворачиваясь с проклятьями в попоны, – теперь я буду спать, и горе тебе, скотина, если ты меня опять разбудишь вопросом, чем кто жрал!
Уже улегшись, он еще вздрагивал от затихающего смеха. Про это стоит рассказать во Флоренции!
А Нума Помпилий остался в одиночестве, синий от ужаса. Никому на свете не прожить с зашитой пастью! Даже Сципиону Африканскому! Он опять робко поднес пальцы к губам, но вдруг вскочил в испуге. Да, это так. Топот копыт. Кто-то мчится в ночной тишине. Нума Помпилий вскрикнул от страха. Конская скачь слышалась теперь отчетливо, всадник уже близко и не может миновать их привала… Они – в краю, занятом французами. Кто это? Гонец? Разбойник?
Нума Помпилий завыл от страха. Так как рот у него был зашит, голос его звучал сперва как писк большой мыши, но потом загудел. Звук был жуткий, так как Нума Помпилий прямо задыхался от ужаса, а слишком маленькое отверстие рта всего этого ужаса не пропускало. Звук бежал тонкой струйкой, то поднимаясь вверх, то уходя вниз, и кричавший жался к древесным стволам, скуля, воя и ревя своим узким ртом.
Тиберий, проснувшийся первым, в испуге вскочил, но, никого не видя, подумал, что это воет какое-то страшилище, ночной лемур, проглотивший Нуму Помпилия и приготовившийся пожрать и его. Он раскрыл настежь, как только мог, свой огромный рот и поднял рык, вой и в то же время заквакал лягушкой.
Сангалло вырвался из сбившихся у него в ногах попон. Спотыкаясь о них, он увидел прежде всего двух дураков, один из которых скулил, другой выл, а вокруг – никого. Тут он разразился страшным проклятьем, досталось всему свету. Сангалло послал его весь в преисподнюю, – но тут услышал конскую скачь. Он прошелся по обоим малым сокрушительным кулаком, чтоб молчали, бросил на горячие головешки костра охапку валежника и, схватив меч и кинжал, выбежал на дорогу.
Конь под всадником взвился на дыбы перед его огромной темной фигурой. А всадника озарило в это мгновенье высоко прянувшим языком пламени. Тут оба вскрикнули. Маэстро Сангалло схватил приехавшего в объятья, чертыхаясь от радости. Потом они уселись у огня, и Микеланджело подкрепился пищей. Вот уже вторые сутки, как он ехал, даже в ночное время, сам не зная куда.
Потом они долго беседовали, вспоминая медицейскую пору, когда сидели за одним столом, – и Сангалло сразу рассеял все опасения Микеланджело. Они вместе поедут во Флоренцию – и кончено! Сам господь бог устроил эту встречу, и было бы грешно пренебречь его волей. И ничего с Микеланджело не случится плохого, коли его возьмет с собой Сангалло, самый прославленный строитель храмов и дворцов в Италии.
– Нас столько, Сангалло этих, – смеялся маэстро Джулиано, – и мы столько храмов понастроили, что аббаты и епископы нас путают. Сангалло большое семейство, и все мы зодчие, так что одному господу богу под силу в этом разобраться, и я не жду, чтоб он был ко мне особенно строг в день Страшного суда, и ничто мне не портит аппетита к еде и питью, а раз я надеюсь на бога, которому столько поставил храмов, с какой же стати стану бояться этого нытика Савонаролу? Вернусь во Флоренцию, и ты – со мной, а понадобится, так Савонаролу поколочу, ничего не боюсь, а скажет что-нибудь такое, захочет, чтоб я монашескую рясу надел и тоже захныкал… – Тут Сангалло захохотал на всю окрестность. – …Я ему отвечу, что я для бога строил и бог никогда не требовал, чтоб мне в монахи идти, а дал волю пить и есть, сыновей плодить и пользоваться всеми радостями на свете, а я ему за это храмы строил. И папам строил, дражайшему Павлу Второму построил в Риме Палаццо-ди-Венеция, венецианский дворец. "Сбегай туда, осел, – скажу ему, сбегай, посмотри, видел ты когда-нибудь такое здание, и скажи, – могу ли я быть монахом!" Сиксту и Иннокентию строил, и ни один папа от меня не требовал, чтоб я, перед тем как строить, рясу надел! И кардиналам строил, Джулиано делла Ровере – ах, милый, кардинал этот… ну и хват!
Сангалло щелкнул пальцами от восхищения.
– Кабы вся курия из таких состояла! Конечно, не надо бы так говорить, потому что это был всегда главный враг нашего дорогого Маньифико, племянник Сикста, но Лоренцо сам всегда говорил о нем с уважением. Ах, милый, Джулиано делла Ровере – это кряжистый дуб, это хват! Я ему Остию укрепил, потому что ведь между ним и папой Александром Шестым непременно вспыхнет страшная война, они ненавидят друг друга лютой ненавистью, между ними будет война. Но – свидетели вот эти звезды над нами!.. – тут Сангалло, насколько умел, понизил голос и наклонился к Микеланджело… – клянусь тебе: кардинал Джулиано делла Ровере в один прекрасный день будет папой! Будет!
Сангалло упрямо вскинул голову, так что могучая седая грива его побежала волной по плечам.
– Будет, я хорошо укрепил ему Остию. Переживет время Александра, как пережил всех, кто был перед ним, и… будет! И тогда настанет время! Не испанец, а хват! Да какой! Старик уж, а до сих пор хват! Ты, наверно, слышал о нем… дорогой Лоренцо испытал из-за семейства делла Ровере немало тяжелого. Папа Сикст поднял против него мятеж Пацци, папский сын Джироламо не перестает воевать за овладение Флоренцией, а Лоренцо изо всех сил добивался, чтоб больше ни один делла Ровере не садился на папский трон. Он и дочь свою Маддалену выдал за одного из Чиба, для того чтобы оказать им политическую поддержку… Но вот увидишь, делла Ровере все-таки сядет на папский трон. Уж по одному тому, – прибавил Сангалло упавшим голосом, – что наш Лоренцо не хотел этого.
Тусклый отблеск слабого огня играл на их лицах. От этого тьма за спиной у них сгущалась еще сильней, ночь была будто из черного стекла.
– Ничего-то не осталось от дел и творений Лоренцо Маньифико, продолжал Джулиано. – Платоновская академия его теперь в руках Савонаролы, средоточие искусств – Флоренция – превратилась в огромный костер, на котором горят любимые творения, род его изгнан и лишен богатства и власти, на смену царившему в стране миру пришла война. Не хватает только одного: чтобы делла Ровере снова оказались на папском престоле. Но и этого не миновать!
Потом они легли, но Сангалло, сладко зевая, еще продолжал:
– Нелегко служить папам, Микеланджело, это неблагодарный труд, и я не желаю тебе испытать его. Никогда не ищи титула и звания папского художника, не стоит овчинка выделки. Там, – презрительно махнул он рукой в сторону Рима, – там тебе пришлось бы знать много кое-чего, помимо твоего искусства… а у тебя не такой характер! Что когда Флоренция видела от Рима хорошего? Поедем со мной, забудь о Риме! Служить папам – жалкое ремесло, особенно теперь, когда при его святости испанце не знаешь, в Риме ты или в Турции, султану ты служишь и гарему его или папе и кардинальским содержанкам. Поверь моему опыту!.. Так что я на Страшном суде божьем буду говорить только о том, что строил храмы, но ни слова не скажу богу, что служил папам и кардиналам, – ей-ей, ни слова не скажу!
Он уже засыпал, а впотьмах все слышался его резкий, низкий голос:
– Только вот кардинал Джулиано делла Ровере старик, дуб кряжистый! Я ему крепости ставил, – вот и скроюсь пока во Флоренции. Потому что и святой отец, и французы сразу… больно уж много для простого христианина! Микеланджело тоже заснул. Брызжущая из Сангалло кипучая жизненная энергия подействовала как купанье. Бьющая через край сила, громкий голос, резкие взрывы чистосердечного смеха – все это оказалось лекарством, и хорошим лекарством.
Они поехали вместе, и время шло незаметно. Старый маэстро ни о чем не спрашивает. Он почти все время говорит один, ни словечком не касаясь вопроса о том, почему Микеланджело уехал из Флоренции, где все это время блуждал, что пережил, как работал, откуда возвращается теперь после годового отсутствия… Ни единым вопросом не хочет коснуться Микеланджеловой тайны, мудрый и внимательный к чужой судьбе, больше, чем к своей. Обминает жизнь своими мускулистыми ручищами, но не дотрагивается до чужого сердца, и оно молчит. И Микеланджело не должен ни о чем говорить, никто ни о чем его не спрашивает.
Апрель. Клейкая листва кустов и деревьев, золотые цветы. Деревни, не имеющие другого имени, кроме как весна. Окрестность, которая называется просто апрель. Жасминный цвет сыплется на дорогу, в ее искрящуюся пыль. Всюду солнце. Порой мелкий дождь, тоже полный солнца. Листы на вечернем ветру звучат нежным звуком флейты и до сих пор – еще не терпкие, а таят весеннюю сладость – в сердцевине и в своей свежей, радостной окраске. Некоторые напоминают рой зеленых бабочек и мотыльков, расправляющих крылья для полета. Все ручьи текут, полны весной, и вода в них – вся из света и звуков. Почва, полным-полна весенней зеленью, одевается в аметистовые тени. Вечер – апрельски-пурпурный, цветы покрыл алый сок последнего солнечного луча, а потом они засеребрились. Лунный свет падает ласковый, неодолимый, чарующий, в дрожи его – трепет предчувствий всех летних ночей, которые потом придут, успокоят потрескавшуюся от зноя землю. Но сейчас это милованье света и земли еще дразняще легко, лишь в беглых касаньях, аромат грядущих цветов еще невнятен, – благоухают фиалки, но еще не пылают любовью ни мята, ни лаванда, лучи падают вкось. Апрель, топот конских копыт приглушен влажной почвой, – они едут во Флоренцию. Флорентийская роза, всегда налитая кровью, как губы женщин, ждет в музыке и благоуханье. Шум вод сопровождает эту езду, лавры стоят с ласковой, тихой влажностью среди веселья ирисов и их гимнов жизни; апрельский покой, сладость небес и земли, они едут во Флоренцию. Иногда в лицо им пахнет сильный весенний ветер, развеет угрозу бури. Окрестность взметнется, среди гор грянет аккорд грома, и сумасшедший дождь запляшет по лесам и лугам. Капли бриллиантами горят на шляпах и плащах, западают в самое сердце, маска окрестности стала серебряной, они едут во Флоренцию. Апрель.
Вдруг – колокола. Час – послеполуденный. Дорога извивалась и пошатывалась, пьяная солнцем. А звон плыл над виноградниками, оливковыми рощами, над смоковницами и самшитом, над кудрявой землей. Колокола гудели вширь, звук их напрягался, как лук, и летел далеко во все стороны за городские стены, весь белый и металлически-торжественный. Заблаговестил собор, и по его знаку стали бить ключом голоса остальных, забились сердца колоколов Санта-Аннунциаты, Санта-Кроче, Сан-Лоренцо, Сан-Франческо-аль-Монте, им ответили колокола Санта-Мария-дель-Фьоре, Санта-Мария-Новелла, Сан-Спирито, Сан-Марко, подхватили колокола Сан-Никколо, Сан-Амброзио, Санта-Мария-делла-Анджели, Санта-Тринита и другие, другие, все флорентийские колокола пели в призме апрельского света, и город, одетый солнцем, пел с ними. Это был могучий, вдохновенный гимн колоколов, восходящий прямо в небо золотым пламенем чистосердечной, благоговейной жертвы, это был колокольный зов к небу, к его престолам и силам, это был долгий жгучий поцелуй и вопль, это была песнь Флоренции. Микеланджело спрыгнул с коня. За спиной его послышался дрогнувший резкий голос Сангалло. Они увидели город. Микеланджело, странник, пошел теперь пешком. Сан-Миньято. Крест у ворот. Солнце и колокола.
Но Сангалло встревожился. Прежде чем войти в ворота, он тронул плечо Микеланджело.
– Что это звонят? – прошептал он. – Для вечерни еще рано.
Но Микеланджело пожал плечами. Пускай звонят, пускай, пускай еще, чем же лучше мог встретить их любимый город?
Улицы. Такие знакомые! На каждой стене этих домов остался какой-нибудь след его жизни, каждая морщина и трещина в камне полна его воспоминаний. Но тревога Сангалло усилилась, когда они увидели толпы, устремляющиеся по всем улицам к зданию Синьории. А колокола гудели.
Микеланджело смешался с толпой. Кто обратит внимание на вернувшегося беглеца? В это мгновенье он вспомнил свой отъезд. Тогда тоже навстречу ему валила поющая толпа. И теперь поет. Тогда это была песнь восстания, во главе шли представители городских кварталов, все стремилось к дворцу Медичи… а теперь людские потоки сливаются на площади Синьории. Какие странные лица!.. Микеланджело кинул узду своего коня растерянному Тиберию и пошел с остальными. Так подобает вернувшемуся страннику, бесславно появившемуся бродяге… Знаешь, зачем ты бежишь, Микеланджело? Ты бежишь затем, чтоб вернуться… Идут… Каждым нервом чувствует он, что снова стал частью Флоренции. И с каждым вздохом вдыхает ее особенный, острый, горьковатый, сладостный воздух. Касается плеч и локтей тех, что теснятся рядом. Уж он давно потерял Сангалло с его слугами и не думает ни о чем, знает только одно: я опять дома, опять во Флоренции, иду, куда идут вот эти, я один из них, среди них я дома, иду вместе с ними… Я – кусок Флоренции, я опять в ее стенах, один из тех, кто сейчас, насупившись, твердым торжественным шагом, с пеньем движется в могучей процессии. Почти все – в черной одежде, а моя одежда покрыта дорожной пылью. На женщинах никаких украшений – ни золотых венцов, ни ожерелий, платья без выреза, застегнуты наглухо. Лица серые, изможденные, осунувшиеся. Шаг толпы – тяжкий, медленный. Он уже не смотрит на одни только здания и улицы, не обращает внимания на статуи, с которыми тогда под дождем так прощался. Он видит впереди толпы волнующиеся хоругви с изображениями святых, особенно – святого Иоанна Крестителя. Процессия детей в белом, с веночками первых весенних цветов на голове. И песнь плывет под звон колоколов, песнь взлетает и падает, вырываясь из тысячи глоток, песнь бушует, плеща о камни дворцов, песнь заглушает даже колокола, – все поют страстно, восторженно, глядя на высокий крест во главе процессии, окруженный хоругвями, развеваемыми весенним ветром. Песнь гремит:
Смиритесь пред богом единым,
С любовию к его сыну,
Испившему страданий чашу,
Искупившему грехи наши
Кровью своей пресвятою.
Христос, Христос, Христос
Король Флоренции!
Мощно гудит хорал,– кажется, и камни поют. Гудят колокола, гудит хорал, стены города отвечают припевом: Христос, Христос, Христос – король Флоренции! Большое распятие во главе толпы раскачивается, оно тяжелое, несущие, в длинных белых облаченьях, сменяют друг друга. За ними, перед детьми, длинные вереницы доминиканцев, белые и черные, у каждого монаха в руке пальмовая ветвь и свеча. Микеланджело снова узрел Палаццо-Веккьо. А протолкавшись в толпе, увидел посреди площади Синьории высокий большой костер. И тут понял, чему он будет свидетелем, чем встречает его Флоренция. Вот отчего такой колокольный звон, хоть до вечерни далеко… Пламя чистосердечной благоговейной жертвы. Bruciamento della venita. Сожжение сует мирских.
Он слышал об этом столько насмешливых толков в Болонье, но в глубине души все не верил. А теперь увидел воочию. Он стоял в первом ряду, за широким кругом доминиканцев с надвинутыми на голову капюшонами, с горящими глазами, зажженными свечами и пальмовыми ветвями, прижатыми к груди. Перед ними стоял большой круг из сотен и сотен детей в белом, с веночками на голове, друг дружку подталкивающих и показывающих один другому предметы, принесенные каждым. Они собирали эти предметы во имя Христа, короля Флоренции, обходя дома и дворцы в своих белых куртках с вышитым красным крестиком. Великое святое войско, притом от души веселящееся, сопровождаемое бирючами, которым был дан приказ хватать каждого, кто вздумает противиться. Чего дети не разбили на месте, отшибая камнями носы у мраморных Софоклов, Сократов, Платонов и Демосфенов, то снесли сюда – сплошь одна анафема и суета, вещи проклятые, коварные орудия дьявола, которому нет места во Флоренции. Вот они стоят, жаждая огня, который будет велик. За детьми – с трудом соблюдаемый строй стариков, потом флорентийские кожевники, золоточеканщики, сукновалы, резчики, песковозы, – все с оливковыми побегами в руке, с лицом морщинистым и полным торжественного изумления. Потом духовенство, особым образом разделенное: по одну сторону – старые священнослужители, по другую – молодые, так называемые ангельские. А вокруг тысячеглавые толпы, теперь безмолвные, хмурые, напряженно ожидающие знаменья. Всюду теснится народ, просторная площадь Синьории полным-полна, стоят на выступах стен, в нишах дворцов, даже на карнизах, – все черно от людей.
Колокола замолкли. Тишина вдруг разверзлась, как бездна. Проникла всюду так внезапно, что иные даже пошатнулись. Это был страшный удар тишины, более звучный, чем перед этим – хорал с металлическим гуденьем целой бури колоколов. Но звука не было. Тишина объяла эти толпы, навалилась на них с огромной силой, в то же время раскрываясь перед ними и вокруг них, как глубина. Все стояли в ожидании. Казалось, в этой тишине живет и дышит только костер. Не костер, а большая пирамида.
Она была составлена очень продуманно. Внизу валялись карнавальные машкеры, женские платья с глубоким вырезом, фальшивые косы, ленты из легчайших тканей, золотые цепочки с жемчугом для причесок, богато расшитые ковры, плащи, драгоценные шалоны, все чрезвычайно тщательно облито горючим, чтоб хорошенько вспыхнуло. На этом сложены книги. Прежде всего – философия, потом – любовь. Платон и прочие, и в этот огненный час сопровождаемые многочисленными томами гуманистических комментариев. Толстые фолианты, полные сложнейших и утонченнейших мыслей, часто – труд всей жизни того, кто стоял теперь в толпе, глядя, как это вспыхнет, некоторые – думая о дьяволе, который возьмет это в ад вместо его души, другие о птице Фениксе, вечно возрождающейся из жаркого пепла и недоступной гибели от руки монахов. Далее – книги с античными комедиями, трагедиями и стихами – Плавт и Аристофан заодно с Эсхилом и Софоклом, стихотворения Катулла, Тибулла, сладость римских элегиков, песни Анакреона, бесценные пергаменты, богато иллюминованные, с великими жертвами приобретенные и переписанные, стихи, продолжающие спустя столетия стучаться в ворота человеческого сердца, теперь сплошь анафема и суета. Над слоями арабских сочинений по астрономии, математике, химии и медицине высились творения Петрарки, Боккаччо, Пульчи, Лоренцо Маньифико, Калуччо Салутати, Фацио Уберти, Ровеццано, Пекороно, Саккетти и всех остальных, с роскошными заглавными буквами, чудеса каллиграфии, переплетенные в золото, гордость княжеских библиотек. И бесконечное множество других томов, – главным образом, памфлеты на монахов и любовные истории. На них были сложены женские украшения. Вуали, тонкотканые покрывала, золотые венцы, мотки фландрских кружев, жемчужные ожерелья, запястья искусной чеканки, венецианские зеркала в рамках из византийской эмали, притирания в ларчиках из благоухающего амброй аравийского дерева, множество расшитых золотом подушечек, кружева и чепцы, инструменты для ногтей и выщипыванья пушка над губой, инкрустированные серебром щеточки для лица, выплавленные из гнутого золота вставки для волос. А поверх этих предметов покорно дожидалась гибели песня, музыка. Мягко изогнутые властительницы музыки – виолы, лютни, закругленные, будто волнистые формы девичьего тела, теперь поверженного грубой рукой, опрокинутого на потеху всем, выставленного под их любопытные взгляды. Высокие ярусы музыки, на которые навалили сверху карт и костей, словно предсказанья судьбы всегда слиты с музыкой, даже в смерти. Выше – шахматы, игры юношей и девушек, мячи и оперенные кружки из розового дерева. А над этим – благовония. Хрупкие граненые хрустальные флаконы бесценных арабских и персидских духов, особенно дорогой венецианской смеси, маленькие деревянные коробочки с ароматическими зернами, сушеные веточки издающих прелестный сильный запах загадочных кустарников, доставляемых мореплавателями из Африки, с Берега Пряностей и Берега Слоновой Кости, разноцветные ягоды в хрустальных ящичках, пропитанные всевозможными благоуханьями, царство и роскошь притираний и благовоний. Меж костей, карт и прочих средств предсказывать судьбу, меж этих ароматов, были заботливо расставлены – всем напоказ – изображения женщин. Красавица Бенчина, которую поклонники звали Ледой, улыбалась гладким телом, и портрет красавицы Моррелы, которую поклонники называли Клеопатрой, опирался на нее обнаженной рукой, хоть они и были соперницами, потом – Мария да Ленци, которую поклонники называли Афродитой, ничего не скрывая, ласкала и подбадривала долгим взглядом соседний портрет очаровательной монны Изабеты, чей муж, золотых дел мастер, когда-то провел целую ночь на дворе в ожидании конца света, пока каноник Маффеи утешал жену его, – и вот теперь муж, золотых дел мастер, стоял с оливковым побегом в объятии, среди остальных мастеров своего цеха, делая вид, будто ему довольно оливкового побега. Но это не были лишь бесстыдные изображения флорентийских красавиц, – нет, все богини Олимпа сошлись здесь, и, стоит вспыхнуть костру, они от жара изменят свои позы, и только летучий пепел будет покрывалом их красоты. И героини поэм Овидия и тосканских сонетов, жены света и преисподней, живые и древние, действительные и выдуманные, все ждали огня от руки монаха. Но пока с ними был здесь не монах, а дьявол. Потому что все это было нагромождено у ног огромной фигуры Сатаны, которая царила над всем, обмазанная смолой и серой, с козлиным лицом, растопырив во все стороны свои хищные когти. Сатана вздыбился высоко, осклабясь на окна Синьории, словно собирался потом юркнуть туда огромным прыжком или хоть что-нибудь поджечь. Микеланджело, затерянный в толпе, узнавал многие творения художников. Узнавал он и самих художников, стоящих среди народа, просто одетых и глядящих в землю, приготовясь к песнопенью.
От тишины становилось уже душно, спирало дыханье, продлись она еще немного, все эти ожидающие сердца взорвутся единым раскаленным огнеметом. Вдруг один из монахов раздвинул на груди рясу и вынул новую картину. Потом медленно подошел к костру и с брезгливостью, отвращением, омерзеньем бросил ее в общую кучу. Картина зацепилась рамой за край изображения монны Биче, которую поклонники за ее золотые волосы прозвали Береникой, и осталась в таком положении. Картина оказалась портретом мужчины с продолговатым желтым лицом, маленькими лукавыми глазами и длинной белой бородой, заостренной руками цирюльника. На лысой голове – черная шапочка набекрень. Это был мессер Луиджи Акоррари-Таска, венецианский купец, пожалевший анафему и суету и, не то подпав ее чарам, не то с целью наживы, пожелавший ее купить. На чем только не думают нажиться эти венецианцы? И вот сер Луиджи Акоррари-Таска, во время своей торговой поездки завернув во Флоренцию, предложил Синьории за весь костер двадцать две тысячи золотых дукатов, но Синьория отказалась продать костер анафем и суеты и отдала венецианца под суд. И теперь ему предстояло быть сожженным in effigie 1, вместе со всеми предметами, которые он – то ли ради наживы, то ли в сердечном заблуждении – собирался купить. Еще ночью написали его портрет – продолговатое желтое лицо, хитрые глазки, заостренная с помощью ножниц длинная белая борода, шапочка набекрень на лысой голове. Сам он в эту минуту был уже далеко за городскими стенами, убегая с проклятьями подальше от безумного города, а лик его тощий, худой монах с отвращением и брезгливостью кинул в костер, и Луиджи Акоррари-Таска, прислонившись к наготе монны Биче, стал ждать адской казни in effigie.
1 В изображении (лат.).
Монах вернулся на свое место в ряду и взял в руки пальмовую ветвь.
Вдруг тишина разорвалась. В воздухе мелькнула истощенная, костлявая рука сухой желтизны, и вслед за этим движением раздался резкий каркающий голос:
– "Lumen ad revelationem gentium" 1.
В тот же миг все колокола вновь загремели над городом могучей металлической бурей. На балконы Палаццо-Веккьо вышла в своих величественных сборчатых плащах, с гонфалоньером во главе, Синьория, зазвенели звонкие серебряные зовы труб, затрепетали фанфары, зареяли раскачиваемые мускулистыми руками хоругви, загудели колокола, и хор мальчиков, докторов теологии и священников грянул в ответ:
– "…et glorium plebis Israel!" 2
1 "Свет во откровение язычникам" (лат.).
2 "…и слава людей твоих Израиля!" (лат.)
Савонарола, бледный, с лицом, еще более изможденным и осунувшимся, стоял на отдельной кафедре, озаренный светом зажженного костра, где первые языки пламени уже жадно лизали накиданную громаду вещей, и повторил резким голосом, на высоких тонах:
– "Lumen ad revelationem gentium…"
– "…et glorium plebis Israel!" – ответил хор.
Тут опять подхватил народ, и пенье, как буря, разлилось по площади и всему городу, взывая к камням, небу и храмам, толпам и всей земле. Костер пылал ярким пламенем, то резко, то глухо потрескивая. В то же мгновенье тысячи рук поднялись и сомкнулись в цепь. Чьи-то руки схватили Микеланджело с обеих сторон, и вот уже круг начал двигаться. Сперва все долго топтались на месте, но потом вдруг стало просторней, так что появилась возможность шагать, и началось страшное коловращенье, круженье вокруг огромного пылающего костра, на котором стоял, ухмыляясь, дьявол, растопырив во все стороны свои хищные когти. Круг медленно развертывался, развивался, свивался, рос и опять сужался в медленном ритме, это был танец, чудовищный пляс под раздольный гул колоколов, сообщавший такт пенью и скаканью, огромный хоровод тысяч и тысяч, плясали с подскоком все, плясали монахи, дети, ангельские богослужители, доктора теологии, кожевники, золотари, сукновальщики, песковозы, художники, женщины, старики, цеховые мастера плясал весь город медленным круговым движеньем, мелькали оливковые побеги, огненные языки, пальмовые ветви, дико возбужденные лица, седины, легкие волосы женщин, тысячи сомкнутых рук подымались и опускались в такт пляски, к небу валил дым костра, огненные языки, колокольный звон, пенье – все сливалось в общий рокот:
Как скакал царь Давид,
Так пусть и наш хоровод кружит,
Одежды приподымая,
Сердца Христу предавая,
Да укротят божий гнев
Наш танец и наш напев.
Христос, Христос, Христос
Король Флоренции!
Хоровод вился все быстрей и быстрей. Кое-где кричали и плакали дети. Толпами овладело исступленье, общее неистовство, глаза дико расширены, рты искажены, щеки пылают. Огненные языки костра взметывались вверх, гудя все громче. Часть пирамиды, сложенной из проклятых предметов, рухнула с оглушительным грохотом, но дьяволу еще не хотелось улетать в преисподнюю или в окна Синьории, он стоял прочно, облитый смолой и натертый серой, распустив свои хищные когти во все стороны. Колокола гудели, и в их раздольном ритме качался хоровод взявшихся за руки толп. Детский крик становился громче. Некоторые женщины стали выкликать, что видят новую землю и новый, вечный Иерусалим. Круг не останавливался. Плясали все. Плясали монахи, доктора теологии, ангельские богослужители, старики и дети, мастера и женщины, тысячи ног топали по глине площади в ритмичном подскакивании, и к небу, вместе с полыхающим пламенем, рвалась песнь:
Мы скачем прочь от адских врат,
Христос нас примет в свой райский град,
В веселье рьяном, как царь Давид,
Мы пляшем, скачем – и песнь гремит:
Христос, Христос, Христос
Король Флоренции!
Потом пирамида обрушилась высоким гремучим столбом пламени. И фигура Сатаны, напитанная серой, рухнула стремглав, головой вниз, волоча за собой обгорелые лики красавиц. Дикий вопль и ликование толпы. Все заметалось, плясать сразу перестали, руки разомкнулись и возделись теперь в радостном махании, пролился целый дождь цветов, оливковых побегов, все посыпалось под ноги монахам, дети срывали с себя веночки и, крича, кидали их на рясы доминиканцев, под возвышение, на котором стоял Савонарола, все такой же бледный, внимательно следя за толпой, которая понемногу опять приняла форму процессии с хоругвями и крестом во главе. И все двинулись к монастырю Сан-Марко. На улицах стало пусто. А пенье гудело.
Микеланджело остался один. Ему казалось, будто он очнулся от какого-то припадка безумия, от кошмара. Он не узнавал Флоренцию, слыша крик и плач детей. Это уже не город Лоренцо Маньифико, это Флоренция Савонаролы, правы были те, кто предупреждал. На улице больше никого. Вдоль домов, крадучись по-кошачьи, пробирался какой-то мальчик, что-то пряча под курткой. Увидев Микеланджело, он остановился как вкопанный. Но потом догадался: это чужеземец, весь в дорожной пыли. Пыль на одежде Микеланджело придала мальчишке храбрости, и он прошмыгнул мимо, не спуская подозрительного взгляда с незнакомого лица. А Микеланджело узнал его. Это был десятилетний Андреа, сын портного, которого называли, по ремеслу отца, – Андреа дель Сарто. И в то мгновенье, когда мальчишка пробегал мимо, Микеланджело заметил, что из-под короткой куртки у него высовывается кусок обгорелой, опаленной картины Боттичелли, спасенный от костра. Микеланджело задрожал, он готов был схватить паренька и поцеловать. Потому что вокруг догорающей пирамиды давно уж стояла стража с обнаженными мечами, а однажды толпа растерзала живописца Кавальери, бросившегося было, как безумный, к огню, чтоб спасти часть картины Мантеньи. А мальчик не побоялся… Обгорелый кусок Боттичеллевой живописи свешивался из-под куртки, и паренек, заметив слишком пристальный взгляд чужеземца, пустился бежать. Я этого не забуду, Андреа дель Сарто, я ведь тоже прятал у себя под курткой рисунки и холсты, тоже, мой милый…








