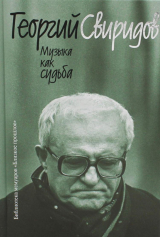
Текст книги "Музыка как судьба"
Автор книги: Георгий Свиридов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 71 страниц)
Достоевский гениально обобщил подобные взгляды и вывел их носителя в художественном образе. Это – Смердяков. Жжх Есть композиторы – кумиры музыкальной черни: оркестрантов, дирижеров, теоретиков и проч. Поклонение им вызывает их сноровка, техническое ремесло, оценить которое ремесленная же чернь может («здорово сделано!»). Подняться же до самого высокого искусства чернь не может. Дух его непонятен им, часто – чужд. Подобное искусство несуетливо, часто – просто. Сами же ноты не вызывают восторга, часто здесь нет ничего, поражающего сделанностью. Важна таинственная значимость этих звуков, их внутреннее духовное наполнение. Часто оно бывает скрыто от «спецьялистов». Как это ни парадоксально, музыканты часто бывают далеки от сущности музыки, они видят только ноты – знаки, сущность которых им непонятна. жжх Когда к замысловато придуманной рифме подбирается смысл в противоположность тому, чтобы к поэтическому смыслу искать свежую рифму (или, что еще более ценно, когда высокий поэтический смысл так и является в яркой и свежей рифме), это бывает иногда остро, пикантно, неожиданно, но в этом, как правило, нет глубины, составляющей сущность немногословного искусства – ПОЭЗИИ. жж Написать: О Добром и его дяде", с кем он был в ссылке, его роль в известных событиях. Пастернак о Есенине и Маяковском”. Чуждость почве, в этом общее с Маяковским, у которого народное русское, крестьянин или рабочий давались лубком – плоскостно. Так же плоскостно, газетно-карикатурно, плакатно или фотографически давались политические деятели – неважно кто: Пилсудский, Врангель, Керзон или Ленин. Картинно, портретно, душевно наполненно давался лишь сам автор. Отсюда преуменьшение почвенного, незамечание его, чуждость почвенному. Пастернак путает народничество с народностью. Народничество, в сущности, дворянская, интеллигентская идея, приближение к народу (хождение в народ), сочувствие народу, в сущности отношение к нему свысока, как к меньшому брату. Есенину все это было чуждо, ибо он сам – народ, органично нес в себе собственно народное сознание, мирочувствование и в этом его коренное отличие от всех них. И не только отличие, а внутренняя враждебность, а «недоступная» черта в отношениях между народом и интеллигенцией, о которой писал Блок. Сокровенная сущность поэзии Есенина, которую определяют весьма поверхностно как русский мессианизм, была совершенно чужда Пастернаку по многим причинам: по национальным, сословным и, наконец, самое главное, – по 225
культурной генеалогии. Православие Пастернака не имело ничего общего с тем, что Есенин носил в крови, что было в нем органически растворено. Я бы назвал это именно русской разновидностью православия, русской его ветвью, вызревшей в русской душе за десятки веков его существования. Для Пастернака же это было своего рода духовной экзотикой, это не сидело в нем неосознанно. Это было воспринято как культура (не почвенно!), как сказка, как легенда древней Иудеи – через Толстого, через православный экзотизм Рильке, через искусство Европы. Все это смешалось в этой благородной поэтической душе, склонной к восторгу, к умилению, с пламенным иудаизмом Гейне, с культом личности на еврейский манер (что было чуждо православию вообще), с богоборчеством Скрябина (мадам Блаватской), и образовавшими эту причудливую, своеобразную и неповторимую в своем роде поэтическую личность. Разумеется, нет никакой надобности подвергать сомнению все, сказанное Пастернаком. Он был, несомненно, абсолютно честным человеком в тех условиях, в которых он жил и в которых жить без компромисса было вообще невозможно. Однако этот компромисс был, наверное, самым минимальным. То, что составляло для Есенина сущность его творчества, – судьба его народа, его племени, и чему он отдал лучшее в своем творчестве от 1918 до 22 года, до «Кобыльих кораблей», «Пугачева», в которых эта тема приобрела для него полную ясность и была им исчерпана. Трагизм национальной судьбы сменился личным трагизмом. Воспевание гибели нации сменилось воспеванием собственной гибели. Вслед за Блоком, ранее всех почувствовавшим смысл событий («но не эти дни мы звали, а грядущие века»””), Есенин пишет «Пугачева». Все это было абсолютно чуждо Пастернаку и особенно Маяковскому, воспевавшим жизнь, вознесшую их на вершину славы. Эти люди обнаружили свое полное безразличие к таким событиям, как развал русской деревни, разгром духовенства и церкви. Все это их не касалось. Время Шигалевщины Пастернак относит только к 37 году, в то время, когда крупные житейские неприятности коснулись людей его круга. (Тоже, например, и Шостакович, обсмеивавший в своих сочинениях попов, которых тысячами ссылали в те годы вместе с семьями.) Любопытно, например, что разрушение храма Христа Спасителя и судьба русского духовенства не нашли никакого отражения у Пастернака (ни в прозе, ни в стихах). Впрочем, его прозрения относятся к 34 году, о чем свидетельствует его письмо к отцу, написанное 25 декабря 34 года в день католического Рождества”'. Никак не желая отрицать православия Пастернака, я хочу сказать лишь, что оно было православием неофита. В нем был большой процент культурного веяния, от сознания, что жить без веры – нельзя, жизнь теряет смысл. К вопросу о «сказочности» Есенина как типа (очевидно, Иван-царевич, превратившийся у Катаева в королевича). Кстати, рассматриваемая статья Пастернака является конспектом несравненно более талантливым и несравнимым в художественном отношении с романом Катаева «Алмазный венец». В этой 226
последней книге, как выясняется, нет ни одной собственной мысли. Все оценки взяты из статьи Пастернака. Сущность этой статьи и романа – унижение Есенина, унижение русского народного, национального, религиозного и возвышение космополитического сословия – интеллигентского, избранно интеллектуального. Для Есенина народ со всеми его недостатками: грубостью, хитростью и т. д. все равно является стихийным носителем религиозного начала, повторяю, со всеми недостатками. Для Пастернака же он не существует вовсе, за исключением стихотворения «На ранних поездах»”” и умилительных военных очерков. (Тему эту отделать.) Не то чтобы он презирал народ, этого нет и в помине, но и чувств стихийной близости нет, он воспринят как бы литературно. Маяковский же изображал народ подчас злобно, карикатурно, лубочно (в стихах) или унизительно (пьесы «Клоп», 3 о «Баня», Фоскин, Двойкин, Тройкин“ и проч.). О типе чувствования Описывая смерть Маяковского: квартиру, наполненную близкими людьми, сбежавшимися сюда, описывая рыдающего Кирсанова, плачущего Асеева, Пастернак поражается бесчувственному спокойствию его матери и старшей сестры Людмилы (даже не называя ее по имени). Его умиление вызывает младшая сестра, входящая в квартиру (как на сцену) с патетическими воплями – это производит на него впечатление. Мне же кажется, что закаменевшая в горе мать и старшая сестра, возможно, ощущающие, что они находятся среди косвенных убийц (еще покойная Л В так это мне и говорила”), производят более мрачное, тягостное впечатление. Но, возможно, здесь имеют место разные типы чувствования. Одни каменеют в горе, другие бьют себя в грудь, посыпая пеплом волосы. У одних народов принято нести свое горе с достоинством, не делать его общим достоянием, переживать его внутри себя; другие – громко плачут сами или нанимают плакальщиц, выражающих поддельное горе. Все это зависит от разного характера чувствований. В разговоре об ужасной смерти Есенина сказочная тема достигает кульминации (апогея); тут уже не Иван-царевич, а Иван-дурак – идиот, не соображающий, не сознающий, что делает, накладывая на себя руки (тогда как все творчество Есенина последних лет указывает на обратное). Думается, двойственное отношение Пастернака к Есенину высказалось здесь в полной мере. Здесь дышит ненависть – ничто другое. Ненависть человека, прожившего, в общем-то, благополучную жизнь подмосковного дачника. Разумеется ... Таким образом, внешне справедливые, хотя и пристрастные, как он сам пишет, заметки Пастернака носят на себе отпечаток ожесточенной литературной борьбы и далеко не беспристрастны, о чем, впрочем, пишет и сам автор. Они не лишены 227
желания творческого самоутверждения путем умаления и устранения с пути поэта “, которого он считал своим главным литературным конкурентом, соперником. Именно здесь, через много лет после гибели Есенина, когда слава его... Пастернак приветствовал известные слова Ст о Маяковском, как о лучшем поэте эпохи, сознавая, что эта роль для него самого непосильна да и неестественна. Амплуа его другое: он никогда не выходил, да и не вышел, за пределы внимания «сливок» советского общества, которые всегда имеются во всякое время, как и в любом другом обществе. Но он не возвысил своего голоса, да и никто не возвысил голоса против «Злых заметок» Бухарина, статей Сосновского да и других критиков подобного же толка, уничтожавших Есенина как поэта. И в конечном итоге изъявших его из русской литературы и вбивших в его могилу осиновый кол и поливших его прах зловонными нечистотами. Но, несмотря на всю их борьбу привилегированного слоя русской поэзии, Есенин стал и продолжает оставаться народным поэтом. В несчастьях народных, на войне, в окопах, в тюрьмах, лагерях – не Пастернак, не Цветаева, а Есенин сопровождал народ. Он прошел проверку в глубочайших испытаниях, которые суждены были народу. И в этих глубочайших испытаниях войны он вырос в истинно народного поэта. Разумеется, не все в его творчестве стало народным, но у Пастернака не стала народной ни одна строка, и не потому, что Есенин к этому специально стремился, а Пастернак сознательно избегал этого, а потому, что одному это было дано, а другому не дано. И умаление Есенина под видом отдания ему должного – это месть ему за его народность, за его «моцартианство». Это месть Сальери Моцарту, та щепотка яду, которая подсыпана в его питье. О чувстве национального Судьба коренной нации мало интересовала Пастернака. Она была ему глубоко чужда и винить его за это не приходится, нельзя! Он был здесь в сущности чужой человек, хотя и умилялся простонародным, наблюдая его как подмосковный дачник, видя привилегированных людей пригородного полукрестьянского, полумещанского слоя (см. стих «На ранних поездах»”). Россию он воспринимал, со своим психическим строением, особенностями души, не как нацию, не как народ, а как литературу, как искусство, как историю, как государство —щ опосредованно, книжно. Это роднило его с Маяковским, выросшим также (в Грузии) среди другого народа, обладающего другой психикой и другой историей. Именно этим объясняется глухота обоих к чистому русскому языку, обилие неправильностей, несообразностей, превращение высокого литературного языка в интеллигентский (московско-арбатский!) жаргон диктатурой пролетариата. Пастернак ыы поэта, который в народном сознании занял место, несравнимое ни с кем из его (как пишет Пастернак) поколения, и стал рядом с Пушкиным. 228
был далек от крайностей М – прославления карательных органов и их руководителей, культа преследования и убийства, призывов к уничтожению русской культуры, разграблению русских церквей. Но по существу своему это были единомышленники – товарищи в «литературном», поверхностном, ненародном. Оба они приняли как должное убийство Есенина. Ныне – этот нерусский взгляд на русское, по виду умилительно-симпатичный, но по существу – чужой, поверхностный, книжный и враждебно-настороженный, подозрительный, стал очень модным поветрием. Он обильно проник в литературу, размножившись у эпигонов разного возраста. Лопуляризацией его является проза Катаева, поэзия Вознесенского, Ахмадулиной и Евтушенко(-Гангнуса). По виду это – как бы противоположное Авербаху, Л. Лебединскому. А по существу – это мягкая, вкрадчивая, елейная, но такая же жестокая и враждебная, чуждая народу литература. <...> И пробуждения национального сознания они боятся – панически, боятся больше всего на свете. Они воспринимали исторические события книжно, от культуры, через исторические ассоциации, параллели, которые давали возможность легких поверхностных выводов. Это делало их слепыми и глухими к жизни. Первым из них прозрел и увидел катастрофичность своей ошибки Клюев потому, что он ближе всех был к жизни, к глубине ее, вторым был Блок (см. Дневники, речь о Пушкине”, «Пушкинскому дому» ит. д.). Третьим был Есенин. Маяковский же и Пастернак были «своими» людьми среди представителей еврейской диктатуры. Маяковский же был официальным поэтом этой диктатуры, и он пошел до конца, пока не возненавидел всех и всё на свете: злоба его, и раньше бывшая главенствующим чувством, достигла апогея. Это был какой-то майский скорпион, жаливший всех и вся: чиновников, рабочих, мужиков, Америку, Европу, православных попов и католических монахинь, Пушкина, Толстого, Шаляпина, Горького, Булгакова, духовенство, интеллигенцию, литературную богему (и поэтов, и критиков, которых он дружно поносил), живопись традиционно русскую, загнанную к тому времени в подполье, и новую революционную живопись (АХРР). Яд, скопившийся в нем, в этом человеке с опустошенной душою, превратившемся в злобное, ядовитое насекомое, искал выхода, изжалив все, что было вокруг него и видя, что жалить больше некого, он в бешенстве вонзил в самого себя свое скорпионье жало и издох. В лютых бедствиях, в окопах войны, в лагерях и тюрьмах, в изгнании на чужбине, народ пронес с собой Есенина, его стихи, его душу. Не славе Есенина завидуют Маяковский, Пастернак, Цветаева и многие другие поэты, а народной любви к нему, так же, как Сальери завидует не славе и не гениальности Моцарта, а любви к его мелодиям слепого скрипача и трактирной публики. Вот ведь в чем соль! Завидуют, говоря затрепанным без нужды словом, его народности. 229
Поэт – зла. Он и может существовать только искусственно культивируемый, насаждаемый злом же. У Булгакова – Богохульский (очевидно – Маяковский). жж Современный симфонический оркестр своим грохотом, как гигантским гвоздем, намертво прибивает слушателя к филармоническому креслу. Звучание хора поднимает человека в высоту, отрывает его от этого кресла, преодолевая силу земного притяжения. 41-83 г. О размежевании художественных течений Размежевание художественных течений происходит в наши дни совсем не по линии «манеры» или «средств выражения», как это называется в музыкальной среде. Надо быть очень наивным человеком, чтобы так думать. Размежевание идет по главной линии: духовно-нравственной, здесь, в этих глубинах – начало всего. Ленинградский Эрмитаж (о новаторстве) Эрмитаж – музей в своем роде уникальный. Нет нигде в мире художественного музея, где бы наряду с мировым искусством не было бы искусства своей страны. Только у нас в России, при нашем постоянном, уже «историческом» самооплевывании, возможно подобное оскорбление собственного, родного художественного гения. В этом – отголосок чувства «колониального» рабства, свойственного известной части нашей «интеллигенции», уже неотделимого от нее. Так называемый «художественный бунт», художественное новаторство заключается, как правило, в очередном «освоении» европейского опыта и перенесении его на русскую почву. Но теперь, после многолетнего забвения и попрания национальных традиций и художественных святынь, возврат к собственно Русскому, ясные черты которого сформулировались за последнюю тысячу лет, необыкновенно плодотворен. Подобное искусство – это живительный дождь над пустыней зла и бездуховности, в которую обратилась измученная душа русского человека. Эта душа жаждет любви, кротости, веры в чистоту и добро. Жжх Проницательные люди на Западе уже давно бьют тревогу по поводу неблагополучия во взаимоотношениях сочинителей и публики, равнодушной, холодной к разнообразным музыкальным экзерсисам. Плодится несметное количество сухой, рассудочной, бездушной, безмелодичной, несамостоятельной, эпигонской музыки. Огромные силы, огромные деньги брошены на ее пропаганду, 230
на ее внедрение в жизнь, на восхваление этого уродливого, агрессивного сочинительства, на унижение и умаление искусства традиционного, объявляемого ненужным, устаревшим, отсталым и т. д. Энергичные музыкальные деятели наших дней не только сочиняют поистине с кроличьей плодовитостью, ибо это «творчество» не требует большого расхода душевных сил, хотя, несомненно, требует «комбинаторских», математических способностей, расчета, знания рецептуры, приемов, правил, по которым производится движение материи и, несомненно, своеобразной конструктивной фантазии. Однако изъяны этого творчества очевидны: абсолютное отсутствие вдохновения, основы искусства в его исконном традиционном понимании, отрицание наития, творческой тайны, духовного содержания. Отрицание высокого чувства, отрицание благородства чувств, милосердия, сочувствия, сострадания, любви и добра, всего того, что составляло и составляет суть «традиционного» – бессмертного, как показывает жизнь и музыкальная практика наших же дней. Жжх Бунт против «традиции» – это не изобретение современности. Он возник в конце прошлого века, на это были свои исторические причины, весьма сложные, глубокие, которые не время сейчас анализировать. Музыка «додекафонии» и др. производных от нее систем, носящих разные звонкие названия, которыми критика (в том числе и наша) любит пускать пыль в глаза легковерным любителям музыки, распространилась во многих странах. Она имела и имеет ярых адептов. Это искусство агрессии, насилия и воинствующего зла, оно попирает человеческое и национальное достоинство, любовь народа во имя торжества военизированно организованного меньшинства, желающего духовно править миром. Это совсем не безобидное явление внутри музыкального искусства. Будучи по началу «умозрительно продуманной новизной» (а не стихийно, из природы возникшим феноменом, каким является музыка в ее подлинном понимании), додекафония внесла в музыку несомненно новый элемент. Но сейчас уже видно, что эта новизна оказалась исчерпана ее же изобретателями. Они и явились собственно «новаторами». Что же касается употребления этого слова в наши дни, то оно стало лишь условным обозначением самого настоящего эпигонства и эклектики, т. е. механического соединения несоединимых элементов музыки. Ничего принципиально нового послевоенные деятели не принесли, несмотря на пышные декларации и захват командных высот руководства искусством во многих странах мира, в том числе и социалистических. Если говорить о стиле, который воцарился в значительной части нашей музыки, называющей себя «передовой», то это эклектизм, разностилица, мешанина, воинствующее дурновкусие. У великого русского поэта Ал. Блока есть одно замечание в его изданных записных книжках. Оно касается художественной деятельности братьев Бурлюк – зачинателей разрушительных тенденций в Русской многострадальной литературе. 231
Блок написал: «Не пошел на выставку Бурлюка, боюсь, что наглости здесь больше, чем чего бы то ни было другого»”. Глубокие, прозорливые слова. Ошибочно, однако, было бы думать, что Бурлюки исчезли из нашей жизни. Никто не помнит их стихов, но их и создавали не для вечности. Их создавали для примера, и примеры этого искусства, к сожалению, живучи. Они существуют и теперь, – эти новые Бурлюки, – и в литературе, и в музыке, и в критике. Их удел – не в создании бессмертных ценностей, а в унижении, в оплевывании созданного великого, в яром желании помешать созданию нового искусства, задушить в колыбели живые творческие чувства, живые проявления человечности, национального характера, их желание лишить нас чувства родства со своим прошлым, чувства своей истории, чувства связи с прошлым и грядущим. Лозунг «Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с парохода современности» совсем не устарел, как хотят нас обмануть адепты этого лозунга. Он – жив, этот лозунг, он – руководство к действию и призыв к нему! Если нельзя выбросить Толстого из жизни нашего народа, можно его – извратить, оболгать, как это делает, например, литературовед Ш”. Эти люди ведут себя в России, как в завоеванной стране, распоряжаясь нашим национальным достоянием, как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности. Жжх Итальянец Клаудио (фамилию – не помню), который работал в «Мосфильме» на картине «Красные колокола», приносил на работу (он монтировал музыкальные куски) свои газеты, и я смотрел их (картинки, фотографии). По-итальянски я не понимаю. И вот передо мной лежит газета «Мессаджеро» (или «Мессажеро»), в ней напечатана программа концертов (в залах Рима) на неделю. Боже! Сколько играется своей, итальянской музыки (особенно органной, с пением) старинной! Сколько композиторов, некоторых имен я никогда и не слыхал, хотя, видит Бог, хорошо знаю и музыку, и ее историю. Но все это звучит, люди это слушают, живут этим, на этом воспитывают слух, эстетику, дух свой и характер. Они ценят и уважают свой национальный гений. Честь им и слава! А мы? Старая музыка – почти не звучит. Хоры – ликвидированы, уничтожены. Музыка до Глинки как бы и вовсе не существовала. А то говорят, что страна наша существует только с 1917 года. Между тем – у нас любят свою старую музыку, русским людям горько сознавать свое духовное и культурное ничтожество, в котором их всячески хотят уверить. Европейская культура – это, видите ли, культура, наша же русская, хотя мы тоже европейцы, разделяется на культуру народную и культуру Пуришкевича. И вот под культуру Пуришкевича, про которого никто не знает, кто он такой, но ясно, что он – очень плохой человек, подводится гениальная, великая Русская хоровая музыка, народное искусство России, насчитывающее многие века своего существования. 232








