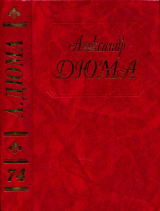
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
Перейдем теперь от поэзии к литературе – эти два понятия не следует смешивать.
Мы дали некоторое представление о древней поэзии, о созданном на финском языке романтическом эпосе, и обратили внимание на то, что, помимо этих грандиозных устных преданий, напоминающих песни Гомера и циклы романов о Карле Великом, существовала еще одна литература.
Однако это была литература завоевателей, то есть шведская литература.
И, повторяем еще раз, одно – это в самом деле поэзия, другое же – литература. Само собой разумеется, литература, как и почти всюду, преобладает над поэзией.
Три современных поэта: Кореус, Францен и Рунеберг, все трое финны, но выпускники шведского университета в Або, представляют эту литературу.
Мы попытаемся дать понятие о даровании этих поэтов, приведя по одному стихотворению каждого из них; легко будет заметить, что грусть в их стихах осталась, но самобытность исчезла.
Первое стихотворение принадлежит перу Кореуса.
Кореус – сын бедного священника, в шестнадцать лет оставшийся сиротой. Родился он в Кристинестаде в 1774 году, а умер в Або в 1806 году. Ему было тогда тридцать два года.
Стихотворение это называется "Дума о моей могиле".
Оно написано одновременно с "Падением листьев".
Знал ли Кореус французского поэта? Возможно; однако несомненно, что французский поэт не знал финского поэта.
Вот это стихотворение. Как вы сейчас убедитесь, его автором вполне мог бы быть и Гёте, и Байрон, и Ламартин.
Где суждено и мне найти приют угрюмый,
Когда наступит мой последний страшный час? Быть может, в тех местах, тая о смерти думы,
Я без волнения бродил уже не раз.
Как знать, в чужом краю погибну я, быть может? Его названия узнать мне не дано.
Там люди чуждые меня во гроб положат И на могильное его опустят дно.
Увижу ль рядом я в предсмертную минуту Хотя бы одного из дорогих друзей,
Кто утешеньями унял бы сердца смуту И боль души смягчил молитвою своей?
Кто верой твердою изгнал бы мрак неверья И выслушал слова прощальные мои,
Кто мира горнего мне приоткрыл бы двери,
Где ждет нас вечный дар божественной любви.
Прощальный мой привет я передал бы людям, Кто с первых дней моих учил меня добру.
Таким мой друг и я век благодарны будем:
Они не сдержат слез, когда я там умру.
Где смерть меня найдет? Да ведь не в этом дело, Там или здесь лежать останется мой прах! Божественной любви доверюсь я всецело, Надежда на нее преодолеет страх.
Не сомневаюсь я, что ты со мной повсюду,
Бог милосердия, Отец Небесный мой!
Надеюсь, что навек Тобой обласкан буду,
Что Ты подаришь мне в своем раю покой.
Что памятник?! – Тщета! Я не нуждаюсь в славе, Ученый и герой его достойны здесь.
И что мне монумент?! – Я на иное вправе:
В Небесном Царствии покой предвечный есть.
Лишь только ты, мой друг, меня не позабудь!
Я рад, что дружбою мы оба дорожили.
Тебе известен был страдальческий мой путь —
Так помни обо мне, когда усну в могиле.
Слезу твою приму как дань моей судьбе,
И станет мне она посмертною наградой.
Коль имя прозвучит мое в твоей мольбе,
То больших почестей мне на земле не надо!
О милая земля, как любящая мать,
Прими тогда мой прах в свое святое лоно!
Мне в глубине твоей придется долго спать По воле твоего извечного закона.
Лилей мой сон до дня, когда раздастся глас Всевышнего судьи, кто мертвых к жизни будит!
О вера сладкая, дай силы в горький час!
По истине своей пусть Бог нас, грешных, судит![6]
Что касается Францена, то под рукой у меня нет никаких его произведений, кроме тех, что приводит Мармье в своих очерках о поэтах Севера. И потому я позаимствую все у него – как прозаическую цитату, так и стихотворную. Да не посетует на это читатель. Вот что говорит наш ученый:
«Францен – поэт по натуре нежный, мечтательный, идиллический; он носит в себе целый мир мыслей и, как цветы, рассыпает их на своем пути. Стихов, сравнимых с его поэтическими произведениями, во Франции я не знаю, если не считать некоторых самых простых баллад Милъ-вуа. В Германии их можно было бы поставить в один ряд со стихами Хёльти и Маттиссона; в Англии им в некотором отношении близки иные элегии Бёрнса, но Бёрнс более глубок и разнообразен; если же искать им соответствие в Италии, то там не удастся найти ничего, кроме идиллий Метастазио».
Чтобы дать понятие о даровании поэта, Мармье перевел стихотворение Францена, носящее название "Единственный поцелуй".
Вот оно.
Уйдет корабль, от берега отчаля.
Я не свожу с тебя влюбленных глаз.
О, улыбнись же мне из-под вуали И руку протяни в последний раз.
Минули дни небесного блаженства,
Когда, в твой дом наведавшись порой,
Я замирал при виде совершенства И шелест платья слух лелеял мой.
О аромат цветов в саду близ дома,
Куда к тебе навстречу я спешил,
Где было все до боли мне знакомо,
Тебя я ждал, от чувств лишаясь сил.
О эти дни, когда ты вышивала,
Со мной садилась рядом за рояль,
И локон твой вдоль нежного овала Будил в душе тревожную печаль!
Молю как друг, как брат о поцелуе,
И первым, и последним станет он.
Твою слезу устами осушу я —
И сохраню навеки дивный сон.[7]
Францен, родившийся в 1772 году, оставил большую неоконченную поэму о Христофоре Колумбе.
Единственный из трех упомянутых нами поэтов, который еще здравствует ныне, если только он не умер в самое последнее время, это Рунеберг – самый значительный из них. Родившийся в Борго в 1806 году, он в период моего пребывания в Санкт-Петербурге, то есть три года тому назад, преподавал в гимназии своего родного города. Поездка в Або, где он учился, была самым крупным событием в его жизни.
Мы сказали, что Рунеберг – самый значительный из трех упомянутых нами поэтов. И объясняется это, несомненно, тем, что из них троих в нем более всего присутствует финское начало: одна из его поэм похожа на древнюю руну – жаль, что у нас нет ее перед глазами и мы не можем представить ее всю целиком на суд наших читателей; но, находясь вдали от библиотек, мы просто по памяти приведем ее сюжет.
Она называется "Могила в Перхо".
Знал ли Рунеберг, когда он писал свою поэму, эпизод с Торквилом из Дубровы – персонажем романа "Пертская красавица"? Знал ли он, сочиняя ее, предание о старике из Монте Аперти и о шести его сыновьях?
Не думаю.
Во всяком случае, вот финская легенда, сочиненная или только переложенная в стихи Рунебергом.
У старика-финна есть шестеро сыновей. Они идут сражаться с разбойниками, опустошающими округу, но попадают в устроенную теми западню и все, кроме одного, погибают.
Отец приходит на поле боя искать тела своих сыновей. Но там, где старик полагал найти шесть мертвых тел, он насчитывает их только пять. Первое его побуждение состоит в том, чтобы оплакать мертвых, но внезапно слезы высыхают у него на глазах. Почему трупов пять, а не шесть? Это уже дело чести: одного из сыновей недостает.
И недостает как раз того, на кого он мог более всего рассчитывать и кого любил больше всех – его старшего сына Томаса.
Что с ним случилось, не бросил ли он братьев?
Эта мысль терзает старика, которому вероятность позора, нависшего над Томасом, причиняет больше страданий, чем неоспоримость смерти, постигшей пять его братьев.
Но все же такого горя, сверх всякой меры, ему не дано испытать! Он может оплакивать пятерых своих сыновей и гордиться шестым: Томас не был с братьями, когда они попали в засаду. Он пришел слишком поздно и не мог ни спасти их, ни умереть вместе с ними. Но, увидев их окровавленные трупы, он бросился в погоню за убийцами, уничтожил их всех, одного за другим, и принес отцу голову их предводителя.
Старик, не умерший от горя при виде мертвых тел пяти своих сыновей, умирает от радости, обнимая шестого.
А вот элегия Рунеберга, написанная в духе современного сентиментализма, то есть произведение куда более шведское, чем "Могила в Перхо".
Спи-усни, беспокойное сердце,
Позабудь и радость, и горе.
Не нарушит покоя надежда,
И мечта твой сон не встревожит.
Что сулит тебе день грядущий? Избавленье от мук душевных?
Где целебный цветок, что врачует В бедном сердце давние раны?
Спи-усни, усталое сердце.
Что тебе полдневные розы?
Лишь во мраке ночных видений Прорастут целебные травы.
Спи, как лилия, что поникла Под жестоким вихрем осенним. Спи, как лань, что изнемогает, Сражена стрелой беспощадной.
Для чего грустить о минувшем, Вспоминать о былом блаженстве? Не навеки весна в этом мире, Быстротечно счастье земное.
Миновала пора цветенья,
От нее и следа не осталось.
Не найти на снежной равнине Ни тепла, ни света былого.
Помнишь ту волшебную пору: Птиц, поющих в зелени рощи,
И блаженной любви обитель —
Наш пригорок, поросший цветами?
Помнишь сладостные объятья И биенье милого сердца?
Помнишь жар ее поцелуев? Помнишь страстные обещанья?
Помнишь – очи глядели в очи,
На любовь отвечая любовью?
То была пора пробужденья,
Но пора забвенья настала.
Спи-усни, беспокойное сердце! Позабудь и радость, и горе.
Не нарушит покоя надежда,
И мечта твой сон не встревожит.[8]
Финны, этот странный народ, сохранивший в неприкосновенности национальную одежду своих предков, народ, который, подобно грекам, временами поет отрывки из собственной древней "Илиады", должен был внушить приязнь императору Александру, по своему умонастроению склонному к меланхолии и созерцательности. Завоеванная им Финляндия стала провинцией, к которой он питал особое расположение. В 1809 году, вскоре после заключения Тильзитского мира, который обеспечил бы падение Англии, если бы Александр сдержал свое слово, император посетил Або и даровал ежегодную сумму в восемьдесят тысяч рублей на продолжение научных работ академии, чей первый камень был заложен тем самым Густавом IV, которого Наполеон хотел отправить царствовать в сумасшедшем доме.
Наконец 21 февраля 1816 года он издает указ следующего содержания:
«Быв удостоверены, что конституция и законы, к обычаям, образованию и духу финляндского народа примененные и с давних времен положившие основание гражданской его свободе и устройству, не могли бы быть ограничиваемы и отменяемы без нарушения оных, Мы, по восприятии царствования над сим краем, не только торжественнейше утвердили конституцию и законы с принадлежащими на основании оных каждому финляндскому согражданину особенными правами и преимуществами, но, по предварительном рассуждении о сем с собравшимися земскими края сего чинами, учредили особенное правительство под названием Правительственного совета, составленного из коренных финляндцев, который доселе управлял гражданской частью края сего и решал судебные дела в качестве последней инстанции, не зависев ни от какой другой власти, кроме власти законов и сообразующейся с оными монаршей воли нашей. Таковыми мерами оказав наше доброе расположение, которое имели и впредь будем иметь к финляндским верноподданным нашим, надеемся Мы, что довольно утвердили на всегдашние времена данное нами обещание о святом хранении особенной конституции края сего под державой нашей и наследников наших».
Поспешим добавить, что обещание, данное народу Финляндии императором Александром, свято выполнялось.
XLV. ВВЕРХ ПО НЕВЕ
Итак, как уже было сказано, настало время отправиться в путешествие по Финляндии.
Пароходы отходят от Летнего сада в Шлиссельбург, Коневец, Валаам и Сердоболь дважды в неделю.
Нам предстояло отправиться на одном из этих судов.
Граф Кушелев вознамерился было нанять пароход, чтобы доставить нас из Санкт-Петербурга в Сердоболь, подобно тому как мы были доставлены из Кронштадта в Санкт-Петербург, но за эту увеселительную прогулку с него запросили полторы тысячи рублей, то есть шесть тысяч франков, и мы настояли, чтобы он отказался от такой безрассудной затеи.
И вот 20 июля, в одиннадцать часов утра, мы отплыли на одном из тех обычных почтовых судов, которые со скоростью шесть или семь узлов поднимаются вверх по Неве. В нашу группу входили Дандре, Муане, Милле-лотти и я.
Проплывая мимо дворца Безбородко, мы увидели наших друзей, которые, собравшись на балконе, подавали нам прощальные знаки: дамы махали платками, а мужчины шляпами. Те из них, кто имел слабое зрение, смотрели в бинокли и подзорные трубы. Впрочем, невооруженным глазом распознать на таком расстоянии лица можно было лишь с трудом, поскольку ширина Невы в этом месте, то есть между дворцом Безбородко и Смольным, составляет более двух километров.
Почти час, несмотря на изгиб реки, можно было видеть, как белеет и уменьшается на горизонте только что покинутый нами роскошный дворец Безбородко, где мы провели такие счастливые дни; наконец, какой бы гигантской ни была излучина Невы, мы потеряли его из виду.
Но еще целый час предместья огромного города, казалось, следовали за нами по берегам реки; затем постепенно городские силуэты исчезли, застройка стала менее плотной, дома начали встречаться все реже, а затем открылась сельская местность.
Первое, что бросается в глаза, когда спустя какое-то время вы оказываетесь между двумя грядами низких холмов, скорее даже пригорков, – это развалины дворца.
Дворец, который находился на левом берегу Невы и все службы которого сохранились до нашего времени, был построен Екатериной. На противоположном берегу, в полукилометре выше по течению реки, стоял другой дворец, парный по отношению к нему.
Оба дворца разрушены, но не временем, а руками людей.
Павел I, испытывавший ненависть к своей матери и стыдившийся ее образа жизни, после смерти Екатерины и своего восшествия на престол позволил разграбить и снести оба дворца.
Всегда найдутся те, кто готов грабить и разрушать, не было в них недостатка и на этот раз. Сыновняя месть была жестокой. Даже шведы, у которых русские с таким трудом захватили эту местность, не совершили бы такого опустошения, если бы им удалось отвоевать ее у русских.
Вблизи дворца на правом берегу располагалась фабрика шелковых чулок, основанная Потемкиным и, как говорят, работавшая на него одного: всю ее продукцию он обращал в собственное пользование, надевая шелковые чулки только один раз и пуская все излишки на подарки.
Фабрика разрушена, так же как и дворец, но у нее есть перед дворцом преимущество – легенда: утверждают, что там водятся привидения.
Одно упоминание о привидениях вызвало у Милле-лотти дрожь.
Императрица и ее фавориты умерли, и память о них исчезла, расхищенная и уничтоженная историей, как те два дворца, которые Павел I отдал на разграбление лакеям!
Я уже рассказывал, как умерла Екатерина, но, по-моему, еще не говорил, как умер тот ее любовник, которого так долго держал на отдалении от императрицы граф Орлов и который, в конце концов, отошел в сторону сам.
Деспотизм, присущий Потемкину, не давал себя знать в отношении ревности; нет, князь прекрасно понимал, что у Екатерины потребность в смене любовников была не проявлением ее распутства, а своего рода телесной болезнью, и стал врачевателем этой болезни, взяв на себя поставку лекарственных средств.
Впрочем, все это делалось с открытостью, делавшей честь нравам того времени.
Вот что писал 19 марта 1782 года английский посол в Санкт-Петербурге сэр Джеймс Харрис:
"Я не могу быть уверен, что в самом скором времени не появится новый фаворит. Это ставленник князя
Потемкина, который его и выбрал. Единственная трудность заключается в том, чтобы благопристойно избавиться от нынешнего официального любовника, поведение которого всегда было и все еще остается столь услужливым, что его просто невозможно ни в чем упрекнуть. Он не ревнив, не ветрен, не заносчив и даже теперь, когда уже нельзя не считаться с надвигающейся немилостью, сохраняет все то же безукоризненное спокойствие.
Такое его поведение отсрочит, но не воспрепятствует открытому водворению преемника. Решение принято бесповоротно, и князь Потемкин слишком заинтересован в этой перемене, чтобы она не состоялась, ибо он надеется вернуть себе с ее помощью все свое влияние; так что в течение первых полутора месяцев он будет всемогущ".
Вот, кстати, на каких условиях Потемкин уступал место; об этом рассказывает все тот же сэр Джеймс Харрис:
«Прежний фаворит не получил еще формальной отставки; его исключительная услужливость безусловно идет ему на пользу. Он не подает ни малейшего повода к тому, чтобы ему дали отставку. Тем не менее я полагаю, что его участь решена. Для него купили дом, ему приготовили великолепные подарки, которые обычно дают впавшим в немилость фаворитам. Подарки эти, надо сказать, имеют значительную ценность, а так как повод для награждения ими представляется довольно часто, это неизбежно должно отражаться на бюджете империи. На эти цели со времени моего прибытия расходуется не менее миллиона рублей в год, не считая огромных пенсионов графа Орлова и князя Потемкина».
Кстати, тот же самый сэр Джеймс Харрис, посланник торговой державы и, следовательно, первоклассный счетовод, прояснил расходы, которые Екатерина понесла по этой статье.
Можно предположить, что суммы, приводимые сэром Джеймсом Харрисом, верны.
Все эти расчеты принадлежат ему, а не мне. У меня всегда было неладно с цифрами.
Начнем с Потемкина, потому что рассказ касается его, а потом перейдем к некоторым его коллегам.
"Потемкин, – говорит сэр Джеймс, – уже за два года своего фавора получил тридцать семь тысяч крестьян в России и почти на девять миллионов драгоценностей, дворцов и столовой посуды; кроме того, ему были пожалованы всевозможные ордена и достоинство князя Священной Римской империи в третьем поколении".
Сэр Джеймс писал это в 1782 году.
Фавору Потемкина, который посол считал неустойчивым, напротив, предстояло неизменно крепнуть и продлиться вплоть до кончины фаворита, случившейся в 1791 году, то есть спустя девять лет. И если Потемкин уже в начале своего фавора за два года получил тридцать семь тысяч крестьян и девять миллионов франков, то ко времени кончины он, по самой нижней оценке, должен был получить сто пятьдесят три тысячи крестьян и сорок два миллиона.
А почему бы и нет? Васильчиков, простой гвардейский поручик, по подсчетам сэра Джеймса Харриса, этого неутомимого бухгалтера, получил в течение двадцати двух месяцев, которые длился его фавор, четыреста тысяч франков деньгами, на двести тысяч франков драгоценностей, меблированный дворец стоимостью в сто тысяч рублей и столовой посуды на пятьдесят тысяч, семь тысяч крестьян в России, пенсион в двадцать тысяч рублей, то есть восемьдесят тысяч франков, орден Святого Александра и камергерский ключ.
Продолжим, раз уж мы этого коснулись; весьма любопытный перечень, не правда ли?
"Украинец Завадовский получил в течение восемнадцати месяцев, пока длился его фавор, шесть тысяч крестьян на Украине, две тысячи в Польше и восемнадцать тысяч в России; кроме того, на восемьдесят тысяч рублей драгоценностей, сто сорок тысяч деньгами и на тридцать тысяч столовой посуды. Помимо этого, он был награжден высшим польским орденом и пожалован званием камергера России.
Серб Зорич за один год своего фавора получил поместье в Польше, стоившее пятьдесят тысяч рублей; еще одно поместье в Ливонии, стоившее сто тысяч рублей; пятьсот тысяч рублей наличными деньгами; драгоценностей на двести тысяч и ежегодный доход в три тысячи рублей от монастырского имения в Польше; из простого гусарского секунд-майора он был произведен в генерал-майоры; кроме того, он получил от Швеции большую ленту ордена Меча, а от Польши – орден Белого Орла.
Русский Корсаков, младший офицер, за шестнадцать месяцев своего фавора получил в качестве подарка сто шестьдесят тысяч рублей, а после своей отставки – четыре тысячи крестьян в Польше, более ста тысяч рублей для уплаты долгов, сто тысяч – для экипировки, две тысячи в месяц на разъезды, дом Васильчикова, польский орден, чин генерал-майора и звания адъютанта и камергера.
Русский Ланской, конногвардеец, получил бриллиантовые пуговицы ценой в восемьдесят тысяч рублей, а также тридцать тысяч для уплаты долгов и при этом все еще оставался в фаворе.
Наконец, граф Орлов и его родственники получили с 1762 по 1783 год, то есть за двадцать один год, сорок пять тысяч крестьян и семнадцать миллионов в виде драгоценностей, столовой посуды, дворцов и денег".
У сэра Джеймса Харриса не достало любопытства подвести общий итог сумм, которые Екатерина израсходовала за двадцать один год на свои любовные дела.
Но благодаря выписке, которую мы только что сделали, оставив при этом про запас те двенадцать или пятнадцать лет, какие Екатерине еще предстояло царствовать, каждый человек, знакомый с действием сложения, может доставить себе такое удовольствие и произвести этот подсчет.
Вернемся, однако, к Потемкину.
Как мы сказали, его фавор, который сэр Джеймс Харрис считал готовым вот-вот угаснуть, продолжался еще девять лет.
В 1783 году Потемкин послал армию в Крым и присоединил этот край к Российской империи, в 1787 году лично отправился в поход против турок, в 1788 году штурмом взял Очаков, в 1789-м – Бендеры и, наконец, в 1790-м – Килию.
В 1791 году он вернулся в Санкт-Петербург. На этот раз его действительно заменил тот самый Платон Зубов, которому предстояло позднее столь деятельно участвовать в удушении Павла I.
Однако не это было главное; такая замена ничего не значила бы для Потемкина, если бы сохранилось его влияние, но он обнаружил, что императрица была готова заключить мир, в то время как он хотел продолжать войну. Он тотчас снова отправился в Крым, намереваясь противиться этому миру, однако в Яссах ему стало известно, что мир уже подписан; тем не менее он продолжил свой путь, надеясь все изменить. Но, отобедав в сельской гостинице и поехав дальше, Потемкин почувствовал такое сильное недомогание, что он приказал остановить карету и расстелить плащ на краю придорожной канавы.
Через четверть часа он скончался на руках своей племянницы, ставшей впоследствии графиней Браницкой.
Проплыв мимо развалин двух дворцов и находясь уже не более чем в двенадцати верстах от Шлиссельбурга, мы стали различать на левом берегу, сквозь деревья, обелиск, установленный в память о битве, которая отдала шведскую крепость в руки Петра I.
Какой-то крестьянин из Дубровки попросил позволения установить за собственный счет этот обелиск на том месте, где Петр I находился во время битвы.
Шведская крепость называлась в то время не Шлиссельбург, а Нотебург. Это победитель, исправив повреждения крепости, дал ей многозначительное имя Шлиссельбург, то есть "Ключ к городу".
Петербург в то время был на самом деле лишь городом Петра.
Меншиков был назначен комендантом Шлиссельбурга.
По обеим сторонам реки нашему взору стали открываться, становясь все гуще, леса, образующие мрачное ожерелье Ладожского озера. В этих лесах почти все лето наблюдается странное явление, причину которого кое-кто объясняет местью крестьян, что чересчур упрощает связанную с ним загадку.
Леса эти, как говорят, загораются сами собой и сгорают с невероятной скоростью, поскольку они состоят из хвойных деревьев.
Наиболее распространенное объяснение этих огромных пожаров следующее: во время ураганных ветров ели сгибаются и трутся одна о другую; при таком трении они, подобно кускам дерева, с помощью которых добывают огонь дикари Америки, воспламеняются и вызывают эти странные пожары.
Но, какова бы ни была причина, следствие налицо; во время нашего путешествия по Финляндии мы видели пожары только издали, но по дороге из Санкт-Петербурга в Москву нам пришлось проезжать буквально между двумя стенами огня; пламя было так близко и так опаляло, что машинисты нашего поезда увеличили его скорость, чтобы мы не успели поджариться, причем не с одной стороны, как святой Лаврентий, а с обеих сторон одновременно.
Над деревушкой, расположенной на левом берегу Невы, возвышается церковь Преображения.
Церковь и почти вся деревня принадлежат секте скопцов, об ужасных таинствах которой мы вам уже рассказывали.
Один из главных последователей этой секты был похоронен на кладбище церкви Преображения. Его могила служит для скопцов целью паломничества, не менее священной, чем гробница Магомета для мусульман.
Здесь с помощью раскаленной латунной проволоки совершаются жертвоприношения, какие некогда совершали жрецы Исиды в Египте и жрецы Кибелы в Риме. В темные ночи иногда видно, как вблизи могилы пророка мелькают огни, подобные блуждающим бледным языкам пламени. В окружающем пространстве слышатся стоны, похожие на стенания духов ветра.
Если вы видите эти огни и слышите эти крики, проходите быстро и не оборачивайтесь: там приносятся жертвы, противные природе и человечности.
Те, кто прочтет мое "Путешествие на Кавказ", увидят, что в Южной России я встречал целые поселения этих несчастных, которые способны заниматься любым ремеслом, но не могут быть отцами семейства.
Трое из них перевозили меня на лодке от Марани до Поти.
В одной или двух верстах от деревни, название которой я запамятовал, на серебристых водах Ладожского озера вырисовывается крепость Шлиссельбург, заграждающая вход в него.
Это низкое и мрачное сооружение с тяжелым каменным замком, ключами к которому служат пушки.
Французская пословица гласит: "Стены имеют уши". Если бы стены Шлиссельбурга, кроме ушей, имели еще язык, какие страшные истории они могли бы рассказать!
Поставим же себя на службу этим гранитным стенам и расскажем вам одну из таких историй.
Именно здесь жил в заточении юный Иван и здесь же он был убит.
Я не знаю истории более печальной, чем история этого царского отпрыска. Она печальнее даже истории Друза, который, умирая от голода, съел набивку своего тюфяка, или истории сыновей Хлодомира, убитых Хлотарем, или истории юного Артура Бретонского, которому герцог Иоанн приказал выколоть глаза.
У царицы Анны Иоанновны, дочери Иоанна V, брата Петра I, с которым они недолгое время царствовали вместе, была сестра, вышедшая замуж за герцога Мекленбургского и, по словам Рондо, нашего посла при Санкт-
Петербургском дворе, умершая «из-за непомерного количества водки, выпитой ею за последние годы».
У герцога Мекленбургского и дочери Иоанна родилась дочь, герцогиня Мекленбургская, племянница Анны; она вышла замуж за герцога Антона Ульриха Брауншвейгского и родила сына, Ивана Антоновича, то есть Ивана, сына Антона, как принято говорить в России.
Это был внучатый племянник Анны Иоанновны, то есть Анны, дочери Иоанна.
Умирая, Анна Иоанновна завещала свой трон ему, предпочтя этого ребенка дочери Петра, Елизавете Петровне, которую родила в 1709 году Екатерина I и которую императрица считала внебрачной и незаконнорожденной, поскольку ко времени ее появления на свет Петр I был женат на Евдокии Лопухиной, а Екатерина, со своей стороны, была замужем за драбантом, имени которого никто так никогда и не узнал.
Императрица умерла ночью 17 октября 1740 года.
На следующий день великий канцлер Остерман огласил завещание, в соответствии с которым императором объявлялся семимесячный Иван, а Бирон, герцог Курляндский, назначался регентом вплоть до достижения императором семнадцатилетнего возраста.
Это регентство, которое должно было продлиться шестнадцать лет, длилось лишь двадцать дней.
Мы уже рассказали в этой книге, как с помощью фельдмаршала Миниха принцесса Анна, мать маленького Ивана, возмущенная наглостью Бирона, в одну ночь лишила его могущества, поместий, золота и денег и, низвергнув его с вершины власти, почти нагого отправила в ссылку. После этого дворцового переворота Анна была провозглашена великой княгиней и регентшей, герцог Брауншвейгский, ее супруг, – генералиссимусом, Ми-них – первым министром, а Остерман – генерал-адмиралом и министром иностранных дел.
После провозглашения Бирона регентом было двое недовольных; после провозглашения регентшей герцогини Брауншвейгской недовольных стало трое.
Первой из них была принцесса Елизавета, вторая дочь Петра Великого и Екатерины I, всегда тешившая себя надеждой унаследовать трон после смерти императрицы Анны Иоанновны.
И она в самом деле унаследовала бы его, если бы не привязанность, испытываемая императрицей к своему фавориту.
Назначая своим преемником маленького Ивана, Анна Иоанновна полагала, что она продлевает власть Бирона на весь период малолетства ребенка, то есть на шестнадцать лет; при назначении же наследницей Елизаветы, которой было тридцать три года, герцог Курляндский был бы немедленно отправлен в свое герцогство.
Двумя другими недовольными были сама великая княгиня и ее муж герцог Брауншвейгский.
Причина же их недовольства была следующей. Фельдмаршал Миних, который арестовал Бирона и передал им власть, вполне мог бы, оказав такую услугу, стать генералиссимусом, но он сам отказался от этого поста, заявив, что его желание состоит в том, чтобы армия была удостоена чести находиться под командованием отца своего монарха. Правда, после этих слов, оценивая то, что произошло, он добавил: "Хотя огромные услуги, оказанные мною государству, делают меня достойным этой чести".
Более того, производя герцога Брауншвейгского в генералиссимусы, фельдмаршал Миних на самом деле предоставлял ему лишь иллюзорное звание: первый министр решал все и был единственным главой государства.
Вот почему 10 февраля 1741 года английский посланник г-н Финч писал своему правительству:
«Герцог сказал, что он очень многим обязан г-ну Миниху, но из этого не следует, что фельдмаршал должен играть роль великого визиря».
После этого посланник добавил:
«Если над Минихом по-прежнему будут иметь власть лишь его безудержное честолюбие и природная вспыльчивость, то, вполне возможно, он погибнет от собственного безрассудства».
Сообщив своему правительству о чувствах, испытываемых герцогом к Миниху, г-н Финч в другом письме, от 7 марта, рассказал об отношении регентши к фельдмаршалу:
«Регентша сказала, что Миних сверг герцога Курляндского скорее из честолюбия, чем из преданности ей, и, хотя и воспользовавшись плодами измены, она не может доверять изменнику. Нельзя, говорила она, терпеть более высокомерие фельдмаршала, который никому не отдает отчета в своих категоричных приказах и постоянно имеет дерзость перечить ее супругу. У него слишком много властолюбия и очень беспокойный характер. Ему лучше было бы поселиться в своих украинских поместьях и закончить там в покое свои дни, если бы это его устроило».
И в самом деле, менее чем через три месяца после переворота, совершенного им единолично, Миних был лишен поста первого министра и всех своих воинских званий.
Принцессу Елизавету, напротив, в это время задаривали.
Восемнадцатого декабря 1740 года, в день ее рождения, великая княгиня Анна подарила ей великолепные браслеты, а маленький Иван послал ей золотую табакерку с русским орлом на крышке; в это же время соляное ведомство получило приказ выплатить принцессе сорок тысяч рублей.








