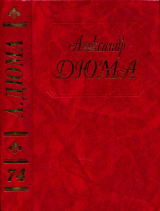
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
"Не поминайте черта, Миллелотти! Мои духи – добрые римские католики, и подобное восклицание им крайне неприятно".
"Скажите, Хьюм, – произнес маэстро, – а не могли бы вы отослать ваших духов?"
"Я не обладаю такой властью над ними. Они являются по собственной прихоти и уходят, когда хотят. К тому же вы слышали, что они пришли не ко мне, а к вам".
"Но я же их не звал! – воскликнул Миллелотти. – У меня нет с ними никаких дел, и я не спирит. Пусть катятся к черту и оставят меня в покое!"
Маэстро еще не закончил этой опрометчивой фразы, как не только стена, но и стулья, столы и кресла зазвенели под ударами духов; даже тазы заплясали на умывальных столиках вместе с кувшинами.
"Хьюм! – вскричал маэстро. – Хьюм, что это все значит?"
"Я же просил вас не поминать черта в присутствии духов, – спокойно произнес Хьюм, – вы же видите, что это выводит их из себя".
И в самом деле, духи постучали после этого раз сто.
Но, протянув руку к небольшому молитвеннику, на обложке которого был изображен крест, Хьюм сказал:
"Если вы пришли от имени Господа Бога, успокойтесь и отвечайте на мои вопросы".
Духи затихли.
"Вы только что сказали, – продолжал Хьюм, – что пришли не ко мне, а к Миллелотти".
"Да", – ответили духи.
Миллелотти задрожал всем телом.
"Миллелотти, – промолвил Хьюм, – есть ли среди ваших умерших родственников или друзей человек, который вас особенно любил или которого вы особенно любили?"
"Да, – ответил маэстро, – это моя тетушка".
"Обратитесь к духам и спросите их, нет ли здесь души вашей тетушки?"
"Здесь ли душа моей тетушки?" – дрожащим голосом спросил маэстро.
"Да", – ответили духи.
Миллелотти затрясся еще сильнее.
"Обратитесь с вопросом к душе вашей тетушки", – предложил ему Хьюм.
"С каким?"
"Я не могу вам подсказывать. Спросите ее о чем-нибудь, что лишь она одна может знать".
Миллелотти поколебался, а потом спросил:
"Как давно умерло тело, которому ты принадлежала?"
"Выражайтесь яснее".
"Не понимаю".
"Спросите, сколько с тех пор прошло дней, месяцев, лет".
"Сколько месяцев прошло с тех пор, как умерла моя тетушка?" – спросил Миллелотти.
Духи постучали девять раз.
Маэстро чуть было не упал в обморок: ровно девять месяцев тому назад, день в день, он похоронил свою бедную тетушку.
"Какие у вас пожелания по поводу того, в какую мебель следует вселиться душе вашей тетушки?" – спросил Хьюм.
Миллелотти посмотрел вокруг себя и выбрал стоявший в углу массивный круглый столик с мраморным верхом и с трехлапой ножкой.
"В этот столик", – сказал он.
Столик шевельнулся.
"Я видел, как он сдвинулся!" – вскричал Миллелотти.
"Без сомнения, туда только что вселилась душа, – сказал Хьюм. – Спросите его об этом".
Столик, к которому обратился с вопросом маэстро, трижды приподнял одну из своих лап и в знак утвердительного ответа трижды постучал ею в пол.
Бедный Миллелотти был ни жив ни мертв.
"Чего вы так боитесь? – спросил Хьюм. – Если, как вы утверждаете, ваша тетушка вас любила, то ее душа не может желать вам зла".
"Без сомнения, – промолвил маэстро, – тетушка меня любила, по крайней мере я так думаю".
"Сильно ли вы любили своего племянника?" – спросил Хьюм у столика.
Столик вновь трижды приподнял одну из своих лап и вновь трижды постучал.
Миллелотти потерял дар речи.
Хьюм продолжал за него разговор:
"Если вы любили своего племянника так, как вы говорите, дайте ему какое-нибудь доказательство вашей любви".
Столик заскользил, словно по желобу, в сторону Миллелотти, а тот, увидев что столик пришел в движение, закричал и вскочил на ноги.
Но столик сдвинулся с места не для того, чтобы просто двигаться, а для того, чтобы поцеловать маэстро.
И потому он вдруг приподнялся над полом до уровня лица Миллелотти и кромкой своего мраморного верха, словно губами, заледеневшими в могильном холоде, коснулся губ молодого человека.
Миллелотти упал навзничь на кровать Хьюма: он был в обмороке.
Кто перенес его в другую комнату? Духи? Или Хьюм? Бесспорно одно – он очнулся в своей постели, лоб его был покрыт испариной, а волосы стояли дыбом от ужаса.
К счастью, духи ушли: еще одного такого испытания маэстро не вынес бы.
Он подумал было, что все это ему привиделось во сне, и позвал Хьюма, но Хьюм подтвердил то, что запечатлелось в памяти Миллелотти. Да, все это происходило в действительности: душа тетушки в самом деле покинула могилу и нарочно явилась из Рима, чтобы поцеловать племянника.
И вот тогда, поднявшись с постели и поинтересовавшись, вернулся ли я, он прибежал ко мне, весь бледный и еще дрожащий при воспоминании о ночной сцене.
Мы с Муане бросились к Хьюму: значит, духи вернулись; значит, Хьюм вновь обрел свою силу; значит, мы будем путешествовать в фантастическом мире, в котором Миллелотти странствовал всю ночь.
Но ничуть не бывало!
Хьюм вновь потерял свою силу: духи вернулись, но не к нему, а к маэстро, и все, что нам удалось увидеть, – это знаменитый столик, покинувший свой угол и все еще стоявший у кровати, то есть на том месте, где, поднявшись над полом, он подарил мраморный поцелуй бедному Миллелотти.
Что во всем этом было правдой? Оба казались вполне искренними: Хьюм – в своем спокойствии, Миллелотти – в своем волнении.
Нам пришлось удовольствоваться рассказом Миллелотти и подтверждающим этот рассказ зрелищем столика, а также обещанием, что если духи вернутся, то мы будем тотчас оповещены об их присутствии.
Это обещание – не Бог весть что, но, как говорится, и на том спасибо.
XLIV. ФИНЛЯНДИЯ
Скоро уже полтора месяца, как мы находимся в Санкт-Петербурге; нещадно злоупотребив царским гостеприимством графа Кушелева и увидев в городе Петра почти все, что там следует увидеть, я решил совершить поездку по Финляндии.
Однако Финляндия огромна. Ее площадь составляет две трети площади Франции, и из трехсот пятидесяти тысяч населения, разбросанного по этой территории, на квадратное льё приходится в среднем всего шестьдесят пять жителей.
Разумеется, гонимый из Санкт-Петербурга страшной русской зимой, которая всегда имеет начало и никогда не имеет конца, и опасаясь быть застигнутым ею во льдах Волги, я рассчитывал посетить лишь часть Финляндии.
Но куда отправиться: в Або, прежнюю столицу Финляндии; в Гельсингфорс – ее новую столицу; в Торнио, город, считавшийся самым близким к полюсу, пока не стало известно, что Кола, в Архангельской губернии, на три градуса севернее и находится на широте почти 69°?
Но об Або и Гельсингфорсе я знал со слов моего друга Мармье, а о Торнио кое-что слышал от знакомого англичанина, во второй раз направлявшегося туда, чтобы увидеть солнце в полночь; к тому же, хотя и обладая способностью смотреть на все окружающее иначе, чем другие, я, когда путешествую, все же предпочитаю видеть то, что никто прежде не видел, – в этом состоит еще один залог своеобразия. И потому я решил отправиться к Ладожскому озеру, посетив Шлиссельбург, Коневец, Валаам и Сердоболь.
Все знают историю Финляндии и финляндцев, или, вернее, финнов; впрочем, историю этой страны, затерянной в туманах, которые придают ей неясные очертания, можно изложить в двух словах.
Финны, по-латыни "fenni", это на самом деле сбившиеся с пути гунны. Они еще и сегодня по своему национальному типу невероятно похожи на дошедшее до нас описание Аттилы, дикого пастыря их дикого стада. Спустившись с огромных плоскогорий Северной Азии, они в начальную эпоху Римской империи заселили все земли, протянувшиеся от Вислы и Карпатских гор до Волги, но, подвергаясь, в свою очередь, давлению со стороны готов, были частью покорены ими, а частью отброшены в Северную Сарматию и Скандинавию. В конце концов, все более и более теснимые беспрерывными потоками азиатских варваров, они постепенно оказались зажаты в той части Европы, которая на юге ограничена Балтикой, на западе – Ботническим заливом, на севере – Норвегией, а на востоке – безлюдными пространствами, протянувшимися от озера Пиаро до Белого моря, и которая по их имени стала называться Финляндией.
Но когда я утверждаю, что страна получила название по их имени, я говорю прописную истину, а значит, ошибаюсь. В словах "fenni" или "финны" трудно усмотреть происхождение этого названия. Однако его легко обнаружить в слове "Finland" – имени, которое немцы первыми дали этому обширному болоту, принимаемому его обитателями – скорее по привычке, чем по убеждению, – за землю.
В самом деле, если вы взглянете на географическую карту, то Финляндия предстанет перед вами в виде огромной губки: дыры – это вода, а все остальное – это топи.
Скажем теперь о том, зачем эта губка понадобилась императорам России и какие испытания пришлось претерпеть Финляндии, территория которой столь незавидна на взгляд того, кто привык ступать по твердой земле, прежде чем эта страна стала тем, что она представляет собой в настоящее время.
В древности о Финляндии совершенно ничего не было известно. В XII, XI и X веках там обитали чудские племена, затерянные во мгле, которая только в XII веке, благодаря христианству, начинает мало-помалу рассеиваться. Триста лет спустя эта земля становится предметом раздора между шведами и русскими. По Выборгскому миру 1609 года и Столбовскому миру 1617 года она переходит к Карлу IX и Густаву Адольфу. Петр I, в соответствии с Ништадтским договором, получает обратно часть Карелии, а Елизавета, в соответствии с Абоским договором, – некоторые области Финляндии; наконец Александр, по Фридрихсгамскому мирному трактату, подписанному в 1809 году, присоединяет к России всю остальную Финляндию вместе с Восточной Ботнией.
Скажем попутно – потом, боюсь, мы забудем об этом упомянуть, – что на Торнио можно увидеть не только солнце в полночь с 23 на 24 июня, но и, причем в любое время года, обелиск, установленный в память об измерениях, которые произвел там в 1736–1737 годах наш соотечественник Мопертюи, имея целью определить форму Земли.
Кстати, этот обелиск несколько напоминает тот, который русские установили в Бородине на месте расположения Главного редута, чтобы прославить победу, одержанную там над нами.
Мы собираемся посетить это поле битвы, где остались лежать, уснув вечным сном, пятьдесят три тысячи воинов!
Прошу прощения, я чуть было не забыл еще об одном памятнике, нисколько не меньше связанном с историей, но, пожалуй, более своеобразном. Он, правда, находится не в Финляндии, а в Швеции.
В том месте, где по возвращении из финского похода высадился Густав III, оставивший о себе странную память, стокгольмские буржуа – а буржуа всюду одинаковы! – поставили его бронзовую статую. Скульптор, несомненно в предвидении того, что королю, которому посчастливилось стать героем одной из опер-балетов нашего собрата по перу Скриба, суждено умереть в бальной зале, изобразил его с согнутым коленом и приподнятой ногой, как если бы он вознамерился выполнить вторую фигуру кадрили.
Король демонстрирует своей столице только что завоеванную им корону.
Должно быть, в тот день, когда гасконец Бернадот торжественно вступил в Стокгольм как наследник Карла XIII, среди зрителей были те самые буржуа, которые содействовали установке памятника Густаву III, и теперь они кричали: "Да здравствует Карл Юхан!"
Памятник, во всяком случае, там был, но он определенно ничего не кричал. Поистине, лишь бронза не меняет своих убеждений, если, конечно, ее не отправят на переплавку.
Взгляните еще раз на карту Финляндии. Но теперь остановите взгляд не на суше, а на море, и вы увидите, что островов в нем такое же множество, как озер на суше; так что на всем протяжении от Аландских островов до Або невозможно понять: это вода среди земли или земля среди воды.
Все крестьяне этого архипелага – лодочники и рыбаки.
Сообщение между Швецией и Финляндией осуществляется и летом, и зимой через Грисслехамн и Або.
Вот на эту географическую точку я попрошу вас взглянуть особенно внимательно.
Пять месяцев в году, если только море не штормит, переправа здесь достаточно регулярная; в течение пяти зимних месяцев все тоже идет как нельзя лучше, благодаря ледовому покрову; но осенью, когда лед еще тонкий, и весной, когда он уже тает, дело осложняется.
Когда море свободно ото льда, переправу осуществляют на лодках, а когда оно замерзает – на санях.
Когда же на море начинается ледоход, приходится действовать по обстоятельствам.
В это время пользуются похожими на пирогу лодками, снабженными полозьями, на которых скользят по льдинам один, два или три километра, пока не доходят до чистой воды: после того, как это расстояние преодолено с помощью багров, сани-пирога вновь превращается в пирогу-сани и дальше идет под парусом или на веслах. Порой на полпути поднимается ветер, и тогда лодку несет среди льдин, которые каждую минуту могут раздавить ее. Порой с неба спускается густой туман, он расстилается на волнах, окутывает лодку и, скрывая опасности, окружает ее ими со всех сторон. Любые другие моряки, кроме финнов, чувствующих себя на воде, как тюлени, неминуемо погибли бы, заблудившись в таком тумане. Но отважные финские лодочники ориентируются в море и умеют распознавать любые опасности, которые им угрожают. Каждая мелочь, самая ничтожная, имеет для финских моряков значение. То, как начинается рассвет и как наступает ночь, облако, птица, порыв ветра подсказывают кормчему, чего ему следует опасаться и на что он может надеяться. В зависимости от этого он или лавирует среди рифов, или сражается с льдинами, или возвращается к берегу. Летом письма доходят из Стокгольма в Або за три дня, зимой – как получится. О людях, севших на почтовое судно, иногда целую неделю нет вестей, и всю эту неделю их жизнь висит на волоске. Что поделаешь! Такая уж тяжелая доля выпала жителям этого края.
Этим опасным ремеслом человек едва может заработать в день даже десять копеек, то есть чуть меньше восьми су. Но предложите этим славным финнам поселиться в каком-нибудь другом месте на земле, где сияет солнце и зреют лимоны, как говорится в песне Гёте, и они откажутся: настолько родная земля удерживает нас своими нежными узами, настолько родина, какой бы жестокой мачехой она с нами ни была, остается для нас дорогой матерью!
Понятно, что подобные люди, живущие на такой земле, какую мы только что описали, и той жизнью, какую мы обрисовали, должны иметь свою мифологию и свою поэзию.
У них есть даже две поэзии: одна – примитивная, исконная, коренная, если можно так выразиться; живая и естественная, она бьет ключом из глубины скал, парит над гладью озер и носится в воздухе, проистекая из обычаев и верований.
Другая поэзия – чужая, заимствованная у тех, кто покорил эту страну, навязанная цивилизацией; это украшение, которое принесли с собой завоеватели; это колдовство, доступное лишь тем, кто образован; это классический литературный язык людей просвещенных; короче, это шведская поэзия.
В ней нет ничего своеобразного, ничего особенного, и она развивается так, как и любая другая академическая школа европейской поэзии.
Попытаемся вначале дать представление о примитивной поэзии. Более всего для этого подходит первая руна, которая для финнов значит почти то же самое, что для нас – первая глава книги Бытие.
У нас нет сомнений в том, что читатель и без всяких просьб с нашей стороны примет во внимание, какие трудности нам пришлось преодолевать, переводя эту руну, особенно когда мы скажем ему, что наш перевод выполнен с абсолютнейшей точностью.
ПЕРВАЯ РУНА
Так, слыхал я, песни пели, складывали так сказанья: по одной приходят ночи, дни по одному светают – так один родился Вяйно, так певец явился вечный.
Каве, Похьелы владыка, вековечный Вяйнямёйнен, в чреве матери ютился, тридцать лет там находился, столько же и зим, и весен.
Жизнь наскучила такая, надоела, утомила, что луны совсем не видит, солнца вовсе не встречает,
Говорит слова такие, речь такую произносит:
"Солнце, месяц, помогите, посоветуй, Семизвездье, как открыть мне эти двери, незнакомые ворота, как из гнездышка мне выйти, из моей избушки тесной, выпусти смотреть на месяц, солнцем в небе любоваться, Семизвездьем восхищаться, наблюдать на небе звезды.
Коль луна не отпустила, солнце не освободило, – сам он распахнул калитку цепким пальцем безымянным, красные толкнул ворота крепким пальцем левой ножки; на локтях скользнул к порожку, из сеней – на четвереньках, встал на твердь двумя ногами. Встал, чтоб солнцем восхищаться, чтоб луною любоваться, Семизвездьем восторгаться, восхищаться белым светом.
Ночью Вяйно в мир явился, днем уже возился в кузне, целый день ковал проворно, молотом стучал упорно, сделал из соломы лошадь, круп – из стебельков гороха.
Вот поглаживает спину, хлопает по гладкой шкуре: «Славно на лошадке этой возлежать на шкуре лисьей!»
Сел на лошадь Вяйнямёйнен, обхватил бока ногами, потрусил, поехал шумно, отмеряя путь неспешно на соломенной лошадке, на гороховом пегасе.
Ехал Вяйнолы полями, пажитями Калевалы.
Конь бежал, вела дорога, дом все дальше, путь короче.
На морской простор приехал, на открытое пространство.
Не увлажнены копыта, не намочен конский волос.
Лаппалайнен кривоглазый злобу давнюю лелеял, гнев вынашивал давнишний на седого старца Вяйно.
Огненный он лук готовил, выгиб мастерил красивый, выгиб сделал из железа, верх его отлил из меди, золотом весь лук отделал, серебром облагородил.
Вот уже дуга готова, вот сработан лук прекрасный, сделан самострел красивый, выгиб стоящий, отменный, конь красуется на ложе, на прикладе – жеребенок, возлежит на сгибе дева, у курка зайчишка скачет.
Целый ворох стрел наделал, кучу настрогал трехперых. Только стержень дострогает, парни стрелку оперяют перьями касаток малых, воробьиными летками.
Чем же стрелы закаляют, Закаляют, укрепляют?
Черным ядом змей ползучих, едкою слюной гадюки.
Нить для лука взял откуда, тетиву для самострела?
Нить для лука взял оттуда, тетиву для самострела: мерин Хийси дал свой волос, жеребенок Лемпо – шерстку,
Оперил летками стрелы, быстро стержни приготовил; вот идет он, вот шагает, пробирается, крадется, наготове лук под мышкой, за спиной колчан набитый, к огненному водопаду, к завертям реки священной, ждал под вечер, ждал под утро, ждал однажды даже в полдень, не появится ли Вяйно, не придет ли муж с низовья.
Вот однажды днем прекрасным, как-то утром спозаранок, к северу он взгляд свой бросил, посмотрел затем под солнце, Вяйно старого увидел на морском просторе синем.
Лук свой огненный хватает, самострел свой самый лучший.
Лук каленый напрягает, тянет он струну зацепом, тетиву к курку подводит, заступив ногою стремя.
Из колчана стержень вынул, перышко – из киси лисьей, взял стрелу из самых быстрых, выбрал самый лучший стержень.
Тетиву напряг на луке, повернул дугу руками в сторону водоворота, огненного водопада Вяйнямёйнену на гибель, на смерть мужу Сувантолы.
Запрещали мать с женою, каве две не разрешали, девы три не позволяли убивать стрелою Вяйно:
"Не стреляй ты в старца Вяйно!
Он ведь мне родной племянник!"
Выстрелил, не внял запрету, сам сказал слова такие:
«Коль рука нацелит выше, пусть стрела летит пониже, коль рука нацелит ниже, пусть стрела летит повыше».
Первую стрелу отправил, выше чума полетела, в небеса над головою, чуть не раскололось небо, радуга не разломалась.
Запустил стрелу вторую, ниже чума полетела, в землю-мать стрела вонзилась, чуть весь мир не рухнул в Ману, холм песчаный чуть не треснул.
Третью он стрелу отправил, угодил стрелою третьей лосю синему в лопатку, он сразил под Вяйно лося, глубоко в плечо вонзилась через левую подмышку.
Тут уж старый Вяйнямёйнен в воду бухнулся руками, пальцами уткнулся в волны, рухнул в пенистую бездну со спины лошадки синей, с крупа из стеблей гороха,
Лаппалайнен кривоглазый сам сказал слова такие:
«Вот теперь-то, старый Вяйно, ты ходить уже не сможешь никогда на этом свете никогда в подлунном мире Вяйнолы своей полями, пажитями Калевалы!»
Вековечный Вяйнямёйнен шесть годов по морю плавал, семь печальных лет качался, колыхался целых восемь на просторах ясных моря, на морском открытом плесе, впереди одни лишь волны, сзади небо голубое.
Муж плывет, считает гребни, пересчитывает волны; голову лишь чуть поднимет, острова встают в том месте; чуть протягивает руку, тотчас мысы возникают; дна касается ногою, там уж есть для рыбы ямы; там, где мысы ближе к мысам, там уже готовы тони; где случится остановка, вырастают луды в море, рифы грозные родятся, там суда морские гибнут, погибает люд торговый.
Тут летит орлица Турьи, птица из далекой Лаппи, все летает, все кружится, на восток летит, на запад,
движется на юг, на север, ищет на просторах Похьи, ищет землю для гнездовья, смотрит место для жилища.
Тут уж старый Вяйнямёйнен поднял из воды колено бугорочком травянистым, кочкой небольшой дернистой.
Тут орлица Турьялайнен для гнезда нашла местечко, увидала в море кочку, на волне бугор синевший, полетала, покружилась, на колено опустилась, из травы свила жилище, смастерила из верхушек.
Шесть снесла яиц орлица, шесть из золота яичек, а седьмое – из железа.
Стала греть их, стала парить, нагревать колено Вяйно.
Тут уж старый Вяйнямёйнен чувствует: горит колено, жилы все горят от жара.
Шевельнул коленом Вяйно, тяжело ногою двинул, яйца покатились в воду, стукнулись о рифы в море, раздробились, раскрошились, улетела ввысь орлица.
Тут уж старый Вяйнямёйнен говорит слова такие:
"Что в яйце являлось низом, матерью-землей пусть будет!
Что в яйце являлось верхом, станет верхним сводом неба!
Что белком в яйце являлось, пусть сияет в небе солнцем!
Что желтком в яйце являлось, пусть луной сверкает в небе!
Крошки прочие яичка звездами пусть будут в небе!"[5]
Эта руна, темная по смыслу и величественная, как вообще вся примитивная поэзия, является лишь вступлением к огромной эпической поэме, состоящей из тридцати двух рун, герой которых – старый, а вернее, вековечный Вяйнямёйнен. Из текста видно, что слово "вековечный" – лишь уважительный эпитет, ведь поэт называет так героя даже не в день его появления на свет, а когда он еще находится во чреве матери.
Поэма, автор или авторы которой неизвестны и которая вполне могла быть создана целым рядом сказителей, начинается, как мы видели, с картины сотворения мира – хотя и возникает вопрос, мог ли кривоглазый Лапполайнен существовать до того, как мир был сотворен, – а кончается рождением младенца и крещением его: языческое повествование имеет христианское завершение.
Те, кто желает прочесть эту поэму целиком в прекрасном и добротном переводе, пусть обратятся к "Калевале" г-на Леузона-Ледюка. Те же, кто готов удовольствоваться просто разбором текста, найдут его в книге "Россия, Финляндия и Польша" моего доброго друга Мармье.
Поскольку полный перевод произведения завел бы нас слишком далеко, последуем примеру Мармье и ограничимся разбором последней руны, несущей на себе отсвет наших священных книг.
Мария – это то же имя, что и у матери Христа, – Мария, прелестное невинное дитя, выросла в высоком жилище: недосказанность, присущая финским сказаниям, позволяет поэтам никогда ничего не уточнять.
Мария – гордость всего, что ее окружает. Дверной порог гордится тем, что его овевает подол ее платья. Дверные косяки дрожат от удовольствия всякий раз, когда их касаются развевающиеся локоны ее волос, а ревнивые камни мостовой жмутся друг к другу, чтобы на них ступили ее изящные башмачки.
И вот прелестное и целомудренное дитя идет доить своих коров; каждой достаются ее ласки, и она прилежно берет молоко у всех коров, кроме одной – стельной.
Подоив коров, прелестное дитя, всегда с любовью пестовавшее цветок непорочности, собирается в церковь, и в ее сани запрягают молодого ярого жеребца пурпурной масти.
Но Мария не хочет садиться в сани, которые повезет ярый жеребец.
Тогда приводят кобылицу бурой масти, кобылицу, уже успевшую ожеребиться.
Но Мария не хочет садиться в сани, которые повезет кобылица, уже успевшая ожеребиться.
В конце концов, приводят молодую непокрытую кобылицу.
И Мария садится в сани, которые повезет непокрытая кобылица.
В этой руне, как уже можно было заметить и как будет видно из дальнейшего, наблюдается странное смешение языческих и христианских представлений; вероятно, время ее создания следует отнести к концу XII – началу XIII века, то есть к тому периоду, когда христианство восторжествовало в Финляндии.
Однако вернемся к нашему разбору руны.
Прелестное дитя, всегда с любовью пестовавшее цветок непорочности, послали пасти стадо.
Пасти стадо нелегко, особенно молодой девушке: в траве прячутся змеи, в дерне скрываются ящерицы.
Но на этот раз ни одна змея не свернулась в траве, ни одна ящерица не притаилась в дерне.
На пригорке, на зеленой веточке качалась маленькая ягодка, маленькая красная ягодка.
Она заговаривает с Марией.
– Подойди ко мне, о дева! Подойди, сорви меня, – говорит она ей, – сорви меня, девушка с оловянной брошкой; сорви, пока червь не изгрыз меня, пока черная змея не одарила меня своей лаской.
Мария, прелестное дитя, приблизилась, собираясь сорвать окликнувшую ее маленькую красную ягодку, но, тщетно поднимаясь на цыпочки, никак не могла дотянуться до нее рукой.
Тогда она отламывает веточку… Нет, что я говорю: она выдергивает из земли кол – Мария ведь неспособна причинить боль деревцу, сломать цветок, помять травинку – и сбивает красную ягодку, а та скатывается вниз.
Увидев на земле красную ягодку, Мария обращается к ней:
– Ягодка, ягодка, взбирайся на бахрому моего платья.
И ягодка взбирается на бахрому ее платья.
Мария продолжает:
– Ягодка, ягодка, взбирайся ко мне на пояс.
И ягодка взбирается к ней на пояс.
– Ягодка, взбирайся ко мне на грудь.
И ягодка взбирается к ней на грудь.
– Ягодка, взбирайся к моим губам.
И ягодка взбирается к ее губам, с губ перебегает на язык, затем – в горло, а из горла спускается прямо в ее лоно.
Так Мария, прелестное дитя, зачала от маленькой ягодки, и за девять месяцев и еще половину десятого она познала боль и тревогу, какие сопутствуют беременности.
Когда пошел десятый месяц, Марьятта – в руне она называется то Марьяттой, то Марией, – и вот, повторяю, когда пошел десятый месяц, Марьятта почувствовала боль, предвещающую роды и сопровождающую их; и она стала думать, куда ей пойти и где приготовить баню.
Позвала она свою маленькую служанку.
– Пильтти, – сказала она ей, – беги в Сариолу и попроси там приготовить для меня баню, которая утишит мои боли и поможет мне при родах.
Маленькая служанка Пильтти бежит в Сариолу.
Она приходит в дом семейства Руотуксен.
(По мнению г-на Леузона-Ледюка, Руотус не кто иной, как Ирод.)
Руотус, облаченный в атласную одежду, ест и пьет, сидя во главе стола. Рядом с ним – его жена, исполненная спеси.
(Здесь намек на Иродиаду, только у нас Ироди-ада – дочь, а не жена Ирода.)
Малышка Пильтти говорит, обращаясь к ним:
– Я пришла в Сариолу попросить вас приготовить баню, которая облегчит боли моей хозяйки и поможет ей при родах.
И тогда жена Руотуса спрашивает:
– Кто это просит приготовить баню? Кто это нуждается в нашей помощи?
– Это моя хозяйка Мария, – отвечает малышка Пильтти.
Зная, что Мария не замужем, жена Руотуса говорит в свой черед:
– Наша баня занята, но на высокой вершине горы Кютё, в сосновом бору, стоит дом, где рожают блудницы и где на плотах ветра появляются на свет их дети.
Господин Леузон-Ледюк довольно невнятно истолковывает выражение "плоты ветра": по мнению переводчика, жена Руотуса называет так гладкие верхушки сосен, которые ветер сталкивает вместе, как плот.
Пильтти, пристыженная, возвращается к бедной Марь-ятте и говорит ей:
– Нет бани, нет парилки в Сариоле.
И она пересказывает ей свой разговор с Руотусом и его женой.
Мария опускает голову и говорит:
– Стало быть, мне придется отправиться туда, словно поденщице, словно наемной работнице!
И она устремляется к дому, построенному посреди плотов ветра.
Там, войдя в конюшню и приблизившись к непокрытой кобылице, которая везла ее в церковь, она говорит:
– Добрая моя лошадка, вдохни в мое лоно свое дыхание, ибо я страдаю. Вместо бани, в которой мне отказывают, одари меня своим теплым паром, который облегчит мои муки и поможет мне при родах.
Добрая лошадь начинает дышать в лоно девы, и теплый пар, выходящий из пасти животного, становится для Марии живительной баней, благостной волной, нежно омывающей ее тело.
Тотчас же Мария ощущает благодатное тепло, проникающее внутрь ее лона, и производит на свет младенца, которого она укладывает в ясли, на сухое сено, заготовленное летом.
Затем она кладет ребенка себе на колени и дает ему грудь.
Прелестное дитя растет, но происхождение его остается неизвестным.
Супруг его матери дал ему имя Ил мори, что значит "Царь небесный". Мать же дала ему имя "Желанное дитя".
Как видите, все это пока напоминает одно из тех апокрифичных евангелий, столь наивных по своему содержанию, какие были отвергнуты Церковью и, изгнанные из религии, нашли прибежище в мифологии; тут есть ясли, есть сено, а вместо быка и осла появляется непокрытая кобылица. Можно подумать, что речь идет о Христе, но дальше мы узнаем из руны, что Христос к этому времени уже родился.
И вот начинают искать того, кто ввел бы ребенка в царство Всевышнего; короче, искать того, кто окрестил бы его. Находят священника и крестного отца.
– Но кто явится теперь, чтобы предсказать судьбу этого бедного ребенка? – спрашивает священник.
К ним приближается Вяйнямёйнен, непременно появляющийся в каждой руне, и говорит:
– Пусть ребенка отнесут на болото, пусть ему переломают руки и ноги, пусть ему молотом размозжат голову.
Тут сын Марии, хотя ему всего две недели, вступает в разговор:
– Старец из дальних краев, рунопевец из Карьялы, приговор, произнесенный тобой, неразумен, и ты неверно толкуешь закон.
Несомненно, по финским законам дети, рожденные вне брака и вследствие прелюбодеяния, приговаривались к смерти, точно так же, как у евреев они были по закону бесправны. Отстаивая свое право на жизнь, сын Марьятты одновременно защищает честь своей матери.
И священник, как повествует руна дальше, окрестил ребенка, короновал его царем леса и доверил ему стеречь остров сокровищ.
И тогда старый Вяйнямёйнен, побагровев от гнева и стыда, запел свою последнюю песню, а потом построил себе медный челн, лодку с железным дном, и уплыл на ней вдаль, в заоблачную высь, к нижнему пределу неба.
Там лодка его остановилась, и там окончился его путь, но он оставил на земле свои гусли и свои знаменитые руны, которые вечно будут услаждать Финляндию…
Двух отрывков, приведенных нами, одного – стихотворного, другого – прозаического, достаточно для того, чтобы дать представление о поэтическом даровании финнов, народа кроткого и одновременно сильного, который и среди туманов Финляндии хранит в душе отсвет своей первой родины, Азии.








