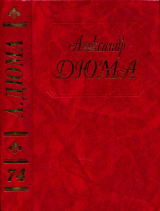
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
Два других гостя, каждый со своей стороны, написали: один г-ну Грассу в Нижний Новгород, чтобы мы наверняка были обеспечены там квартирой; другой – калмыцкому князю, в чьи степи я намеревался совершить прогулку.
Словом, задерживаться более было невозможно, и, должен сказать, помешать нашему отъезду могло только нечто невероятное.
За два дня до отъезда Дидье Деланж куда-то исчез, и в тот самый вечер, когда нам предстояло расстаться, он на моих глазах вернулся с великолепной шубой Нарышкина.
Садясь в экипаж, я обнаружил эту шубу положенной на дно дрожек и решил было, в свою очередь, побрюзжать.
– Перестань! – сказал Нарышкин. – Неужели ты воображаешь, что я отпущу тебя в мужицком тулупе на Кавказ? Да если при этом станет известно, что ты жил у меня, я буду обесчещен!
Что мне оставалось? Принять подарок. Именно это я и сделал.
В России в 1858 году эта великолепная шуба послужила мне мало, зато она пришлась очень кстати в Италии в 1859 году.
Деланжу было поручено сопровождать нас до Каля-зина. Отдавая в мое распоряжение Деланжа, Нарышкин жертвовал гораздо большим, чем шубой. Два дня, потраченных Деланжем на поездку в Москву и обратно, и день, который ему предстояло потратить на то, чтобы проводить нас в Калязин и вернуться в Елпатьево, – это был отпуск, длиннее какого Деланж не получал за все пятнадцать лет своей службы. Но я в течение шести недель так жестоко обращался с моим милым боярином, что он определенно был у меня в долгу за все предпринятые мною труды по его перевоспитанию.
Минуты прощания были грустными; путешествие к калмыкам, татарам и на Кавказ не так уж безопасно: кто знает, увидимся ли мы снова?
Мы расстались только в два часа пополуночи.
Никогда, даже на берегах Сицилии, я не видел ночи прекраснее этой: комета, тем более яркая, чем ближе вы находитесь к полюсу, сверкала, прочерчивая по небосводу перламутрово-серебристый след, а глубина неба способна была дать представление о бесконечности.
Карпушка понял, что если он не возьмет все на себя, то мы никогда не уедем. Он хлестнул двух своих лошадей кнутом, и легкий экипаж рванулся с места, увлекаемый их стремительным галопом.
На горизонте полыхал огромный пожар; несомненно, это был один из тех уничтожающих целые леса пожаров, о каких мы уже говорили.
Проделав за два часа езды шесть или семь французских льё, мы остановились, чтобы дать лошадям передохнуть, в деревне Троица-Нерль.
Троица-Нерль – это свободная деревня.
Каким образом Троица-Нерль оказалась свободной? Выкупила ли она свою свободу у правительства или у помещика? Сослужила ли она какую-нибудь службу и за это получила свободу безвозмездно? Не знаю. Ни на один из этих вопросов хозяин трактира, куда я зашел, не мог дать ответа.
Он знал, что деревня вольная – вот и все; как она такой стала, ему было неизвестно.
Но одно бесспорно: Троица-Нерль, если судить по ее внешнему виду, это куда более чистая, богатая и счастливая деревня, чем любая из крепостных деревень, какие мне довелось видеть.
В особенности же прелестен был маленький трактир с его кухней, выложенной изразцами.
Хотя я и говорю "кухня", она была всем понемногу: кухней, столовой, гостиной и спальней.
В крайнем случае, она могла бы стать и танцевальной залой, поскольку ее украшала гигантская шарманка.
Само собой разумеется, хозяин дома не упустил случая обратить наше внимание на этот шедевр. Пока мы сидели за стаканчиком его водки, он проиграл для нас целый репертуар русских мелодий.
Затем вдруг, распознав нашу национальность и, очевидно, желая преподнести нам сюрприз, он сменил валик и приступил к французскому репертуару.
Мы хотели засвидетельствовать удовольствие, полученное нами от его музыки, заплатив ему за водку вдвое больше того, что она стоила; он же, напротив, утверждал, что мы его гости и потому он ничего не возьмет с нас ни за водку, ни за музыку. Я положил свой рубль обратно в карман и заменил деньги крепким рукопожатием.
Но что меня особенно порадовало, когда я вошел в избу этого славного человека, так это то, что вместо душной, смрадной, нездоровой жары, в которую погружается путешественник, шагнув прямо со свежего воздуха в своего рода печь, где живут русские крестьяне, мы ощутили, как нас мягко обволакивает приятное тепло.
Во время моей поездки в Бородино, где, хотя был август, ночи стояли холодные, я дважды пытался войти в такие избы, и каждый раз меня отталкивали зловоние и жара.
В пять часов мы вновь пустились в путь и в семь прибыли в Калязин. Пароход приходил туда в полдень.
Похоже, что Калязин не является вольным городом, ибо я не видел ничего грязнее того постоялого двора, где нам пришлось поставить на отдых наших лошадей. Мы попытались устроиться на некоем подобии антресолей, откуда нам пришлось выдворить с дюжину ворон, но через несколько минут ужасающий зуд в ногах вынудил нас отправиться на поиски другого пристанища.
Я остановился на мгновение у входа в какой-то грязный двор, чтобы посмотреть на десяток русских девушек, которые готовили кислую капусту, напевая бесконечно унылую песню. Таких мелодий в России немало, и они прекрасно передают ту безмолвную грусть, о которой я говорил и которая сопутствует русскому в его развлечениях.
Впрочем, я торопился увидеть Волгу. В каждой стране есть своя национальная река: в Северной Америке – Миссисипи, в Южной Америке – Амазонка, в Индии – Ганг, в Китае – Желтая река, в Сибири – Амур, во Франции – Сена, в Италии – По, в Австрии – Дунай, в Германии – Рейн.
В России это Волга, то есть самая большая река Европы.
Она берет начало в Тверской губернии и, образовав семьдесят восемь излучин на своем пути в семьсот пятьдесят льё, впадает в Каспийское море.
Так что Волга – это нечто величественное.
И я торопился поклониться ее величеству Волге.
К реке вела глубокая ложбина, пересекавшая город; ясно было, что именно по ней устремляются в лоно своей госпожи и повелительницы водные потоки, образующиеся после тех проливных дождей, какие выпадают в России.
Еще издали мы увидели высокий берег, под которым текла река, но что касается реки, то ее видно не было.
И только подойдя к самому берегу, мы увидели ее, зажатую между крутыми склонами и шириной не более наших второстепенных рек – Орна или Ионны.
Весной, во время таяния снегов, она поднимается на двадцать футов и нередко выходит из берегов, однако сейчас была осень, и уровень воды в Волге упал донельзя.
Возвратившись с этой прогулки к реке несколько разочарованными, мы встретили нашего полкового хирурга. Деланж, человек слова, предупредил его о нашем приезде, и он поспешил прийти, чтобы предложить нам позавтракать у него.
Это приглашение было принято нами с тем большей легкостью, что, благодаря нашей охоте и дарованиям Кутузова, превратившего зайцев, тетеревов и куропаток в паштеты, мы были в состоянии внести свой вклад в съестные припасы, а благодаря винным запасам Нарышкина, различные образцы которых перекочевали в наши ящики, могли внести и свою долю напитков.
Такие богатства в сочетании с его собственными яствами придали нашему хирургу смелость, и он попросил у нас разрешения пригласить кое-кого из своих товарищей.
Понятно, что такое разрешение было ему дано.
Однако, по-видимому, в числе его товарищей был весь офицерский состав, поскольку через час все, кто носил эполеты с бахромой или без нее, от подпоручика до подполковника, заполнили его обширную гостиную.
Каждый принес то, что сумел раздобыть, вследствие чего по количеству вина наш пир достиг уровня свадьбы в Кане Галилейской, а по количеству съестного – свадьбы Камачо.
Но это еще не все: заранее предупрежденные, в свой черед явились музыканты, и внезапно под нашими окнами раздались громогласные звуки труб.
Празднество было полным.
Мы уже сидели за кофе, когда ровно в полдень нам пришли сообщить, что пароход прибыл и ожидает нас.
Пароходы относятся к числу тех господ, каким быстро надоедает ждать, так что мы поспешили выпить по последней рюмке и рука об руку, как добрые друзья, знакомые уже лет двадцать, вышли на улицу.
Музыканты, не оставленные нами, как нетрудно понять, без внимания и получившие немалую долю от наших щедрот, увидели, что мы направляемся к пароходу, и рассудили, что для них нет ничего лучшего, чем последовать за нами.
И они в самом деле пошли вслед за нами, наигрывая свои самые веселые мелодии.
Все население Калязина, никогда не видевшее подобных празднеств, последовало за музыкантами.
Мы подошли к пароходу, вызвав величайшее изумление у пассажиров, задававшихся вопросом, кто же эти путешественники, в честь которых можно так громко кричать "ура" и так яростно трубить в трубы.
Но их изумление усилилось, когда они увидели офицеров, поднимающихся по трапу на пароход. Музыканты, продолжая музицировать, последовали за офицерами. Ну а самый веселый из этой компании крикнул метрдотелю:
– Официант, подай все шампанское, какое есть на борту!
Капитан решил, что настало время вмешаться.
– Господа, – смиренно обратился он к офицерам, – имею честь заметить вам, что мы отчаливаем через пять минут, и, если только вы не намереваетесь ехать с нами до Углича…
– А в самом деле, – со смехом сказал я, – почему бы вам не поехать до Углича?
– Да-да! Едем в Углич! – воскликнули самые решительные из всей компании.
– Господа, – произнес подполковник, – обращаю ваше внимание на то, что без разрешения полковника вы не можете пойти на подобную шалость.
– Ну что ж, пошлем к полковнику депутацию! – закричали офицеры.
– Это было бы чудесно, но полковника нет в Каля-зине.
– Тогда, раз полковник отсутствует, дайте нам разрешение вы.
– Это выходит за пределы моих полномочий, господа.
– О командир! Командир! – умоляющим тоном воскликнули все в один голос.
– Невозможно, господа; я не могу дать вам такое разрешение.
– Командир!.. – в свою очередь произнес я.
– Однако, – продолжал командир, – я могу дезертировать, как и вы, и подвергнуться тому же наказанию, что и вы, отправившись вместе с вами проводить господина Дюма до Углича.
– Ура командиру! Да здравствует командир! В Углич! В Углич!
– И с музыкантами? – спросил я.
– А почему бы и нет? – заявили офицеры. – Эй, музыканты, едем!
– Ах, черт возьми! – воскликнул Деланж, подбрасывая в воздух шляпу. – Пусть боярин говорит что хочет, я тоже дезертирую и тоже еду до Углича.
– Сколько у тебя бутылок шампанского, метрдотель?
– Сто двадцать, господин офицер.
– Что поделаешь! Немного, конечно, но придется этим обойтись. Неси свои сто двадцать бутылок.
– В таком случае, господа, можно отчаливать? – спросил капитан.
– Когда пожелаете, друг мой.
И мы отчалили под звуки труб и хлопанье взлетающих вверх пробок шампанского. Каждый из этих очаровательных безумцев рисковал двумя неделями гауптвахты, и все ради того, чтобы провести со мной лишние пять или шесть часов.
Лишь увидев, как русские пьют шампанское, грузины – кахетинское, а флорентийцы – воду Теттуччо, можно оценить вместимость некоторых избранных желудков.
Я воспользовался первым же удобным предлогом, чтобы покинуть ряды веселящихся офицеров и перейти от активных действий к покою.
Поводом мне послужил поэт Лермонтов.
Русские, народ недавнего происхождения, не имеет еще ни национальной литературы, ни музыки, ни живописи, ни скульптуры; у них были поэты, музыканты, живописцы, скульпторы, но не в том количестве, чтобы создать школу.
К тому же в России люди с художественной натурой умирают молодыми; можно подумать, что древо искусства здесь не окрепло еще настолько, чтобы дать своим плодам возможность созреть.
Пушкин был убит на дуэли в тридцать восемь лет.
Лермонтов был убит на дуэли в двадцать семь.
Романист Гоголь умер в сорок три года.
Художник Иванов умер в пятьдесят два.
Музыкант Глинка – в пятьдесят три.
Лермонтов, о котором я уже говорил, – это ум, равный по силе и масштабу Альфреду де Мюссе, которого он очень напоминает как в написанных им стихах, так и в написанной им прозе. Он оставил два тома стихов, среди которых называют поэму "Демон", "Терек", "Спор Казбека и Шат-Эльбруса" и множество других замечательных стихотворений.
В прозе его сходство с Альфредом де Мюссе еще больше. "Печорин, или Герой нашего времени" – родной брат "Сына века", однако, по моему мнению, он лучше построен и имеет более прочную основу, а потому ему суждена более долгая жизнь.
Русские восторгаются Пушкиным и Лермонтовым, а женщины в особенности Лермонтовым так, как всякий народ, бедный поэзией, восторгается первыми своими поэтами, придавшими его языку ритмическую гибкость. Этот восторг выплескивается у них через край тем легче, что, поскольку русский язык почти неизвестен тем, кто родился за пределами земель, тянущихся от Архангельска до Кракова и от Ревеля до Дербента, другие народы не могут разделять такое чувство восхищения.
И потому самый верный способ сделать приятное русскому – это попросить его перевести одно или два стихотворения Пушкина или Лермонтова, тем более что в целом русские превосходно говорят на французском языке.
На наших добрых и милых вечерах в Москве и в Елпа-тьеве переводчиков было в избытке. Даже Нарышкин, этот боярин старого закала, вечно недовольный чужими переводами, снизошел до того, чтобы предложить свой.
Мы уже сказали, что женщины в особенности увлекаются Лермонтовым.
Мне случалось видеть женщин, которые знали наизусть все стихи поэта, даже вычеркнутые цензурой и не вошедшие в два его тома.
Доказательство тому я приведу в рассказе о своем плавании по Волге.
Многие стихотворения Лермонтова могут быть положены на музыку; ноты всех тех, что уже стали музыкальными произведениями, стоят на фортепьяно у русских женщин, которых не надо долго упрашивать, чтобы они спели вам какой-нибудь романс на слова Лермонтова.
Маленькое стихотворение в одну строфу, напоминающее мелодию Шуберта и озаглавленное "Горные вершины", для всех русских девушек то же самое, что для всех немецких – "Маргарита за прялкой" Гёте.
Это маленькое стихотворение поражает своей глубокой грустью.
Вот оно – разумеется, настолько, насколько французский перевод может дать представление о русском подлиннике:
Горные вершины Спят во тьме ночной;
Тихие долины Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Вполне очевидно, что в этом стихотворении есть неуловимое, но подлинное очарование.
Один из наших офицеров, к которому я обратился, счел за счастье оказать мне услугу, о которой я его попросил. Он перевел мне высоко ценимое всеми стихотворение Лермонтова, носящее название "Дума" и тем более примечательное, что в нем выражено суждение самого поэта о его соотечественниках.
Я попробую дать о нем представление – примерно такое же, какое фотография дает о живой жизни.
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства – Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдем без шума и следа.
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.
Мы как раз заканчивали этот перевод, как вдруг, когда пароход повернул в одну из излучин Волги, послышались возгласы наших спутников:
– Углич! Углич!
Я поднял голову и увидел на горизонте целый лес колоколен.
LIX. УГЛИЧ
Я отдался переводу Лермонтова с тем большим пылом, что невозможно вообразить что-либо более унылое, чем берега Волги от Калязина до Углича. На протяжении этих тридцати или сорока верст река течет, зажатая между двух крутых берегов, которые из-за размывающих их каждый год половодий лишены даже прелести зеленого покрова.
Вблизи Углича, расположенного на излучине Волги, правый берег немного понижается и открывает взору возвышенную равнину, на которой выстроен город.
Углич знаменит прежде всего своей легендой; здесь в 1591 году разыгралась страшная драма, которой суждено было оказать важнейшее воздействие на судьбы России.
Мы уже немало говорили об Иване IV, которого русские прозвали Грозным, другие государи, его современники, именовали Палачом, ну а мы назовем Безумным. Трусливый и суеверный, он никогда не показывался на поле брани, где были одержаны победы, прославившие его царствование, и, тем не менее, с его именем связано известное историческое величие и народное почитание.
Ведь именно в его царствование были отбиты поляки, побеждены татары и русские впервые стали догадываться о своей грядущей великой судьбе и ощущать свои зарождающиеся силы, собранные воедино в его тиранических руках и организованные его деспотизмом.
Мы уже рассказывали, как он умер. Умирая, он оставил, после семи или восьми супружеств, двух сыновей: Федора и Дмитрия.
Третьего, Ивана, он, как вы помните, убил в минуту гнева.
Федор наследовал отцу, и титул царевича перешел к малолетнему Дмитрию, хотя православная церковь признает законными лишь детей, рожденных от первых четырех браков, а Дмитрий родился от седьмого.
Но, поскольку Федор был кроткого нрава и слаб здоровьем, ему предрекали недолгую жизнь и бытовало опасение, что если престол не будет закреплен за Дмитрием, то вслед за вероятной смертью Федора начнется смута.
Самое большое удовольствие для него – мы говорим о Федоре – заключалось в том, чтобы старательно произнести все свои молитвы, а затем слушать чтение житий святых или самому звонить в колокола, созывая верующих к церковной службе.
"Это пономарь, а не царевич", – вздыхая, говорил Иван Грозный.
Для человека подобного нрава и душевного склада было невозможно управлять такой державой, как Россия, и Федор, целиком уйдя в свои молитвы, чтение и религиозные забавы, передал власть своему шурину Борису Годунову.
Фаворит выступал сначала в звании конюшего, а потом в более значительном звании правителя.
Ленивый царь времен упадка династии Рюриковичей, Федор завел себе майордома.
Тот попал в милость еще при Иване, хотя и вел свой род от татарского мурзы. При старом царе Годунов занял место в царском совете, и, странное дело, он снискал милость этого лютого зверя в человеческом облике тем, что, единственный из всех, осмелился схватить его за руку, когда тот нанес смертельный удар своему сыну, и потом поднять умирающего царевича.
Годунов воспользовался приобретенным влиянием, выдав замуж за Федора свою сестру Ирину.
Став правителем, он каждому отвел свою роль: Федору досталась ответственность, ему самому – действия, сестре – милости и благоволения.
Тем самым ответственность, то есть самое тяжелое бремя, пало на того, кто был далек от всех государственных дел.
Борис получил почести, его сестра – благодарность.
По завещанию Ивана город Углич был назначен в удел малолетнему Дмитрию.
Борис отправил мальчика в его удел и, под предлогом наблюдения за воспитанием юного царевича, послал туда на жительство – а точнее сказать, сослал туда – вдовствующую царицу Марию Федоровну и трех дядей царевича: Михаила, Григория и Андрея Нагих.
От сестры Борису было известно, что у Федора не будет детей; от лекарей ему было известно, что тот умрет молодым. И потому он действовал соответствующим образом.
В 1591 году, то есть в то самое время, когда Генрих IV осаждал и брал Париж, юному Дмитрию было десять лет и он держал в Угличе свой небольшой двор, который составляли пажи и высокие должностные лица.
Само собой разумеется, кое-кто из этих должностных лиц был шпионом на жалованье у Бориса.
Значительное денежное содержание юного царевича выплачивал секретарь канцелярии правителя, Михаил Битяговский, всецело преданный Борису Годунову.
Потребность в деньгах этого небольшого двора, а в особенности трех распутных дядей, любителей охоты и попоек, была немалой, что приводило к спорам, в которых стороны выставляли в качестве доводов: князья – свое высокое положение, а казначей – свои кассовые книги. Споры эти всегда кончались торжеством Битяговского, пользовавшегося поддержкой правителя. Битяговский мстил князьям мелкими притеснениями, которые всегда в распоряжении человека, держащего в руках ключи от денежного ящика. Дяди царевича отвечали бранью. Царица принимала сторону братьев и внушала Дмитрию ненависть к Борису.
Разговоры эти повторяли при царском дворе. Ненависть мальчика всячески преувеличивали, а слабеющее здоровье царя объясняли порчей, которую напустили на него три татарина; говорили, что один из них, а именно Михаил, держит астролога, который переписывается со своими французскими и итальянскими собратьями. На ум приходят восковые фигурки, за двадцать лет до того приведшие на эшафот Ла Моля и Коконнаса: те же самые приемы были якобы пущены в ход и в отношении Федора.
Что же касается юного Дмитрия, то это был истинный сын Ивана Палача; утверждают, что в десять лет он уже проявлял все кровавые инстинкты умершего тирана. Более всего он наслаждался видом избиваемых животных. Он истязал их своими собственными руками, причем с такой изощренной жестокостью, что мягкое сердце Бориса обливалось кровью. Кроме того, и это было самое большое преступление, вменявшееся в вину царевичу, однажды зимой, когда он играл со своими молодыми дворянами, дети слепили несколько снеговиков и всем им дали имена фаворитов Бориса. Самый большой из снеговиков получил имя правителя. Потом они побили их камнями, выдернутыми из обвалившейся стены, а юный Дмитрий, вооружившись деревянной саблей, сбил голову снеговика, носившего имя Бориса, и сказал при этом: "Вот так я поступлю, когда стану взрослым".
А теперь обратимся к безусловным историческим фактам.
Пятнадцатого мая 1591 года, около трех часов пополудни, юный Дмитрий, с которым только что рассталась мать, играл с четырьмя детьми, мальчиками-пажами, в дворцовом дворе – обширном огороженном пространстве, границы которого еще различимы в наши дни; двор этот заключал в себе несколько отдельных строений, и некоторые из них еще существуют. При царевиче были его нянька Василиса Волохова, кормилица и прислужница. В руках у него был нож, и он забавлялся тем, что метал его в землю, целясь в орехи.
Внезапно, не услышав ни единого вскрика, кормилица увидела, что ребенок лежит на земле и корчится в собственной крови.
Она подбежала к нему и увидела, что у него перерезано горло и рассечена артерия. Он умер, не успев произнести ни слова.
На крики кормилицы прибежала царица Мария Федоровна; увидев сына мертвым, она потеряла голову, схватила первое попавшееся полено и принялась изо всех сил бить им няньку, обвиняя ее в пособничестве убийцам.
Затем, обезумев от горя, она позвала братьев, показала им на труп ребенка и возложила всю ответственность за преступление на Битяговского.
Один из трех братьев, Михаил Нагой, был, как всегда, пьян. Он приказал звонить в колокол дворцовой церкви. При первых звуках набата народ сбежался, думая, что начался пожар. Царица показала толпе мертвого мальчика, избитую, лежавшую без сознания няньку и, увидев появившегося Битяговского, шедшего с сыном и своими дворянами, закричала: "Вот они, убийцы!"
Битяговский пытался защищаться, говорил, что мальчик сам себя убил, упав на свой нож или наткнувшись на него в припадке эпилепсии, которой он был подвержен, но на все его попытки отрицать свою вину мать отвечала только воплем проклятия, горя и ненависти: "Вот он, убийца!"
Битяговский понял, что всякие оправдания бесполезны и что он заранее осужден: двадцать рук уже поднялись, чтобы поразить его. Он сумел укрыться в одном из близлежащих домов, забаррикадировал дверь и какое-то время оборонялся, но потом дверь высадили и его убили ударами ножа, вилами и палками.
Тут же убили и его сына.
Всеобщее неистовство достигло такой степени, что, когда какой-то холоп няньки попытался надеть на голову своей хозяйке шапку, которую один из Нагих сорвал с нее в знак крайнего оскорбления, он был в тот же миг убит и растерзан.
Сын няньки был зарезан на глазах у матери, начавшей приходить в сознание.
Василису и дочерей Битяговского укрыли священники Спасской церкви.
Слух об этой бойне дошел до Москвы; царь Федор объявил, что он намерен лично отправиться в Углич, чтобы расследовать обстоятельства происшествия.
Но в тот момент, когда он выезжал из Москвы, Борис Годунов велел поджечь один из кварталов города. Крик "Пожар! Москва горит!" донесся до ушей царя; Федор оборачивается, видит пылающую столицу и какое-то мгновение колеблется; однако, поскольку его личное присутствие может спасти Москву, но не спасет брата, ибо тот уже умер, он возвращается.
Впрочем, Борис взялся сам провести расследование и наказать виновных.
Протокол расследования существует, и подлинник хранится в государственном архиве в Москве; однако все историки заявляют, что они не могут доверять документу, составленному под давлением столь могущественного министра, каким был Борис Годунов.
Из этого протокола следует, что юный Дмитрий сам себя убил ножом, который он держал в руке, и обвинения, выдвинутые царицей и ее братьями против Битяговского и его детей, – следствие безумия или ненависти.
Приговор был вынесен с соблюдением всех формальностей.
Вдовствующая царица была осуждена принять постриг под именем Марфы и отправлена в монастырь святого Николая возле Череповца. Два ее брата – Михаил и Григорий – были сосланы за пятьсот верст от столицы; все жители Углича были объявлены бунтовщиками, две сотни их погибли под пытками, а сотню других, вырезав у них язык, бросили в темницу. Почти все население города разбежалось, подавленное страхом, и из тридцати тысяч душ там осталось лишь восемь.
Эти оставшиеся восемь тысяч были сосланы в Сибирь и основали там город Пелым.
Набатному колоколу также был вынесен приговор, как и всему, что имело отношение к этой драме, еще более страшной по своим последствиям, чем по основному своему событию. Колокол был осужден на вечное изгнание; отрубив у него одно ухо, его высекли кнутом и лишили гражданских прав, то есть ему было навсегда запрещено звонить.
В 1847 году жители Углича просили помиловать их колокол; помилование было даровано, и эту новость сообщили губернатору Сибири.
В Иркутске, где находился опальный колокол, были устроены большие торжества: епископ восстановил его в правах и ссыльные приготовились проводить его с пением и гирляндами цветов, как это было заведено, когда кто-нибудь из них получал помилование.
Но не учли одного: расходов, которые повлекло бы за собой это возвращение за восемьсот льё. Когда подсчитали и поняли, что расходы составят около десяти-двенадцати тысяч рублей, никто не пожелал их оплатить, и колокол остался в изгнании.
Однако гражданские права были ему возвращены, и именно в этот колокол теперь звонят в знак радости, когда какой-нибудь ссыльный получает помилование.
Мы изложили исторический факт в том виде, в каком он вырисовывается по протоколам Бориса Годунова.
А теперь – легенда, основывающаяся на аксиоме: "Ищи того, кому преступление выгодно, и ты найдешь виновного".
Но лишь один человек был заинтересован в смерти юного Дмитрия – Борис. А потому обвинили Бориса.
И вот какие толки против него поднялись в народе.
Царица уже давно разгадала цареубийственные намерения Бориса и бдительно охраняла сына. Летописец Никон определенно говорит, что было предпринято несколько попыток отравить царевича, но все они провалились.
И тогда Борис, видя, что яд не смог причинить ребенку вреда, решился действовать кинжалом.
Некоторое время он тщетно ищет убийц; но вот какой-то молодой дворянин из окружения царя Федора приводит к нему человека, готового ради денег на все.
Этот человек – Битяговский. Его сын, его племянник Качалов и он убьют царевича.
Но, как если бы троих было недостаточно для убийства десятилетнего ребенка, они втягивают в заговор сына няньки, Осипа Волохова, и дворянина по имени Третьяков.
Эта банда убийц привлекает на свою сторону няньку, и Василиса берется увести царицу.
Мальчик остается на какое-то время один на крыльце дворца. Все убийцы на своих местах.
Тогда Осип Волохов первый подходит к мальчику и, положив руку на его ожерелье, чтобы устранить всякое препятствие и открыть дорогу клинку, говорит:
"У тебя, государь, новое ожерелье?"
"Нет, старое", – отвечает юный князь.
Едва произнеся эти слова, Дмитрий почувствовал нанесенный ему удар и закричал, ибо пока он был лишь легко ранен.
На крик царевича прибежали другие убийцы и добили его.
Но при этом же крике звонарь собора, все видевший и все слышавший, проскользнул в церковь и ударил в набат.
С этого момента оба рассказа более не противоречат друг другу и становятся похожими.
Читатель волен отдать предпочтение той или другой версии, если только он не пожелает принять третью, которую мы предъявим ему в связи с Лжедмитрием.
Но, во всяком случае, народная молва единодушно обвиняла Бориса.
Через некоторое время после смерти юного Дмитрия царица Ирина, вопреки всем ожиданиям, забеременела. Для России это было великой радостью. Но Ирина разрешилась девочкой.
В то время в России еще не существовало закона, позволявшего женщине наследовать престол. Бориса обвинили в том, что он устранил настоящего младенца царицы, который был мальчиком, и подменил его девочкой. Девочка эта умерла; Бориса обвинили в том, что он ее отравил.
Наконец, в 1598 году Федор умер, и, хотя эту смерть предвидели давно, убийцей снова объявили Бориса.
В этом роке, преследовавшем последних потомков династии Рюриковичей, и в этом восхождении Бориса на престол есть что-то от ужасной легенды о Макбете.








