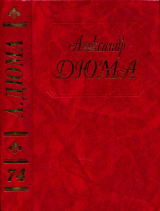
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
От главных ворот мы, я и князь, прошли бок о бок, предшествуемые своего рода мажордомом, которому недоставало только белого жезла, чтобы вполне походить на Полония.
Наконец мы оказались перед закрытой дверью: мажордом постучал в нее, дверь открылась изнутри, но мне не было видно тех, кто ее открывал.
Мы оказались перед лицом княгини и ее придворных дам.
Княгиня восседала на чем-то вроде трона; придворные дамы – шесть справа, шесть слева – сидели на корточках возле нее.
Все они были недвижны, как статуи в пагоде.
Одеяние княгини было одновременно великолепно и причудливо.
Оно состояло из платья персидской золотой парчи, прикрытого шелковой туникой, которая ниспадала до колен и была полностью открыта спереди, что позволяло видеть корсаж платья, весь расшитый жемчугом и бриллиантами. Шея княгини была закрыта батистовым воротником, по покрою похожим на мужской и скрепленным спереди двумя крупными жемчужинами; голову ее покрывала четырехугольной формы шапка, верхняя часть которой была увенчана страусовыми перьями, окрашенными в красный цвет, а нижняя вырезана так, чтобы открывать лоб; с одной стороны этот головной убор доходил до основания шеи, а с другой был приподнят до уровня уха, что придавало княгине несколько вызывающий и чрезвычайно кокетливый вид.
Поспешим добавить, что княгине было едва ли двадцать лет, что ее узкие глаза восхитительно соответствовали лицу, украшая его, что под ее носиком, который можно было упрекнуть разве лишь в том, что он был недостаточно выпуклым, ярко алели губы, приоткрывая ряд жемчужных зубов, своей белизной способных посрамить жемчуг на ее корсаже.
Признаться, я нашел ее красивой настолько, насколько, на наш взгляд, может быть красива калмыцкая княгиня, но, возможно, как раз потому, что такая красота приближается к нашему представлению о прекрасном, ее ценят в Калмыкии меньше, чем если бы, напротив, она в большей степени приближалась к национальному типу.
Впрочем, я в такое ничуть не верю, принимая во внимание, что князь казался чрезвычайно влюбленным в свою жену.
Рядом с княгиней стоял одетый по-калмыцки маленький мальчик лет пяти-шести, сын князя Тюменя от первого брака.
Я приблизился к княгине, намереваясь просто-напросто ее поприветствовать, но в это мгновение статуя, прежде недвижная, ожила: она сняла маленькую митенку из белого кружева и дала мне поцеловать свою руку.
Без слов ясно, что такая неожиданная честь наполнила мое сердце радостью.
Не зная, требует ли этого этикет, я опустился на одно колено и почтительно прикоснулся губами к ручке, немного смуглой, но восхитительной формы, весьма сожалея о том, что приветственный церемониал для мужчин и женщин не один и тот же. Мне безумно хотелось пожелать княгине Тюмень всяческого благополучия, потершись своим носом о ее носик.
Двенадцать придворных дам не шевельнулись и удовольствовались лишь тем, что скосили глаза: шесть стоявших слева – вправо, шесть стоявших справа – влево, чтобы не упустить меня из виду.
В это мгновение вошли мои спутницы.
Увидев четырех дам, княгиня поднялась, и двенадцать придворных дам вскочили на ноги, словно от толчка пружины.
Княгиня нежно обнялась с сестрой и на калмыцком языке обратилась к моим спутницам с приветствием, которое князь перевел им на русский язык, а г-н Струве перевел мне на французский.
Приветствие было составлено примерно в таких выражениях:
"На небе есть семь звезд, которые движутся вместе и блещут во мраке, но вы втроем столь же блистательны, как семь ваших соперниц на небосводе".
Не знаю, что ответили на это мои спутницы, но сомневаюсь, что они нашли метафору, равную той, которой их встретили.
Закончив приветствие, княгиня поставила сестру рядом с собой, со стороны, противоположной той, где стоял ребенок, знаком пригласила трех дам сесть на диван, а сама снова села на свой трон.
Двенадцать придворных дам одним движением и безукоризненно слаженно снова опустились на корточки.
Князь остался стоять перед женой и обратил к ней краткую речь с просьбой помочь ему всеми силами в его стараниях, которые он собирался предпринять, чтобы достойно принять благородных гостей, посланных ему далай-ламой.
Княгиня, приветственно кивнув нам, ответила, что она сделает все возможное, чтобы способствовать намерениям ее супруга проявить гостеприимство, и ждет лишь его приказаний, чтобы повиноваться им.
Тогда князь повернулся в нашу сторону и по-русски спросил нас, угодно ли нам будет послушать молебен, который он заказал своему первосвященнику, дав ему ясное распоряжение просить для нас у далай-ламы всяческого счастья.
Мы ответили, что это доставит нам огромное удовольствие.
Тогда князь, несомненно, чтобы успокоить нас, заявил, что молебен продлится недолго и что сразу после него мы будем завтракать.
При этих словах княгиня поднялась и направилась к двери.
Двенадцать придворных дам, которые были одеты почти так же, как их госпожа, и все носили похожие головные уборы, казавшиеся форменными, выпрямились, как в первый раз, и, слепо подражая княгине, последовали за ней, шагая походкой, какой вышагивали бы двенадцать придворных дам, изготовленных Вокансо-ном.
Две роскошные коляски и десятка два лошадей, оседланных на калмыцкий лад – то есть с седлами, приподнятыми на целый фут над хребтом лошади, – ожидали нас у ворот дворца, хотя расстояние от него до пагоды составляло не более четырехсот шагов.
Князь спросил меня, как я предпочитаю ехать: в карете вместе с княгиней или верхом вместе с ним.
Я ответил ему, что честь находиться подле княгини слишком высока, чтобы от нее отказаться, коль скоро она предоставлена.
Княгиня посадила рядом с собой г-жу Давыдову, мне и г-ну Струве предложила сесть впереди, а своей сестре поручила быть хозяйкой второй коляски и разместить в ней двух других дам и Муане.
Князь и его телохранители сели на коней.
Оставались двенадцать придворных дам, которые по-прежнему стояли в одеревенелых позах, словно манекены в витрине.
Но по одному лишь слову княгини, которая, вероятно, позволила им распрощаться с этой чопорностью, они издали ликующий вопль, подоткнули между ног свои парчовые юбки, пропустив передний подол назад и задний – вперед, схватили под уздцы лошадей и вскочили, не пользуясь стременами, верхом в седло, а затем, не заботясь о том, что их ноги в грубых башмаках обнажились до колен, пустились в неистовый галоп, испуская дикие крики, служившие, по-видимому, выражением бурной радости.
Два моих спутника, Калино и Курно, уносимые своими лошадьми, которые были решительно настроены следовать за лошадьми придворных дам, внезапно остановились: один в тридцати шагах от дворца, другой в пятидесяти, – словно вехи, воткнутые в землю и отмечающие пройденный путь.
Я пребывал в полном изумлении: наконец-то мне удалось встретить нечто неожиданное, другими словами то, к чему стремится всякий путешественник!
LXIX. ПРАЗДНИК У КНЯЗЯ ТЮМЕНЯ
Двери пагоды были раскрыты настежь, но в храме царила тишина.
Однако в ту минуту, когда и князь, сойдя с коня, и княгиня, выйдя из коляски, и все остальные, выйдя из коляски или сойдя с коня, вступили на порог храма, раздался страшный, оглушительный, неслыханный шум.
Этот шум, в сравнении с которым звук подземных адских труб из "Роберта-Дьявола" показался бы созвучиями флейт и гобоев, производили два десятка музыкантов, расположившихся лицом друг к другу в главном проходе пагоды, который вел к алтарю.
Каждый из музыкантов либо во всю силу своих легких во что-то дул, либо изо всей мочи во что-то бил.
Те, кто бил, били в тамтамы, в барабаны или в цимбалы; те, кто дул, дули в обычные трубы, в огромные морские раковины или в колоссальные трубы двенадцати футов длиной.
Стоял такой грохот, что можно было сойти с ума.
Статистика, проведенная в отношении этих удивительных виртуозов, дает следующие результаты: те, кто дует в обычные трубы, могут, в среднем, продолжать это занятие шесть лет; те, кто дует в морские раковины, способны делать это не более четырех лет; те, кто дует в двенадцатифутовые трубы, не в состоянии выдержать более двух лет.
На исходе указанных сроков все дующие начинают харкать кровью; им дают пенсию и отпаивают их кобыльим молоком.
Кое-кто из них поправляется, но это бывает редко.
Ни один из этих музыкантов не учился музыке: это замечаешь с первой минуты. Все их умение состоит в том, чтобы бить или дуть как можно сильнее; чем ужаснее шум, тем больше это нравится далай-ламе.
Во главе музыкантов, рядом с алтарем, находится первосвященник, облаченный с ног до головы в желтые одежды и стоящий на коленях на персидском ковре.
На другом конце храма, рядом со входом, облаченный в длинное красное одеяние, стоит, накинув на голову желтый капюшон и держа в руке длинный белый жезл, главный церемониймейстер.
Находясь среди звона всех этих колокольчиков, грохота цимбал, гула тамтамов, стука барабанов, завывания раковин, рева труб, можно было поклясться, что ты присутствуешь на каком-то шабаше, которым управляет сам Мефистофель.
Все это длилось с четверть часа. Через четверть часа все музыканты, которые во время игры сидели, в полном изнеможении откинулись на спину. Если бы им пришлось играть стоя, они все попадали бы навзничь.
Я умолил г-на Струве, чтобы он обратился к князю Тюменю с просьбой сжалиться над ними.
Князь, который, в сущности, был милейший человек и обрек своих подданных на такую пытку лишь из желания воздать почести гостям, тут же пощадил музыкантов.
Однако, когда грохот прекратился и нам захотелось поговорить друг с другом, выяснилось, что мы друг друга не слышим. У нас возникло впечатление, что мы оглохли.
Тем не менее гул в ушах у нас постепенно стих, и мы вновь обрели пятое чувство, казалось, навеки утраченное нами.
Затем мы подробнейшим образом осмотрели убранство пагоды. И вот что поразило меня больше, чем все эти фигуры из фарфора, меди, бронзы, серебра и золота, какими бы диковинными они ни были; вот что показалось мне более замысловатым, чем все эти знамена с изображениями змей, драконов и химер: большой цилиндр, похожий на барабан огромной шарманки, около двух футов в длину и четырех футов в диаметре, весь украшенный ритуальными фигурками, которые располагались по его окружности, как знаки зодиака на небесной сфере.
Догадываетесь, что это за цилиндр? Госпожа де Севи-нье поставила бы сто против одного, что вы не догадаетесь, а я поставлю тысячу.
Но поскольку вы не догадаетесь и при такой ставке, я скажу вам отгадку.
Это была мельница, на которой крутят молитвы!
Правда, эта драгоценная машина служит только князю.
Может случиться, что князь, по рассеянности или озабоченный важными делами, забудет помолиться. Тогда кто-нибудь другой повернет ручку, и молитва сотворена. Далай-лама ничего не теряет, а князь не утомляется, творя молитву сам.
Что вы скажете об этом изобретении? Как видите, калмыки совсем не такой дикий народ, как нас хотят уверить.
Несколько слов о духовенстве, религии и обычаях калмыков. Не беспокойтесь, я не злоупотреблю вашим вниманием, ибо в мои намерения отнюдь не входит обращать кого бы то ни было в их веру.
Калмыцкое духовенство подразделяется на четыре различных класса: первосвященники – бакши; обычные священники – гелюнги; дьяконы – гецулыи музыканты – м а н д ж и.
Все они подчиняются верховному жрецу ламаистской религии, пребывающему в Тибете.
Калмыцкое духовенство, по всей вероятности, – самое счастливое и самое ленивое из всех видов духовенства; в отношении лени оно превосходит даже русское. Оно пользуется всеми возможными привилегиями, свободно от каких-либо обязанностей и не платит никаких налогов. Народ обязан следить за тем, чтобы священники ни в чем не нуждались; они не могут быть собственниками, но это лишь средство, чтобы у них было все, ибо все, что принадлежит другим, принадлежит и им. Все священники, к какой бы категории они ни принадлежали, дают обет безбрачия, но женщины почитают их настолько, что не смеют ни в чем отказать ни б акте, ни_гелюнгу, ни_гецулу, ни даже_манджи. Священник, который хочет сказать женщине нечто наедине, ночью приходит к ее шатру и определенным образом скребется о его войлок. Подразумевается, что это какое-то животное бродит вокруг и надо его прогнать. Женщина берет палку и выходит наружу, чтобы прогнать животное, а поскольку домашние заботы полностью лежат на ней, муж позволяет жене находиться при исполнении ее трудовых обязанностей.
Так что калмыцкий ад не предусматривает кары за грех прелюбодеяния.
Когда калмычка чувствует приближение родов, она предупреждает священников; те тотчас прибегают и, стоя перед ее дверью, молят далай-ламу о благополучии ребенка, который вот-вот родится. Ну а муж берет палку – нередко ту самую, какую брала его жена, чтобы прогнать скребущееся в шатер животное, – и размахивает ею в воздухе, дабы отогнать злых духов.
Как только ребенок появляется на свет, кто-нибудь из родственников выбегает из кибитки (так называются калмыцкие шатры), и ребенку дается имя любого одушевленного или неодушевленного предмета, который первым попался на глаза этому родственнику, так что новорожденного могут назвать Камнем или Собакой, Козой или Цветком, Котелком или Верблюдом.
Браки – мы говорим о браках тех, кто занимает определенное положение в калмыцком обществе, – сопровождаются теми же приготовлениями, что и все восточные браки, то есть жених выторговывает себе жену у ее отца, стараясь заплатить за нее самую умеренную цену; обычно за жену платят наполовину деньгами, наполовину верблюдами; однако муж не покупает кого попало. Поскольку многоженство и развод у калмыков больше не в ходу, им хочется любить женщину, которую они выбирают; ну а когда есть уверенность во взаимном влечении и выкуп за жену внесен, надо еще похитить ее у отца или, по крайней мере, изобразить это похищение.
Жених совершает умыкание, возглавляя дюжину молодых людей из числа своих друзей. Семья сопротивляется ровно настолько, чтобы жених мог гордиться тем, что он завоевал жену. Усадив ее на лошадь, он пускается вместе с ней вскачь. Этим, возможно, и объясняются навыки в верховой езде, которые мы отметили у придворных дам княгини Тюмень. Калмыцкая девушка всегда должна быть готова к тому, чтобы вскочить на коня: никто ведь не знает, что может случиться.
Как только девушку похитили, воздух оглашается ликующими криками и в знак победы гремят выстрелы.
Всадники не останавливаются, пока не достигнут места, где поставлен треножник. Этому треножнику предстоит служить опорой котла для новой семьи, и, следовательно, он займет место в центре кибитки, где будет праздноваться свадьба.
Там молодые супруги спешиваются, становятся на колени на ковер и получают благословение священника; после этого они поднимаются, поворачиваются лицом к солнцу и произносят молитву, обращенную к четырем стихиям; затем с коня, на котором была привезена невеста, снимают удила и уздечку и отпускают его на волю в степь: он будет принадлежать теперь любому, кто сможет его изловить.
Свобода, предоставленная коню, имеет символический смысл: этим девушке напоминают, что она перестала быть собственностью отца и, став собственностью мужа, должна забыть дорогу к кибитке, где ей довелось родиться.
Все кончается постройкой и установкой кибитки для молодых супругов; на ее пороге женщина сбрасывает с себя покрывало, которое она не снимала до этой минуты. И тогда супруг подкидывает в воздух покрывало, которое только что сняла с себя его жена, и поскольку в этом бегстве невесту, если она очень родовита, непременно сопровождает фрейлина, а если ее положение не такое высокое – простая служанка, то любой калмык, сумевший завладеть покрывалом невесты, становится мужем этой служанки или этой фрейлины.
Похороны у калмыков тоже имеют особый характер. У них существуют, как это было у древних римлян, дни благоприятные и неблагоприятные. Если умерший скончался в удачный день, его погребают, как в христианских странах, и на его могиле водружают маленький флажок с написанной на нем эпитафией; если же, напротив, смерть совпала с неудачным днем, тело умершего оставляют на поверхности земли, покрывают войлочным ковром или циновкой и заботу о его погребении оставляют хищникам.
Наше возвращение во дворец происходило бы в том же порядке, в каком мы оттуда вышли, если бы Курно и Калино, утратив свое преждевременное доверие к калмыцким лошадям, не отпустили их на волю, словно на них только что была привезена украденная невеста, и не возвратились пешком.
Что же касается наших двенадцати придворных дам, то они и на обратном пути выказали себя столь же достойными наездницами.
По возвращении я спросил князя Тюменя, к каким семьям они принадлежат.
– Ни к каким, – ответил он.
– Как это ни к каким? – не понял я.
– Ну да, они сироты. Я пришел к мысли, что придворных дам для моей жены лучше выбирать среди сирот, которые таким образом приобретут подле нее достойное положение и обеспеченное будущее, чем брать их из богатых семей, у которых нет во мне никакой нужды.
То был не единственный ответ подобного рода, полученный мною от князя.
Когда мы вернулись во двор перед дворцом, он был заполнен народом: там собралось более трехсот калмыков.
Князь давал им всем обед в мою честь: для них зарезали коня, двух коров и двадцать баранов. Филе конины, нарубленное с луком, солью и перцем, полагалось есть сырым в качестве закуски. Князь подал нам порцию этого национального кушанья и предложил его попробовать; каждый из нас съел по кусочку величиной с орех. У меня нет намерения навязывать эту закуску нашим гурманам, но вполне очевидно, что она куда лучше, чем кое-какие блюда, которые мне довелось есть за столом у русских аристократов.
Князь, прежде чем мы сели за стол, занялся своими калмыками, наблюдая за тем, чтобы у них не было ни в чем недостатка, и, словно считая себя обязанным извиниться передо мной за эти заботы, задерживавшие нашу трапезу, сказал:
– Эти люди дают мне средства к существованию, а потому справедливо, что я доставляю им немного радости.
Как видно, князь Тюмень поистине человеколюбив.
Он очень богат, но его богатство ничуть не похоже на наше и не может быть оценено нашими мерками.
У него около одиннадцати тысяч подданных; каждый кочевник ежегодно платит ему десять франков в виде оброка, то есть денежной повинности; заплатив эту сумму, он волен работать на себя, вместо того чтобы работать на князя.
Разумеется, вознаграждение за труд подданного принадлежит ему самому.
Так что прежде всего у князя есть доход примерно в миллион сто тысяч франков в год.
Кроме того, у него есть пятьдесят тысяч лошадей и тридцать тысяч верблюдов; что же касается баранов, то им вообще никто не ведет счет: возможно, их десять или двенадцать миллионов.
Примерно шестьсот тысяч голов продается на каждой крупной ярмарке, а таких ярмарок четыре в год – Казанская, Донская, Царицынская и Дербентская.
Князь приказал зарезать для нас молодого верблюда и шестимесячного жеребенка. В представлении калмыков мясо двух этих животных – самая изысканная и самая почетная еда, какую только может вкусить человек.
Филе, отбивные котлеты и задний окорок из туш этих молодых животных составили основные блюда нашего завтрака, но, кроме того, на стол были поданы еще баранина, куры, дрофы и другая дичь, причем в совершенно дикарском изобилии.
Пока мы завтракали, триста калмыков завтракали тоже и не менее обильно, чем мы.
Во время десерта князь попросил меня встать и с бокалом в руке подойти к окну, чтобы выслушать их здравицу и провозгласить ответную.
Я откликнулся на этот призыв. Все калмыки встали, держа в одной руке деревянную чашку, а в другой наполовину обглоданную кость лошади, коровы или барана. Они трижды прокричали "ура" и выпили за мое здоровье.
Но мой бокал показался князю слишком маленьким, чтобы достойно ответить такому массовому порыву, так что мне принесли рог, оправленный в серебро, и вылили в него полную бутылку шампанского; полагая себя способным выпить за здоровье одиннадцати тысяч подданных князя тринадцатую часть того, что Бассомпьер выпил за здоровье тринадцати кантонов, я осушил мой рог залпом: этот подвиг принес мне единодушную овацию, однако не побудил меня повторить его.
Трапеза эта была поистине гомерической! Я не присутствовал на свадьбе Камачо, но ничуть не жалею об этом, побывав на празднестве князя Тюменя!
По завершении завтрака, сопровождавшегося обильным возлиянием всякого рода крепких напитков, было объявлено, что все готово для скачек.
Все поднялись; я имел честь предложить руку княгине Тюмень. Мы пересекли двор, сопровождаемые неистовыми криками "ура". В степи нас уже ждал помост, сооруженный за время нашей трапезы; я подвел княгиню к этому помосту, на котором вместе с ней расселись придворные дамы.
Помост продолжали установленные полукругом стулья, предназначавшиеся для мужчин.
Скачки на дистанции в десять верст (два с половиной льё!), начинались от левой стороны этого полукруга и кончались у его правой стороны.
За приз боролись сто лошадей, на которых сидели не только всадники, но и всадницы, ибо женщины в Калмыкии достигли такой степени равенства с мужчинами, какой тщетно добиваются француженки.
Бедняжка Олимпия де Гуж, желавшая, чтобы женщины имели право подниматься на трибуну, поскольку они могли подниматься на эшафот, была бы счастлива увидеть, что в Калмыкии царит подобное общественное равенство обоих полов.
Призами на скачках были назначены миткалевый халат и годовалый жеребенок.
Сто лошадей рванулись вперед как вихрь и вскоре скрылись за небольшим пригорком. Прошло полчаса. Потом, прежде чем появились сами лошади, послышался приближавшийся стук их копыт; затем мы увидели сначала одного всадника, потом еще шесть, а за ними и всех остальных, растянувшихся на расстоянии в четверть льё.
Возглавлял скачки паренек лет тринадцати, который все время держался впереди и достиг цели, на пятьдесят шагов опередив следовавшего за ним соперника.
Победителя звали Бука. Он подошел, чтобы получить из рук княгини миткалевый халат, который был слишком длинный для него и тянулся за ним, как платье со шлейфом, а из рук князя – годовалого жеребенка.
Не медля ни мгновения, он надел халат, в ту же минуту вскочил на жеребенка и с торжеством проследовал вдоль выстроившихся в ряд соперников, побежденных, но не завидующих его успеху.
Князь попросил нас оставаться на местах. Он намеревался показать нам, как калмыки устанавливают свои шатры и снимаются с места.
Но прежде всего примите к сведению, что в Калмыкии, в отличие от нас, не существует тех двух явлений, какие так осложняют жизнь: землевладельцев и арендной платы за землю.
Земля принадлежит всем. Каждый имеет право занять на ней любое место под солнцем, если оно не занято другим.
Там не платят ни за почву, ни за воздух, и поземельный налог так же незнаком калмыкам, как налог на двери и окна.
Перед зрителями появились четыре верблюда, которые несли на спинах кибитку, а также все необходимые в калмыцком хозяйстве вещи; животных вели отец семейства, мать и двое сыновей.
Верблюды остановились в двадцати шагах от помоста и по команде опустились на колени, так что хозяева получили возможность с легкостью снять с их спин груз.
Как только эта операция была закончена, верблюды, словно выучив свои роли в разыгрываемом перед нами спектакле, встали и принялись щипать траву.
Тем временем на глазах у нас кибитка устанавливалась и обставлялась со сказочной быстротой. Через десять минут каждый предмет обстановки уже находился на своем месте.
Когда шатер был установлен, один из сыновей подошел к нам, поприветствовал нас по-восточному и пригласил вступить под гостеприимный кров его отца.
Мы приняли приглашение. В ту минуту, когда я вошел в шатер, глава семьи накинул мне на плечи, в знак приветствия, великолепную шубу из черного каракуля.
Это был подарок, сделанный мне князем Тюменем.
Мы все расселись на коврах, скрестив ноги на турецкий манер.
Семья тотчас же предложила нам выпить калмыцкого чая.
О, тут нас поджидало нечто совсем иное!
Полностью доверившись церемониалу и помня, что калмыки соприкасались с Китаем через своих предков-монголов, я с полным доверием поднес ко рту чашку чая.
Я заявляю, что никогда ни одному христианину не приходилось испытывать тошноту от более чудовищного питья.
Мне даже подумалось, что меня отравили.
Естественно, у меня возникло желание узнать, из каких составных частей варят это отвратительное зелье.
Основой его является кусок плиточного чая, который привозят из Китая; его кипятят в котле и добавляют туда молоко, масло и соль.
Я видел, как нечто подобное делал Одри в Варьете, в "Госпоже Жибу и госпоже Поше", однако тогда я довольствовался тем, что смотрел, но никоим образом не пробовал.
Князь выпил с явным наслаждением две или три чашки калмыцкого чая, и я с огорчением увидел, что и моя очаровательная маленькая княгиня, которую мне так хотелось поэтизировать, выпила чашку, а скорее даже чашу, ничуть не поморщившись.
После чая подали водку из кобыльего молока, но на этот раз, предупрежденный заранее, я лишь чуть пригубил ее. Изобразив удовлетворение, чтобы не обидеть хозяина, я поставил чашку на землю, постаравшись опрокинуть ее при первой же возможности.
Чтобы калмык стал кочевником – а это самое заветное чаяние, к которому его подталкивает племенной инстинкт, – ему следует сделаться обладателем четырех верблюдов: эти четыре верблюда необходимы кочевнику, чтобы перевозить кибитку и многочисленную утварь, которая в ней имеется.
Впрочем, как и все пастушеские народы, калмыки живут очень скудно: молоко – их главная пища. Они почти не знают, что такое хлеб. Чай – это их главное питье, водка из кобыльего молока – самая большая у них роскошь.
Без компаса, без всякого знания астрономии они великолепно ориентируются в огромных безлюдных пространствах и, как все обитатели больших равнин, обладают чрезвычайно острым зрением: на неслыханно больших расстояниях, даже после захода солнца они различают всадника на горизонте и при этом могут сказать, едет он на лошади или на верблюде и, что уж совсем поразительно, чем он вооружен – копьем или ружьем.
По прошествии десяти минут, проведенных под гостеприимным кровом кибитки, мы поднялись, распрощались с нашим хозяином и, выйдя наружу, снова расселись: дамы – на помосте, мужчины – на стульях.
В ту же минуту семья кочевников стала сниматься с места, что заняло еще меньше времени, чем понадобилось на установку шатра. Все предметы снова заняли положенные им места на спине терпеливых и неутомимых животных, предназначенных для того, чтобы переносить груз с одного конца степи в другой.
Каждый из членов семьи легко и проворно вскарабкался на вершину каждой из движущихся пирамид и устроился там, умело сохраняя равновесие; вначале отец, который вел караван, затем мать, потом оба сына один за другим прошли перед нами, скрестив руки на груди, и, поклонившись, удалились самым быстрым аллюром, на который были способны верблюды; десять минут спустя и люди, и животные, превратившись вначале в силуэты на фоне неба, исчезли затем за какой-то складкой местности.
LXX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Едва только принимавшая нас семья кочевников скрылась из глаз, как двое всадников, каждый из которых держал на руке сокола в клобучке, выехали со двора княжеского дворца, сопровождаемые двумя колясками и двенадцатью или пятнадцатью лошадьми. Человек, которого князь поставил нести дозор, только что дал знать, что стая лебедей опустилась в излучине одного из малых рукавов Волги, которые огибают дворец князя и образуют остров окружностью в два-три льё.
Мы снова заняли места в колясках. Придворные дамы, к моей великой радости, снова вскочили на лошадей, проявив все ту же быстроту и непринужденность. Нам подробно объяснили, как, оставаясь незамеченными, по возможности близко подъехать к месту, где находились лебеди, и мы двинулись.
Степь удобна тем, что для передвижения по ней не нужны никакие дороги.
Небольшие складки местности там столь незначительны, что их можно преодолевать, сидя в коляске и едва замечая подъемы и спуски; коляска катится по толстому вересковому покрову и толчки при этом ощущаются не больше, чем если бы вы ехали по турецкому ковру.
Однако теперь это уже не была та бешеная верховая езда, как утром: всадники, сокольники и даже придворные дамы придерживали лошадей, дабы не опередить коляски и не лишить гостей удовольствия от охоты.
Все хранили молчание, чтобы не спугнуть дичь и дать соколам возможность, напав на нее неожиданно, использовать все их преимущества. Принятые меры предосторожности были настолько действенны, что великолепная стая из дюжины лебедей взлетела всего лишь в двадцати шагах от нас.
В тот же миг, сняв с соколов клобучки, сокольники подбросили птиц вверх, подстегивая их голосом так, как это делают псари, когда они спускают собак.
Через несколько секунд два крылатых хищника, казавшиеся рядом с их грузными и массивными противниками не более чем черными точками, находились уже в середине стаи, которая разлетелась, испуская крики ужаса.
Соколы словно колебались минуту, а затем каждый из них выбрал себе жертву и бросился на нее.
Два преследуемых лебедя тотчас осознали опасность и, испуская жалобные крики, попытались уйти от соколов вверх, но те, с их длинными остроконечными крыльями, веерообразными хвостами и узким телом, вскоре взлетели на десять – двенадцать метров выше лебедей и сверху камнем упали на добычу.
Тогда лебеди, казалось, попробовали искать спасения в своем весе – они сложили крылья и рухнули вниз всей тяжестью тела.
Но свободное падение было не таким быстрым, как падение, которое ускоряли усилия: на полпути к земле лебеди были настигнуты соколами, вцепившимися им в шею.
С этой минуты бедные лебеди почувствовали себя погибшими и больше не пытались ни улететь, ни защититься: один упал в степь, другой – в реку.
Тот, что упал в реку, воспользовался этим преимуществом, чтобы еще немного побороться за свою жизнь; он нырнул, стремясь избавиться от врага, но сокол, скользя по воде, ждал, пока лебедь вынырнет на поверхность, и каждый раз, когда несчастная водоплавающая птица высовывала из воды голову, изо всей силы бил ее клювом.
Наконец лебедь, растерянный, оглушенный и окровавленный, стал биться в агонии, взметая вокруг себя брызги и пытаясь ударить сокола своим костистым крылом, но сокол осторожно держался на расстоянии, пока лебедь не затих совсем.
Тогда сокол опустился на безжизненное тело, уносимое течением, и, издавая ликующие крики, оставался на этом плавучем островке до тех пор, пока двое калмыков и один сокольник не подплыли на лодке, чтобы подобрать и мертвого побежденного, и полного жизни гордого победителя.








