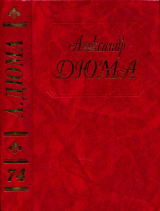
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 45 страниц)
Annotation
XXXV. ВОРЫ И ОБВОРОВАННЫЕ
XXXVI. ПРИГОВОРЕННЫЕ К КАТОРГЕ
XXXVII. ПРОГУЛКА В ПЕТЕРГОФ
XXXVIII. ЖУРНАЛИСТЫ И поэты
XXXIX. МЕНШИКОВ
XL. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО РАССКАЗЫВАТЬ
XLI. ПЕТР III
XLII. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
XLIII. РОПША
XLIV. ФИНЛЯНДИЯ
XLV. ВВЕРХ ПО НЕВЕ
XLVI. ШЛИССЕЛЬБУРГ
XLVII. КОНЕВЕЦКИЕ МОНАХИ
XLVIII. ВЫНУЖДЕННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ВАЛААМ
XLIX. ИЗ СЕРДОБОЛЯ В МАГРУ
L. МОСКВА
LI. ПОЖАР
LII. ИВАН ГРОЗНЫЙ
LIII. ПОЕЗДКА НА МОСКВА-РЕКУ
LIV. НА ПОЛЕ БИТВЫ
LV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
LVI. ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
LVII. ДОРОГА В ЕЛПАТЬЕВО
LVIII. ВНИЗ ПО ВОЛГЕ
LIX. УГЛИЧ
LX. ПРАВЫЙ БЕРЕГ И ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
LXI. НИЖНИЙ НОВГОРОД
LXII. КАЗАНЬ
LXIII. САРАТОВ
LXIV. У КИРГИЗОВ
LXV. СТЕПИ И СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА
LXVI. АСТРАХАНЬ
LXVII. АРМЯНЕ И ТАТАРЫ
LXVIII. В КАЛМЫКИИ
LXIX. ПРАЗДНИК У КНЯЗЯ ТЮМЕНЯ
LXX. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
LXXI. ДИКИЕ ЛОШАДИ
LXXII. СТЕПИ
КОММЕНТАРИИ
XXXV. Воры и обворованные
XXXVI. Приговоренные к каторге
XXXVII. Прогулка в Петергоф
XXXVIII. Журналисты и поэты
XL. Обстоятельства, о которых затруднительно рассказывать
XLI. Петр III
XLII. Екатерина Великая
XLIII. Ропша
XLIV. Финляндия
XLV. Вверх по Неве
XLVI. Шлиссельбург
XLVII. Коневецкие монахи
XLVIII. Вынужденное паломничество на Валаам
LI. Пожар
LXV. Степи и соленые озера
LXVI. Астрахань
LXVII. Армяне и татары
СОДЕРЖАНИЕ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
XXXV. ВОРЫ И ОБВОРОВАННЫЕ
Поскольку обед на Михайловской площади, на который я направлялся и который представлял для меня большой интерес, так как за столом там должны были собраться мои друзья и соотечественники, не представляет никакого интереса для вас, дорогие читатели, и поскольку, за исключением волжской стерляди за пятнадцать рублей и блюда земляники за двадцать, такое меню любой гурман мог бы заказать у Филиппа или у Вюймо, – позвольте мне не рассказывать об этом обеде, а вместо этого поговорить с вами кое о чем куда более любопытном: позвольте мне поговорить с вами о воровстве.
Но не о таком воровстве, когда у вас вытаскивают часы из жилета или кошелек из кармана, – в этом отношении русские воры ничуть не опытнее наших; и тем более не о воровстве, связанном с биржевой игрой на повышение или понижение; не о воровстве, связанном с учреждением коммандитных товариществ и акционерных обществ; не о воровстве, связанном с прокладкой железных дорог, – ничего такого в России еще не существует, и в этом вопросе, полагаю, никто, кроме американцев, не может с нами сравняться, – а о воровстве на манер спартанцев, происходящем на виду у всех, пользующемся уважением, совершаемом официально, при посредничестве правительства, с ведома императора.
Александр I заявлял, говоря о своих подданных:
– Эти молодцы украли бы у меня даже корабли, если бы знали, куда их девать!
Такое происходило и с императором Николаем; правда, у него воровали не по-крупному, а по мелочи.
В апреле 1826 года, примерно через полгода после своего восшествия на престол, император Николай, проводя военный смотр в Царском Селе, вдруг увидел четырех мужиков в тулупах и с длинными бородами, предпринимавших безуспешные, но настойчивые попытки приблизиться к нему.
Император пожелал узнать, чего хотят эти четыре человека, которых все, словно сговорившись, не подпускали к нему; он послал своего адъютанта с приказом не перекрывать им дорогу.
Адъютант исполнил поручение, и четыре мужика, наконец, приблизились к императору.
– Говорите, ребята, – обратился к ним Николай.
– Нам только того и надо, батюшка, но мы хотим говорить с тобой одним.
Император подал окружавшей его свите знак отойти в сторону.
– Ну, теперь говорите, – промолвил он.
– Батюшка, – продолжил мужик, который уже брал слово, – мы пришли сообщить тебе о неслыханном воровстве, которое творится в Кронштадте на глазах управляющего морским портом, брата начальника Главного штаба флота.
– Берегитесь, – сказал император, – вы беретесь обвинять.
– Нам известно, чем мы рискуем, но мы прежде всего твои верные подданные, а потому наш долг велит нам так поступить; впрочем, если обвинение окажется ложным, ты накажешь нас как клеветников.
– Я слушаю, – произнес император.
– Ну так вот, городской Гостиный двор заполнен казенным имуществом, похищенным с верфей, складов и арсеналов твоего флота; там есть все: веревки, паруса, снасти, медная обшивка и железные детали, якоря, канаты и даже пушки.
Император засмеялся: ему вспомнилось высказывание брата.
– Ты сомневаешься, – продолжал мужик, говоривший за всех. – Так вот, если у тебя есть желание купить что-нибудь из этого добра, я устрою так, что тебе продадут его на какую хочешь сумму: от рубля до пятисот рублей, от пятисот до десяти тысяч, от десяти тысяч до ста тысяч.
– Я не сомневаюсь, – ответил император, – но у меня возникает вопрос, где они прячут все это?
– За двойными перегородками, батюшка, – объяснил мужик.
– А почему вы не сообщили об этом правосудию? – спросил император.
– Потому что воры достаточно богаты, чтобы купить правосудие. Ты бы так ничего и не узнал, а вот нас в один прекрасный день под каким-нибудь предлогом отправили бы в Сибирь.
– Берегитесь! – сказал император. – Вся ответственность за это дело ложится на вас.
Мужик поклонился.
– Мы говорим правду и отвечаем за свои слова головой, – сказал он.
Тогда император позвал Михаила Лазарева, одного из своих адъютантов, которому он вполне доверял, и приказал ему незамедлительно отправиться в Кронштадт, взяв с собой триста солдат, и внезапно окружить Гостиный двор.
Михаил Лазарев исполнил приказание, убедился в том, что все обстояло именно так, как говорили крестьяне, опечатал лавки, поставил солдат для охраны и вернулся, чтобы доложить императору об исполнении поручения.
Император приказал покарать виновных по всей строгости законов.
Но уже вскоре, в ночь на 21 июня, в кронштадтском Гостином дворе случился пожар, и полностью сгорел не только базар, но и казенные склады с веревками, деловой древесиной, пенькой и смолой.
И правильно: с чего это вдруг императору пришла в голову мысль преследовать воров?
Он, несомненно, раскаялся в этой своей робкой попытке, ибо «Санкт-Петербургская газета» даже не упомянула о пожаре, который был виден с любой точки залива.
Желая узнать детальные подробности о разных способах воровства в России, я обратился к одному из своих друзей, который взялся устроить так, что мне будут даны самые точные сведения об исправниках и управляющих.
– И кто же мне даст эти сведения?
– Да сами эти люди.
– Эти люди сами скажут мне, каким образом они воруют?
– Конечно, если вы сумеете внушить им доверие и дадите слово нигде не называть их имен.
– А когда это будет?
– Послезавтра ко мне должен прийти исправник из большой казенной деревни, граничащей с моим имением. Мы его как следует напоим, вино развяжет ему язык, и я оставлю вас вдвоем, под тем предлогом, что у меня встреча в клубе. Тут уж ваша забота – заставить его говорить.
Через день я получил от своего друга приглашение к обеду. Когда я пришел, исправник был уже там.
Я тщательно рассчитал количество кюммеля, шато-икема и шампанского так, чтобы язык у этого человека развязался, но не стал заплетаться.
Я перестал наливать ему как раз вовремя. Мой друг оставил нас, и я начал расспрашивать своего собеседника; он два-три раза вздохнул, а затем печальным тоном произнес:
– Ах, братец, времена сильно изменились, все стало не так просто, как было прежде. Крестьяне стали хитрее, и тем, кто, к несчастью, должен иметь с ними дело, приходится трудновато.
– Расскажите мне об этом, голубчик, – сказал я, – и вы найдете во мне человека, настроенного посочувствовать вам.
– Ну так вот, прежде, многоуважаемый сударь, я служил в уездном городе, получал триста пятьдесят рублей ассигнациями (триста двадцать франков нашими деньгами), у меня была семья в пять человек, и я жил не хуже других, ибо в то время прекрасно понимали, что честный человек, который добросовестно служит своему правительству, должен пить и есть. Теперь все обстоит не так: приходится затягивать пояс. То, что происходит кругом, называют улучшениями, достопочтенный сударь, а я называю это святотатством.
– Что поделаешь, – откликнулся я, – эти чертовы философы породили либералов, либералы – республиканцев, а республиканцы – это борьба со злоупотреблениями, экономия, реформы, все эти мерзкие, дурно звучащие слова, которые я презираю так же, как вы, если не больше.
Мы сердечно пожали друг другу руки, как это делают люди, придерживающиеся одного и того же мнения.
С этой минуты мне стало понятно, что мой собеседник ничего не будет от меня утаивать.
– Я уже сказал вам, что служил в уездном городе; наша губерния была очень далеко от центра. Я называю центром Москву, потому что, как вы прекрасно понимаете, никогда не буду считать Санкт-Петербург столицей России. Нужно было только раз в год съездить в губернский город и привезти кое-какие подарки начальству, и тогда можно было весь год жить спокойно: нас не судили, не наказывали, никто не совал нос в наши счета, на нас полагались, и все шло чудесно. «Народ теперь меньше страдает», – говорят нам прогрессисты. Вот еще одно новое слово, почтеннейший сударь, которое пришлось придумать, потому что его не было в добром старом русском языке. «У чиновников теперь больше совести», – добавляют они. Ничего подобного, просто чиновники стали хитрее, вот и все, но чиновники всегда останутся чиновниками. Это правда, что мы залезаем в карман к крестьянам, но кто не грешен перед Богом и кто не виновен перед царем? Вот я спрашиваю вас: разве лучше не воровать и ничего не делать? Нет, деньги придают службе интерес. Прежде подчиненные и начальство жили как настоящие братья, и это ободряло нас. К примеру, если случалось, что кто-нибудь проигрывал в карты две или три тысячи рублей… Такое ведь может случиться с каждым, не так ли?
– Разумеется, за исключением тех, кто не играет.
– А что, по-вашему, делать в отдаленной губернии? Нужно же рассеяться, развлечься чем-нибудь! Ну так вот, если кому-нибудь из нас случалось проиграть две или три тысячи рублей, то ведь их нельзя было заплатить, получая триста пятьдесят рублей в год, не так ли?
– Очевидно.
– Ну что ж, мы шли к исправнику – я тогда был не исправником, а всего лишь простым становым – и говорили ему:
«Вот что с нами случилось, господин исправник, помогите нам, пожалуйста».
Тот сердился или делал вид, что сердится, и тогда мы ему говорили:
«Вы ведь понимаете, господин исправник, что мы просим помочь нам не даром: всякий труд заслуживает платы, и вы получите пятьсот рублей».
«Негодяи! – отвечал он. – Вы не знаете, на что потратить деньги, вы проводите жизнь в кабаках, пьете там и играете в карты, бездельники вы этакие».
«Мы не бездельники, – возражали мы, – и в доказательство этого, если вы соблаговолите дать нам приказ немедленно собрать подати, мы изыщем способ выгадать из них тысячу рублей для вас».
«И вы полагаете, – говорил исправник, – что за тысячу рублей я позволю вам обирать несчастных крестьян, бедняков, у которых нет ни гроша?»
«Ну, хорошо, господин исправник, – говорили мы, – пусть это будет полторы тысячи рублей, и не станем больше толковать об этом».
Попадались упорные, которые требовали до двух тысяч, и в конце концов приходилось уступать: за две тысячи рублей всегда можно было устроить свои дела. Исправник отдавал приказ немедленно взымать подати – немедленно, да за одно это слово можно было заплатить хоть четыре тысячи рублей.
– Как это?
– Сейчас увидите. Мы приезжали в деревню, собирали крестьян и говорили им:
«Понимаете, братцы, в чем дело? Нашему царю-батюшке нужны деньги, и он просит собрать не только недоимки, но и текущую подать; он говорит, что и так долго предоставлял вам, голубчикам, кредит, а теперь пора расплатиться».
Тут начинались жалобы и стенания, от которых смягчилось бы даже каменное сердце, но, слава Богу, нас не одурачишь! Мы входили в избы, оценивали, словно для распродажи, то жалкое имущество, какое там было, а потом уходили в кабак, говоря:
«Поторопитесь, братцы, император сердится!»
Тогда крестьяне один за другим приходили к нам просить отсрочку: одни – на две недели, другие – на три, третьи – на месяц, чтобы собрать требуемую сумму.
«Дорогие земляки, – говорили мы им, – вы что думаете, мы для себя взимаем подати? Императору нужны деньги, мы ответственны перед ним; вы же не хотите, чтобы с нами случилась беда из-за того, что мы окажем вам услугу?»
Крестьяне кланялись нам в ноги, а потом уходили, чтобы потолковать между собой. Они совещались час, иногда два часа, и вечером являлся староста. Он приносил нам по десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять копеек с каждого крестьянина. Деревня в пятьсот тягловых дворов приносила нам в среднем сто – сто двадцать пять рублей серебром. Десять деревень приносили тысячу пятьсот, две тысячи, три тысячи. Мы отдавали исправнику причитающиеся ему две тысячи ассигнациями, и нам еще оставалось две тысячи, а то и две тысячи пятьсот рублей серебром[1]. Карточный долг оплачивался, и примерно через месяц император, которому без этого пришлось бы ждать еще год или два, в свою очередь получал деньги. Всем было выгодно – и государству, и нам. А что стоило крестьянину отдать на пятнадцать или двадцать копеек больше? Пустяки!
– Ну, а если среди крестьян есть такие, – спросил я, – которые и в самом деле не могут заплатить подать?
– Если у них добрый барин, он за них заплатит.
– А если недобрый?
– Тогда, поскольку я жил в Саратовской губернии, я продавал этих мужиков в бурлаки[2].
– Но, – настаивал я, – неужели это вымогательство… прошу прощения, этот промысел совершенно безопасен?
– О какой опасности вы говорите, почтеннейший сударь?
– Но разве те, с кого вы так вымогаете деньги, не могут пожаловаться?
– Конечно, могут.
– Ну, и что будет, если они пожалуются?
– Поскольку жаловаться им придется нам, то, как вы понимаете, мы не настолько враги себе, чтобы дать ход этому делу.
– Да, в самом деле понимаю. И вы говорите, что теперь это ремесло стало более трудным?
– Да, почтеннейший сударь; при всей своей тупости крестьянин все же кое-чему научился. Один из этих скотов вчера рассказывал мне, что птицы привыкают к виду пугал, которых он расставляет на поле, чтобы помешать им клевать зерно, и в конце концов понимают, что пугало – это не человек. Так вот, с крестьянами, в конце концов, произошло то же, что с птицами. Они договариваются между собой: половина деревни или вся деревня объявляет, что не в состоянии платить, и обращается к своему барину; иногда барин в милости при дворе, он действует через голову исправника, обращается прямо к министру и с помощью министра добивается отсрочки, в которой мы им отказывали; словом, как я вам и говорил, приходится ломать себе голову над тем, как оплатить свои скромные потребности.
– А можете ли вы, дорогой друг, рассказать мне о каких-нибудь способах, которые подсказывает вам ваша изобретательность? На мой взгляд, вы из тех молодцов, у кого в этом отношении недостатка в воображении нет!
– Это правда, на этот счет мне жаловаться не приходится, да и потом иногда случай благоприятствует.
– Ну, и как же вам помогает случай?
– Ну вот, например, однажды довелось мне найти в речке, протекающей возле деревни, где была моя канцелярия, новорожденного младенца. Что бы за этим ни стояло, несчастный случай или детоубийство, налицо был труп. Другой человек, менее дальновидный, стал бы искать виновную и требовать с нее мзду, угрожая выдать ее правосудию; не говоря уж о том, что мать чаще всего бросает ребенка в воду потому, что ей нечем его кормить, да и даже если она богата, денег с нее получишь немного.
– А как поступили вы?
– Очень просто. Поднявшись по течению реки, я отнес ребенка в верхнюю часть деревни, что дало мне право обыскивать все избы. Я точно засвидетельствовал место, где ребенок был найден, и объявил, что, дабы найти виновную, буду ходить по всем избам, от первой до последней, и осматривать груди всех женщин. Та, у которой обнаружится молоко и которая не сможет показать мне живого ребенка или доказать, что он умер естественной смертью, и будет виновной. Вы знаете, а может быть, и не знаете, какое отвращение вызывает у наших женщин подобный осмотр: в итоге каждая заплатила, лишь бы я ее не осматривал, и на этом деле мне удалось выручить тысячу рублей серебром. Затем я велел похоронить ребенка, и больше о нем не было речи… Послушайте, разве это не лучше, чем выдать бедную женщину правосудию, чтобы она умерла под ударами кнута или была отправлена на каторгу? Ведь наказание матери не вернуло бы жизнь ребенку, разве не так?
– Разумеется.
– Что ж, стало быть, то, как я действовал, было по сердцу Богу.
– У меня нет сомнений, – сказал я, – что Бог был вам признателен за это. Но с таким воображением, как ваше, вы, наверное, придумывали что-нибудь еще?
– Да, прошлой зимой, например, мне пришла в голову одна мысль.
– Какая?
– При тридцатидвухградусном морозе я собрал крестьян и сказал им:
«Братцы, вы знаете, что император пьет только шампанское, которое он выписывает из Франции. Видать, шампанское вкусно только ледяное, поэтому он требует, чтобы ему присылали лед со всех концов империи. Мы поедем колоть лед на Волгу, а потом все, у кого есть телега и лошади, повезут этот лед в Санкт-Петербург. Но, чтобы все было по справедливости, одни будут колоть лед, а другие его повезут. Только, братцы, нужно торопиться, а то не дай Бог начнется оттепель».
Как вы понимаете, никто не хотел ни колоть лед, ни везти его в Санкт-Петербург. Но я торопил, настаивал, угрожал. Однажды я собрал крестьян и сказал им:
«Друзья мои, мне пришла в голову одна мысль, которую вы все одобрите».
Воцарилось молчание, свидетельствовавшее о том, что каждый настроился меня слушать.
«Императору требуется лед, – продолжал я, – но лед – это не то, что вино, которое хорошо в одной области и никуда не годится в другой. Лед, он и есть лед, и, взят он с Волги или в другом месте, его качество от этого ничуть не меняется».
Все единодушно согласились с моими словами. Я продолжал:
«Так вот, вместо того чтобы колоть лед у нас на Волге, я велю колоть его на Ладожском озере: это ближе к
Санкт-Петербургу, лед будет доставлен скорее, и, следственно, доставка его обойдется дешевле».
«Правильно! – в один голос закричали крестьяне. – Да здравствует наш становой!»
«Сказать „Да здравствует наш становой!“, ребята, легко; но, чтобы колоть лед, мне придется взять работников; чтобы отвезти его в Санкт-Петербург, мне придется нанять телеги и ломовых извозчиков; так что все это обойдется не меньше, чем в две тысячи рублей».
Крестьяне, которые начали понимать, к чему я веду, испустили крик ужаса.
«Самое меньшее, в тысячу пятьсот, если как следует поторговаться. Даю вам три дня на размышления. Не забудьте, впереди оттепель!»
Через три дня староста принес мне тысячу пятьсот рублей.
– Ловко придумано, – сказал я.
– Время от времени, – продолжал исправник, – я тоже оказываю им услуги. Как-то раз один крестьянин из Савкина поджег свою деревню. Вам ведь известно, почтеннейший, что тут если загорится один дом, то сгорает вся деревня.
– А почему этот крестьянин поджег свою деревню?
– О! Кто знает? Бывает, что какой-нибудь мужик вообразит, будто он обижен своим помещиком, потому что тот позарился на его сестру, или велел высечь жену, или отдал сына в рекруты; и тогда, чтобы отомстить, он поджигает деревню, а сам становится бродягой. И вот, стало быть, один крестьянин поджег деревню Савкино; сгорело все, подчистую. Староста, действуя от имени крестьян, пишет помещику и спрашивает разрешения рубить деревья в его лесах. Помещик дает разрешение, но указывает для рубки лес, находящийся в восьми верстах, тогда как есть другой, у самой деревни. И что же делают мои хитрецы? Вместо того чтобы рубить нужные им сосны в лесу, указанном помещиком, они рубят их в том, который ближе к деревне… В один прекрасный день, когда дома уже были отстроены – общим числом около двухсот, – прошел слух, что помещик прознал об этом и посылает своего управляющего проверить, так ли все обстоит на самом деле. Как вы понимаете, лес изрядно поредел – на каждый из двухсот домов пошло от шестидесяти до семидесяти сосен. Речь шла о двухстах ударах розгами каждому, а для некоторых, может быть, и о Сибири. И к кому же они обращаются? Ко мне, зная, что я человек находчивый.
«Сколько у вас времени, голубчики?» – спрашиваю я.
«Месяц», – отвечают они.
«Месяц? В таком случае вы спасены».
Тут мои негодяи запрыгали от радости.
«Да, – добавил я, – но вы ведь знаете поговорку, что хорошему совету цены нет».
Мои молодцы продолжали слушать, но прыгать перестали.
«Он будет стоить вам по десять рублей серебром с каждого: это даром».
Они стали во весь голос возражать.
«Черт побери, – сказал я, – дело ваше: не хотите, так и не соглашайтесь. Однако подумайте: у вас всего месяц. Через три дня будет слишком поздно».
На следующий день они снова приходят и предлагают по пять рублей.
«Десять рублей, и ни копейки меньше».
На второй день они возвращаются и предлагают по восемь рублей.
«По десять рублей, голубчики! По десять рублей!»
На третий день они приходят, готовые отдать по десять рублей каждый.
«А вы ручаетесь, – говорят они, – что нам ничего не будет?»
«Ручаюсь, что никто даже не заметит отсутствия хотя бы одного дерева».
«А вы скажете, что нам делать, прежде чем получите от нас деньги?»
Следует вам сказать, что русские крестьяне чертовски недоверчивы. И это неудивительно: их ведь так часто обворовывают.
«Охотно, – отвечаю им я. – Итак, мы договорились: по десять рублей с избы, если я вызволю вас из беды».
«Договорились».
«Так вот, у нас сейчас ноябрь. Глубина снежного покрова – четыре фута. Санный путь установился. Пусть каждая семья срубит в дальнем лесу столько сосен, сколько у нее пошло на постройку, привезет их в ближний лес и воткнет в снег. Они, правда, упадут во время оттепели, но оттепель начнется только в мае, так что, когда управляющий приедет, он никакого обмана не заметит».
«Это хороший совет, – сказал самый старый крестьянин, – ей-Богу, хороший».
«Ну, так давайте по десять рублей с избы».
Никто не торопился доставать деньги.
«Послушайте, – промолвил тот же старик, – а может, достаточно будет по пять рублей?»
«Договорились же по десять; десять рублей и никак иначе».
«А теперь, когда мы получили ваш совет, что будет, если мы не дадим вам ничего?.. Я это просто так спрашиваю, из любопытства, вы же понимаете».
«Если вы мне ничего не дадите, мошенники, то вот что я сделаю: когда управляющий приедет, я подойду с ним к первой попавшейся сосне и скажу ему…»
«Я же пошутил, – произнес крестьянин, – вот вам десять рублей, господин становой, и покорно благодарю».
Каждый дал мне по десять рублей. Спустя три недели сосны в ближнем лесу стояли так же густо, как прежде. Управляющий приехал; ему показали сосны, стоявшие на своих местах, и вырубку в дальнем лесу. Он уехал, пребывая в убеждении, что помещику сделали ложный донос, и об этом никогда больше не было речи. Правда, год спустя меня назначили исправником, и я уехал из Саратовской губернии в Тверскую, где живу и теперь.
– А как у исправника, воображения у вас столько же, сколько его было у вас как у станового?
– О, вы слишком много хотите узнать в один день! – ответил мой собеседник, и на его лице появилась хитрая улыбка, характерная для русского чиновника. – Будучи сам исправником, я рассказал вам, что делают становые; обратитесь к становому, и пусть он расскажет вам, что делают исправники. Но все равно, – добавил он, – признайтесь, что все эти крестьяне – отъявленные разбойники: если бы мне не удалось доказать им, что я хитрее их, они украли бы у меня мои две тысячи рублей!
XXXVI. ПРИГОВОРЕННЫЕ К КАТОРГЕ
Я обещал вам рассказать не только о становом, но и об управляющем, однако позвольте мне приберечь управляющего на потом: у нас еще будет случай вернуться к нему. Не беспокойтесь, из-за этой задержки вы ничего не потеряете.
Сегодня я поведу вас в одну из санкт-петербургских тюрем; завтра партия каторжников отправляется в Сибирь, поэтому поспешим.
Подобно тому как становой рассказал нам о своих подвигах, теперь, в свою очередь, по моей просьбе заговорят заключенные и расскажут о своих преступлениях. Возможно, вы проведете параллель между мошенничествами одного и преступлениями других.
Я попросил у начальника полиции разрешения посетить тюрьму и побеседовать с несколькими приговоренными к каторге. Он не только дал мне на это позволение, но и предоставил в мое распоряжение провожатого, у которого был приказ к начальнику тюрьмы.
Я условился встретиться с этим человеком в десять часов утра в кафе, расположенном в пассаже, который выходит на Невский проспект.
Когда я прибыл туда, он уже ожидал меня.
Мы сели в дрожки и отправились в путь.
Тюрьма находится между Гороховой и Успенской улицами, так что мы добрались туда за одну минуту.
Мой провожатый представился и предъявил приказ начальника полиции. Получив в сопровождающие тюремного надзирателя, располагавшего связкой ключей, мы пошли вслед за ним по коридору. Он открыл дверь, за которой оказалась винтовая лестница; мы спустились по ней ступенек на двадцать, после этого он открыл другую дверь, и мы оказались во втором коридоре, находившемся, судя по тому как сочились сыростью его стены, ниже уровня мостовой.
Там тюремщик поинтересовался у моего спутника, кого из арестантов я предпочел бы увидеть. Мой провожатый, прекрасно говоривший по-французски и служивший мне одновременно переводчиком, перевел мне этот вопрос.
Я ответил, что никого из них не знаю и потому хотел бы предоставить выбор случаю, лишь бы этот арестант был из числа тех, кого приговорили к каторге.
Тюремщик открыл первую попавшуюся дверь.
В руках у него был фонарь, а я и мой провожатый держали в руках по свече. Поэтому небольшая камера, куда мы вошли, оказалась прекрасно освещена.
И тогда я увидел на деревянной скамье, достаточно широкой, чтобы ночью служить постелью, а днем сиденьем, маленького худого человека с блестящими глазами и длинной бородой, с обритыми на затылке и коротко остриженными на висках волосами.
В стену камеры была вделана цепь, которая заканчивалась кольцом, охватывавшим ногу узника выше щиколотки.
Когда мы вошли, он поднял голову и, обращаясь к моему провожатому, спросил:
– Разве это произойдет сегодня? Я полагал, что завтра.
– Да нет, вы и в самом деле отправляетесь завтра, – ответил мой провожатый, – но вот этот господин осматривает тюрьму, и он даст тебе две копейки на водку, если ты расскажешь ему, за что тебя приговорили к каторге.
– За это мне ничего не надо давать. Я ведь признался и готов повторить барину все, что говорил судье.
– Ну что ж, рассказывай.
– Это совсем нетрудно и не займет много времени. У меня жена и четверо детей; я только-только отдал им свой последний кусок хлеба, как вдруг в дом ко мне явился становой и сказал, что, поскольку царь-батюшка ведет большую войну, нужно заплатить подать за первую половину года. Мне полагалось уплатить рубль семьдесят пять копеек[3]. Я объяснил становому, в какое положение попала моя семья, показал ему пустую избу, жену и детей в лохмотьях и попросил у него отсрочки.
«Царь не может ждать», – ответил он.
«Но что же делать, Господи?» – взмолился я, сложив руки.
«Что делать? – повторил он. – Мне прекрасно известно, что делать. Я прикажу, чтобы тебе на голову лили каплю за каплей ледяную воду, пока ты не заплатишь».
«Вы, конечно, можете замучить меня до смерти, но какая вам от этого будет польза? Денег вы все равно не получите, а моя жена и дети помрут».
«Становитесь на колени, дети, – подала голос моя жена, – и попросите господина станового хоть немного повременить; может быть, ваш отец найдет работу и сумеет заплатить подать царю».
И дети встали на колени вместе с матерью.
Чтобы не оставлять у себя сомнений в правдивости рассказа заключенного, я прервал его и обратился к провожатому:
– Я полагал, что каждый помещик обязан дать семейному крестьянину шесть арпанов пахотной земли и два арпана лугов исполу, то есть с условием отдавать половину урожая помещику.
– Да, – ответил он, – помещик обязан дать землю тем, у кого есть долги, но бывают бедные помещики, у которых и для себя земли не хватает, так что они не могут давать ее другим, и тогда они отдают своих крестьян в работники. Вот это как раз такой случай.
Затем, обращаясь к арестанту, он добавил:
– Рассказывай дальше!
– Становой не хотел ничего слушать, – продолжал заключенный, – и схватил меня за шиворот, чтобы отвести в тюрьму.
«Ну уж нет, – сказал я, – по мне так лучше продаться в бурлаки: за меня как-никак рублей пять или шесть дадут. Я отдам вам подать, а остаток будет поделен между барином и моей семьей».
«Даю тебе неделю, чтобы заплатить рубль семьдесят пять копеек, и если через неделю я не получу денег, полагающихся царю, то посажу в тюрьму не тебя, а твою жену и твоих детей».
Мой топор лежал возле печки; я взглянул на него краем глаза: меня охватило страшное желание наброситься на станового и проломить ему голову. Я бы так и сделал… Счастье его, что он ушел. Я обнял жену и детей и, проходя по деревне, препоручал их милосердию соседей, ведь мне нужно было два дня, чтобы добраться до уездного центра и два дня, чтобы вернуться обратно, а за эти четыре дня они могли умереть с голоду. Я объявил, что иду продаваться в бурлаки, и, поскольку было вполне возможно, что мне не позволят вернуться домой, попрощался со всеми своими друзьями. Все оплакивали мою судьбу, все вместе со мной проклинали станового, но никто не предложил мне денег – рубль семьдесят пять копеек, из-за которых я должен был продаться в бурлаки. Горько плача, я отправился в путь. Я шел пешком уже два или три часа, как вдруг мне встретился мужик из нашей деревни, по имени Онисим. Он ехал на телеге. Мы не очень с ним ладили, и я молча прошел мимо него, однако он окликнул меня.
«Куда ты идешь?» – спросил он.
«В уездный центр», – ответил я.
«А что ты собираешься там делать?»
«Хочу продаться в бурлаки».
«А зачем тебе продаваться в бурлаки?»
«Потому что я должен царю рубль семьдесят пять копеек, а у меня их нет».
Мне показалось, что на губах у него промелькнула злобная улыбка, но, может быть, я и заблуждался.
«А я ведь тоже еду в уездный центр».
«А ты зачем?»
«Куплю как раз на рубль семьдесят пять копеек водки – ровно столько вмещается в этот бочонок».
И он показал мне небольшой бочонок, лежавший в телеге. Я вздохнул.








