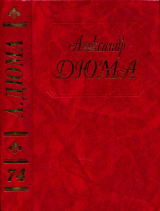
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 45 страниц)
«О чем думаешь?» – спросил он.
«Я думаю, что если бы ты согласился обойтись без водки всего лишь четыре воскресенья и одолжил мне рубль и семьдесят пять копеек, которые у тебя приготовлены на эту покупку, я уплатил бы становому и мне не пришлось бы продаваться в бурлаки, а моя жена и дети были бы спасены».
«Вот еще! А кто поручится, что ты отдашь мне деньги? Ты же нищ, как Иов».
«Я обещаю, что буду сидеть на хлебе и воде, пока не отдам тебе долг».
«Лучше уж я буду пить свою водку, это дело вернее».
Нужно вам сказать, барин, что нет у нас никакого милосердия: каждый за себя, такое у нас правило, да оно и понятно, ведь мы рабы.
«Все, что я могу сделать, – добавил Онисим, – это предложить тебе место в телеге, чтобы ты прибыл туда не таким усталым и продал бы себя подороже».
«Спасибо».
«Так садись же, дурень!»
«Нет».
«Садись!»
И тут, барин, дьявол меня попутал, в голове словно молния блеснула. В глазах потемнело, так что мне пришлось сесть на землю, иначе бы я упал.
«Тебе же ясно, – сказал Онисим, – что ты не можешь идти дальше. Садись в телегу! А когда я куплю водку, дам тебе выпить глоток, и ты подбодришься. Ну же, садись!»
Я забрался в телегу. Однако, пока я сидел на земле, рука моя упиралась о камень, и теперь он оказался у меня в руке… Мы въехали в лес; начало смеркаться. Я посмотрел на дорогу: ни впереди, ни позади никого не было… Знаю, я виновен, но что поделаешь, барин: мне представилось, как, впрягшись в лямку, я тащу баржу, мне послышалось, как жена и дети кричат: «Хлеба! Хлеба!» Онисим же, словно насмехаясь надо мной, затянул песенку, в которой были такие слова:
Знай, невестушка моя:
Как поеду в город я,
Сарафан тебе куплю,
Эх, да бусы подарю!
Я так крепко держал камень в руке, что на нем наверняка отпечатались мои пальцы. Изо всей мочи я ударил
Онисима по затылку. Удар был такой сильный, что Они-сим свалился к ногам своей лошади.
Я соскочил на землю и оттащил его в лес. При нем был кошелек, в котором оказалось не меньше двадцати пяти рублей. Я взял только один рубль и семьдесят пять копеек и бегом бросился в деревню. На рассвете я был уже там. Разбудив станового, я заплатил ему рубль семьдесят пять копеек и взял у него квитанцию; хотя бы по этой части я полгода мог быть спокоен. Потом я вернулся домой.
«Это ты, Гаврила?» – спросила жена.
«Это ты, б а т ю ш к а?» – спросили дети.
«Да. Я встретил одного друга, и он дал мне взаймы рубль семьдесят пять копеек, которые с меня требовали. Так что мне нет больше нужды идти в бурлаки. Теперь мне надо лишь как следует работать, чтобы отдать долг этому славному человеку. Ну же, не горюйте».
Я старался казаться веселым, но на сердце у меня была смертельная тоска; впрочем, все это длилось недолго: в тот же день меня взяли под стражу. Онисим, которого я счел убитым, оказался всего лишь оглушенным; он вернулся в деревню и рассказал о том, что с ним произошло.
Меня посадили в тюрьму. Я провел там пять лет без всякого суда, а затем, наконец, предстал перед судьями. Приняв во внимание мое признание, они, вместо того чтобы приговорить меня к десяти тысячам ударов шпицрутенами, как я ожидал, сохранили мне жизнь и отправляют меня на каторгу. Наша партия отправится завтра, не так ли, сударь? – спросил заключенный, обращаясь к моему провожатому.
– Да, – ответил тот.
– Тем лучше. Меня посылают на медные рудники, а там, мне говорили, долго не живут.
Я предложил ему два рубля.
– Эх, – ответил он, – не теперь мне их давать надо было бы, а когда надо мною издевался становой; до того, как я замыслил убить Онисима!
И он снова лег на скамью.
Я положил возле него два рубля, и мы вышли из камеры.
Надзиратель открыл нам другую камеру. Условия в ней были точно такие же, как и в предыдущей. Заключенный сидел на такой же скамье, таким же образом прикованный к стене, но это был молодой и красивый парень лет двадцати двух – двадцати трех.
Мы расспросили его так же, как и первого, и он так же охотно нам отвечал.
– Меня зовут Григорий, – начал он. – Я сын богатого крестьянина Тульского уезда. Я не пьяница, не лентяй, не картежник; отец и мать у меня – крепостные, но, будучи лучшими хлебопашцами у помещика, графа Г***, они брали исполу не три десятины земли, как другие, но десять, двадцать, тридцать, а то и сто десятин. Работников они нанимали по соседству, у мелкого помещика, который не имел возможности использовать своих крестьян, и сумели сколотить небольшое состояние. Я полюбил дочку одного нашего соседа: она была самая красивая девушка в деревне.
Но когда я говорю, что полюбил ее, это не так; мне кажется, что я всегда ее любил. Все наше детство мы провели вместе, и, когда ей исполнилось девятнадцать лет, а мне – двадцать, между нашими родителями решено было нас поженить.
Каждый год шли разговоры, что граф Г*** должен вот-вот приехать к себе в поместье, и мы все время ждали его, ведь он должен был дать разрешение на брак, а без этого поп не соглашался нас обвенчать. Но вместо графа явился его управляющий.
Как только он приехал, мы с отцом отправились к нему. Граф предоставил ему все полномочия, так что его разрешения было достаточно для того, чтобы этот брак состоялся.
Он принял нас хорошо и обещал нам все, о чем мы его просили.
Неделю спустя, когда он в свою очередь пришел к нам, мы напомнили ему о его обещании. На этот раз он ответил уклончиво: «Посмотрим».
Мы с Варварой не очень встревожились, подумав, что управляющий хочет заставить нас заплатить за это разрешение, и рассудив, что ста рублей будет достаточно, чтобы рассчитаться с ним.
Мы обратились к нему в третий раз, но он грубо ответил мне:
«А рекрутский набор? О нем вы не подумали?»
«Но ведь, – отвечал я ему, – мне скоро исполнится двадцать два года, и за те два года, что я стал совершеннолетним, мир[4] еще ни разу не помышлял отдавать меня в солдаты. В деревне достаточно лентяев и бродяг, чтобы можно было не посылать на военную службу порядочных людей».
«М и р может делать что угодно, когда меня здесь нет, но, когда я здесь, я хозяин и могу отдать в рекруты кого захочу».
Я пошел к Варваре, чтобы поделиться с ней своими страхами, и обнаружил, что она опечалена и встревожена больше меня. Но, сколько я ни расспрашивал ее, она ничего мне не отвечала, а лишь без конца плакала.
Я пребывал в отчаянии и ощущал, что над нами нависла большая беда.
В ближайшее воскресенье управляющий созвал всю деревню на сходку. Он сообщил нам, что идет война и потому, кроме обычного рекрутского набора, приходится проводить дополнительный, так что вместо восьми новобранцев на тысячу крестьян император требует двадцать три; однако те пятнадцать, которые войдут в дополнительный набор, будут отпущены домой сразу после окончания войны. И он приказал старосте, чтобы тот явился к нему и составил вместе с ним список рекрутов и ополченцев.
Я побежал к Варваре и обнаружил ее всю в слезах.
«О! – воскликнула она. – Я уверена, что этот проклятый управляющий отдаст тебя в солдаты!»
«Кто тебе это внушил?» – спросил я.
«Никто, – ответила она, – заяц дорогу перебежал».
Больше я от нее ничего не добился.
В тот же день староста объявил список назначенных на военную службу. Варвара не ошиблась. Меня не было среди рекрутов, но я был пятым в списке ополченцев.
Я вернулся домой убитый горем. Отец побывал у управляющего и предложил ему пятьсот рублей, чтобы выкупить меня, но тот отказался.
Отъезд должен был состояться через день на рассвете.
Накануне отъезда мы с Варварой отправились погулять на небольшой луг, где в детстве нам нередко доводилось играть и собирать цветы. Чтобы дойти до этого луга, надо было пересечь деревянный мостик через узкую, но глубокую речку. Варвара остановилась посреди моста и с грустью посмотрела, как внизу струилась, а вернее, бурлила вода. Люди говорили, что там был омут. Я видел, как по щекам ее текли слезы и одна за другой падали в водоворот.
«Послушай, Варвара, – сказал я, – за всем этим стоит какая-то тайна, которую ты от меня скрываешь».
Она ничего не ответила.
«Признайся», – повторил я.
«Тайна эта состоит в том, Григорий, что мы с тобой больше не увидимся».
«Но почему? Я ведь не рекрут, а ополченец. Война кончится, и ополченцы вернутся к себе домой. Ведь не всех убивают на войне: многие возвращаются. Вот и я вернусь, Варвара, через год или два. Я тебя люблю, ты меня любишь, не падай духом и дождись меня, и мы еще будем счастливы».
«Мы больше не увидимся, Григорий», – повторила она.
«Но отчего у тебя такое страшное предчувствие?»
«Если ты меня любишь, знаешь, что тебе надо сделать?» – промолвила Варвара, кинувшись в мои объятия.
«Если я тебя люблю?! И ты еще спрашиваешь!»
Я прижал ее к своей груди. Варвара, хотя и обнимала меня, не сводила глаз с омута.
«Тебе надо бросить меня туда», – сказала Варвара.
Я вскрикнул от испуга.
«Да, бросить меня туда, – повторила она, – чтобы я не досталась другому».
«Какому другому?! Я тебя не понимаю. Почему ты должна достаться не мне, а другому?»
Она молчала.
«Ну говори же! – воскликнул я. – Ты же видишь, что я схожу с ума!»
«Значит, ты ни о чем не догадываешься?»
«Да о чем, по-твоему, мне следует догадываться?»
«Стало быть, ты не догадываешься… Нет, тогда мне лучше молчать, и будь что будет!»
«Лучше бы ты сказала, раз уж начала».
«О Боже мой, Боже мой!» – вскричала она и разрыдалась.
«Варвара, клянусь тебе: если ты не скажешь мне все, и сию же минуту, я на твоих глазах, прямо здесь, брошусь в омут. Уж если судьба тебя потерять, так лучше покончить с этим сразу».
«Но твоя смерть не избавит меня от позора и не отомстит за него!»
Я закричал от ярости.
«А, ты начинаешь понимать! – воскликнула она. – Я ему глянулась, и он хочет взять меня в полюбовницы. Вот потому тебя и забирают в солдаты, что он на меня позарился, а я ему отказала. Если бы я согласилась, тебя бы не забрали».
«Ох, подлец!»
Я оглядывался по сторонам, словно что-то искал.
«Чего ты ищешь?»
«А вот что!»
Я нашел то, что искал: какой-то крестьянин, накануне чинивший мост, оставил свой топор в бревне, которое он обтесывал.
«Григорий, что ты хочешь делать?»
«Клянусь Пресвятой Богородицей, Варвара, он умрет от моей руки».
«Но тебя убьют, если ты убьешь его».
«А мне все равно!»
«Григорий!»
«Я поклялся, – вскричал я, взмахнув топором, – и сдержу слово, а убьют меня, ну и пусть! Буду ждать тебя там, где рано или поздно мы все наверняка встретимся».
И я бросился к деревне, сжимая в руках топор.
«Григорий! – крикнула мне вслед Варвара. – Ты и вправду решился?»
«О да!»
И я побежал дальше.
«Ну тогда, – воскликнула она, – ждать тебя буду я! Прощай, Григорий!»
Я обернулся, и волосы у меня стали дыбом. В сумеречном свете я увидел, как что-то мелькнуло во мраке; затем я услышал звук упавшего в воду тела и что-то похожее на прощальный крик.
Я взглянул на мост. Там никого не было… А после этого я уже не помню, что происходило: я очнулся в тюрьме. Я был весь в крови… Наверное, я убил его. Ох, Варвара, Варвара! Недолго тебе ждать меня!
И, разразившись рыданиями и криками отчаяния, парень бросился лицом на скамью.
Надзиратель открыл нам еще одну дверь, и мы вошли в третью камеру.
Ее занимал атлетического сложения человек лет сорока. Глаза и борода у него были черные, но волосы на голове, насколько было видно, раньше времени тронула седина: он явно пережил большое горе.
Сначала узник не хотел отвечать, говоря, что он не стоит больше перед судьями и что с судом, слава Богу, все покончено; но ему сообщили, что я иностранец, француз, и, к моему великому изумлению, он тотчас заговорил на отличном французском языке.
– Тогда дело другое, сударь, тем более что рассказ мой будет коротким.
– Но как случилось, что вы знаете французский, – перебил я его, – да еще так безупречно?
– Да очень просто, – ответил он. – Я крепостной заводовладельца; он послал нас троих во Францию учиться в Школе искусств и ремесел в Париже. Когда мы уехали туда, нам было по десять лет. Один из нас там умер, а мы вернулись домой вдвоем, проучившись во Франции восемь лет. Мой товарищ стал химиком, а я механиком. За восемь лет пребывания в Париже, живя так же, как другие молодые люди, и ничем не отличаясь от своих товарищей, он и я забыли, что мы всего лишь несчастные рабы. Но дома нам быстро об этом напомнили.
Моего друга оскорбил управляющий нашего хозяина. Друг дал управляющему пощечину и получил за это сто ударов розгами.
Часом позже мой друг положил голову под тысячесильный заводской молот.
У меня характер был мягче, так что я всегда отделывался выговорами. А кроме того, у меня была мать, которую я очень любил и из любви к которой терпел такое, чего не стал бы терпеть, если бы жил один. Пока моя бедная мать была жива, я не женился, но пять лет назад она умерла. Я взял в жены девушку, к которой с давних пор был привязан.
Через десять месяцев после свадьбы жена родила девочку. Я обожал свою дочь!
Наш хозяин тоже любил кое-кого: это была его собака. Он выписал ее из Англии, и, по-видимому, она обошлась ему очень дорого. Она родила двух щенков – кобеля и суку; наш хозяин оставил себе обоих, чтобы развести эту драгоценную породу. Но случилась большая беда: возвращаясь домой на дрожках, он слишком поздно заметил свою собаку, с приветственным лаем бросившуюся к нему, и переехал ее колесом своего экипажа; собака была тотчас раздавлена.
К счастью, от нее осталось два щенка, как я уже вам говорил, кобель и сука. Однако, как вы понимаете, большая трудность состояла в том, как кормить этих дорогих собачонок, которым было всего лишь четыре дня.
И тогда мой хозяин придумал вот что. Зная, что моя жена кормит грудью свою дочь, он решил отнять у нее ребенка и отдать его на общую кухню, а мою жену заставить кормить щенят. Жена предлагала кормить и щенят, и ребенка, но он ответил, что от этого пострадают щенки.
Я, как обычно, вернулся домой с завода и прошел прямо к колыбели моей маленькой Катерины. Колыбель была пуста!
«Где ребенок?» – спросил я.
Жена рассказала мне все и показала щенков; они спали, насосавшись молока.
Я пошел на кухню за ребенком, вернул девочку матери и, взяв в каждую руку по щенку, размозжил им головы о стену.
На следующий день я поджег господский дом. К несчастью, огонь перекинулся на деревню, и сгорело двести домов. Меня арестовали, посадили в тюрьму и приговорили к вечной каторге как поджигателя. Вот и вся моя история: я же говорил вам, что она не будет длинной… А теперь, если вам не противно прикасаться к каторжнику, дайте мне вашу руку в награду за мой рассказ. Мне это доставит удовольствие; я был так счастлив во Франции!
Я взял его руку и от души пожал ее, хотя он и был поджигателем. Я не подал бы руки его хозяину, хотя он и был князем.
Ну вот вы и прочли это, дорогие читатели. И кто же, скажите, настоящие преступники? Помещики, управляющие, становые или те, кого отправляют на каторгу?
XXXVII. ПРОГУЛКА В ПЕТЕРГОФ
Посетив тюрьму и возвратившись к графу Кушелеву, я застал у него русского писателя, который наряду с Тургеневым и Толстым снискал благосклонное внимание молодого поколения России.
Это был Григорович, автор «Рыбаков». Мы упоминаем этот его роман, подобно тому как, рассуждая о Бальзаке, говорят об авторе «Кузена Понса»; рассуждая о Жорж Санд, говорят об авторе «Валентины», а рассуждая о Фредерике Сулье, говорят об авторе «Мемуаров дьявола».
Помимо «Рыбаков», Григорович написал пять или шесть других романов, имевших большой успех у читателей.
Он говорит по-французски, как настоящий парижанин.
Григорович нанес мне братский визит и предложил себя в полное мое распоряжение на все время моего пребывания в Санкт-Петербурге.
Само собой разумеется, я с благодарностью принял это предложение. Мы условились с графом, что всякий раз, когда Григорович задержится у него в доме допоздна, он будет ночевать в одной из отведенных мне комнат, ибо, как я уже упоминал, дом Кушелева-Безбородко находится в восьми верстах от Санкт-Петербурга.
Впрочем, следует заметить, что в России друг, остающийся в доме на ночь, не доставляет хозяевам того беспокойства, какое возникает в таких случаях во Франции, где считают себя обязанными приготовить гостю постель, включающую кушетку, пружинный матрац, тюфяк, простыни, валик в изголовье, подушку и одеяло. В России все обстоит иначе! Здесь хозяин дома, будь у него даже восемьдесят слуг, как у графа Кушелева-Безбородко, говорит своему гостю: «Уже поздно, оставайтесь у нас». Гость, поклонившись, отвечает: «Прекрасно», и дело кончено.
Хозяин более никак не занимается своим гостем. Он устроил для него ужин, лучший из возможных, напоил его бордо-лафитом, шато-икемом и шампанским, а вечером излил на него целые реки караванного чая. Он дал ему возможность слушать до часа ночи или до двух музыку, порой превосходную. Далее этого заботу о нем хозяин не простирает. Гостю самому полагается решать, как он проведет здесь ночь.
Однако следует сказать, что гость заботится об этом не больше, чем хозяин.
Когда приходит время лечь спать, он направляется в предназначенную ему комнату и оглядывает все кругом, отыскивая не кровать – ему это и в голову не приходит, ибо он знает, что кровати здесь не найти, – а диван, канапе или лавку; для него не имеет значения, мягкая эта мебель или жесткая. Если же в комнате нет дивана, канапе или лавки, он облюбовывает там какой-нибудь уголок и просит слугу принести шинель, шубу, пальто – первое, что подвернется под руку; затем он переворачивает стул, из спинки его устраивает себе изголовье, ложится на пол, натягивает на себя импровизированное одеяло и спит так до утра, пробуждаясь столь же свежим и отдохнувшим, как если бы ему довелось спать на лучшем пружинном матраце.
Такой суровый, чисто спартанский образ жизни несколько мешает утренним и вечерним гигиеническим процедурам, но два раза в неделю в вашем распоряжении паровая баня, где вы раздеваетесь догола.
Так что в тот вечер Григорович остался в доме графа, предпринял поиски канапе, обнаружил то, что искал, и расположился на ночлег.
Перед сном мы побеседовали через открытые двери, соединявшие наши комнаты, и договорились, что на следующий день совершим первую прогулку в пригороды Санкт-Петербурга. Маршрут был определен, путь туда и обратно намечен.
В восемь утра мы сядем на небольшое судно, курсирующее по Неве, а в девять – на большой колесный пароход, который проследует до Петергофа. Завтрак у нас будет в ресторане «Самсон» – местном варианте нашего кабаре «Черная голова»; мы осмотрим Петергоф и его окрестности, а затем отправимся ужинать и ночевать к Панаеву, другу Григоровича, редактору «Современника», познакомимся там с Некрасовым, одним из известнейших поэтов молодой России, и, наконец, на следующий день посетим исторический Ораниенбаумский дворец, известный тем, что в июле 1762 года в нем был арестован Петр III. После этого мы возвратимся в Санкт-Петербург по железной дороге, с тем чтобы познакомиться за один раз и с наземным, и с морским путями.
Программа поездки исполнялась точнейшим образом. В одиннадцать утра мы были уже на пристани Петергофа.
Там находилась стоянка дрожек. Те путешественники, которые обладают таким же телосложением, как у меня, обычно берут дрожки в расчете на одного себя; те же, кто имеет более стройную и изящную фигуру, могут разместиться в подобном экипаже вдвоем.
Любая дама, носящая кринолин, должна заранее отказаться от попытки сесть в дрожки.
Экипаж доставил нас к модному петергофскому ресторану; я уже говорил, что он называется «Самсон». Это название ресторана происходит от его вывески, которая представляет собой уменьшенную копию знаменитой статуи «Самсон», высящейся в большом пруду парка. Древнееврейский Геракл изображен в ту минуту, когда он разрывает пасть филистимлянскому льву.
Невозможно составить себе представление о том, что такое модный ресторан в окрестностях Санкт-Петербурга, пока не увидишь его собственными глазами.
Россия похваляется тем, что она обладает собственной национальной кухней и блюдами, которые никогда не смогут позаимствовать у нее другие народы, поскольку для изготовления этих блюд используются такие продукты, какие есть только в определенных местностях этой обширной державы и каких нет больше нигде.
В число подобных блюд, к примеру, входит уха из стерляди.
Стерлядь водится лишь в водах Оки и Волги.
Русские безумно любят стерляжью уху.
Приступим же к откровенному обсуждению этого важного вопроса, что создаст нам немало врагов среди подданных его величества Александра II, и смело выскажем свое мнение о стерляжьей ухе. Я прекрасно знаю, что затрагиваю то, о чем опасно говорить, но ничего не поделаешь, истина превыше всего.
Пусть даже после этого император не позволит мне возвратиться в Санкт-Петербург, но я скажу, что главное, а лучше сказать, единственное достоинство стерляжьей ухи заключается, на мой взгляд, а вернее, на мой вкус, в том, что она стоит – в Санкт-Петербурге, разумеется, – пятьдесят или шестьдесят франков летом и триста или четыреста франков зимой. Впредь мы все будем считать в рублях. Раз и навсегда условимся, что рубль равен четырем франкам нашими деньгами. Эти четыре франка, то есть рубль, размениваются на монеты достоинством в пятьдесят, двадцать пять, десять и пять копеек. Сто копеек составляют рубль.
Вернемся к стерляжьей ухе и объясним, почему эта уха, которой мы предпочитаем простой марсельский буй-абес, стоит так дорого.
Дело в том, что стерлядь, вылавливаемая лишь в определенных реках, уже упомянутых мною Оке и Волге, может жить только в той воде, где она родилась. Поэтому в Санкт-Петербург ее приходится доставлять в воде, взятой из Оки или Волги, и доставлять ее туда надо живой; если ее привезут туда мертвой, то стерлядь, как кобыла Роланда, единственный недостаток которой состоял в том, что она была мертва, не будет стоить ровно ничего.
Это весьма легко сделать летом, когда вода, если только не подвергать ее воздействию солнечных лучей, сохраняет приемлемую температуру и к тому же может быть освежена водой из тех же самых рек, хранимой в охлаждаемых емкостях.
Но вот зимой, зимой, когда мороз достигает тридцати градусов, а рыбе нужно проделать путь в семьсот или восемьсот верст – впредь мы будем считать расстояние в верстах, так же как деньги в рублях, но это не доставит никаких трудностей нашим читателям, поскольку верста лишь на пару метров отличается от принятого у нас километра, – так вот, зимой, повторяю, когда термометр показывает тридцать градусов ниже нуля, а рыбе нужно проделать путь в семьсот или восемьсот верст, чтобы попасть из родной реки в кастрюлю, причем попасть туда живой, задача эта, понятно, крайне трудная.
В этом случае приходится прибегать к помощи искусно устроенной печки, которая не только предотвращает замерзание воды, но и позволяет поддерживать ее обычную температуру, среднюю между зимней и летней, то есть от восьми до десяти градусов выше нуля.
В прежние времена, до создания железных дорог, богатые русские вельможи, любители стерляжьей ухи, имели особые крытые повозки с печкой и рыбным садком, чтобы перевозить стерлядь с Волги и Оки в Санкт-Петербург, ибо было принято, что хозяин, дабы не обманывать своих гостей, показывал им живую и плавающую рыбу, которую четверть часа спустя они поедали в похлебке.
Точно так же было заведено у римлян. Вспомните: рыбу доставляли из Остии в Рим эстафеты рабов, сменявшихся через каждые три мили, и величайшим наслаждением для истинных гурманов было видеть, как, умирая на их глазах, дорады и краснобородки постепенно теряли радужные оттенки своей чешуи.
У стерляди нет яркой чешуи, как у дорады или краснобородки: она покрыта бугорчатой шкурой, подобно акуле. Я уверял русских и готов уверять в этом французов, что стерлядь есть не что иное, как осетр в младенческом возрасте: acipenser ruthenus.
Мы уже говорили, что не разделяем фанатическую любовь русских к стерляди, которую они считают той самой рыбой, какую г-н Скриб в пьесе «Немая из Пор-тичи» упомянул под незамысловатым названием «царь морей». Рыба эта пресная и жирная, и никто здесь не озабочен тем, чтобы облагородить ее невыразительный вкус. Соус к ней еще предстоит придумать, и я осмелюсь предсказать, что сделать это сможет только французский повар.
Но пусть читатели не думают, ознакомившись с этими кулинарными рассуждениями, являющимися, впрочем, всего лишь прелюдией к подобным разговорам, которым мы намерены предаваться и в дальнейшем, что мы позволили себе попросить владельца ресторана «Самсон» подать нам стерляжью уху. Мы всячески остерегались ее и удовольствовались простыми щами.
Щи– слово это по своему происхождению показалось мне китайским – представляют собой капустную похлебку, куда менее вкусную, нежели та, какую наш самый бедный фермер посылает в обед своим батракам. Щи подают с мясом – говядиной или бараниной, послужившей для их приготовления. Ясно без слов, что говядина и баранина утрачивают при этом весь свой вкус. А кроме того, не приходится сомневаться в том, что мясо, плохо вываренное или варившееся на сильном огне, остается жестким и жилистым – словом, несъедобным.
Впрочем, я провел по поводу щей, являющихся русской национальной похлебкой и, можно даже сказать, почти единственной пищей крестьян и солдат, изыскания, которые, мне кажется, могли бы помочь внести в это блюдо все усовершенствования, какие оно способно воспринять.
Итак, мы заказали щи, бифштексы, жареного рябчика и салат.
Не стоит в связи с этим ни в чем упрекать Господа Бога: он создал все это в превосходном виде, но явился человек и испортил его творение.
Любое жаркое готовится в России в печи, и потому в России не знают, что такое жаркое.
Брийа-Саварен, разбиравшийся в этом предмете и оставивший такие афоризмы из области гастрономии, которые стоят изречений Ларошфуко из области морали, сказал: «Поварами становятся, жарилыциками мяса рождаются».
Это ставит жарилыцика на одну доску с поэтами, что для него довольно унизительно. В России, где, как мне показалось, жарилыцики не рождаются вовсе, это ремесло упразднено полностью, и жарить мясо здесь заставляют печь, подобно тому как природу теперь заставляют делать портреты. Само собой разумеется, печь и природа отомстили за себя: портреты, выполненные посредством дагеротипии, уродливы; жаркое, приготовленное в печи, отвратительно.
Мы выражали неудовольствие по поводу каждого блюда, которое нам подавали, и Григорович, хотя и не понимая наших жалоб, ибо он не знал никакой другой кухни, кроме русской, передавал их обслуживающему нас официанту.
Слушая их препирательства, череда которых началась с супа и закончилась десертом, мы смогли изучить дружескую ласковость русского диалога.
Русский язык не имеет гаммы темных и светлых красок. Если ты не «брат», то, значит, «дурак»; если ты не «голубчик», то, значит, «сукин сын». Перевод этого последнего выражения я поручаю кому-нибудь другому.
Григорович был изумительно ласков в разговоре с обслуживающим нас официантом. Эта ласковость забавнейшим образом не вязалась с теми упреками, какие ему приходилось делать по поводу посредственного качества обеда. Мало того, что он называл официанта голубчик, братец, он еще и все время разнообразил обращения к нему: официант становился любезнейшим, милейшим, добрейшим. Когда мимо нас прошла какая-то неряшливая служанка, он назвал ее душенькой. Когда к окну приблизился нищий, он дал ему две копейки и назвал его дядюшкой.
К слову сказать, кроткий и боязливый характер людей низшего сословия превосходнейшим образом находит выражение в славянской речи. Народ называет императора батюшкой, а императрицу матушкой.
По дороге Григорович спросил у какой-то старухи, как пройти к нужному нам дому, и назвал ее тетушкой.
Когда начальник нуждается в помощи подчиненного, он обласкивает его словами, пусть даже позднее будет бить его палкой.
Генерал Хрулев, идя в атаку, называл своих солдат благодетелями.
В Симферополе, в одном и том же госпитале, лежали русский и француз: один из них был ранен в руку, другой – в ногу. Кровати раненых стояли рядом, и они прониклись чувством нежной дружбы друг к другу. Русский учил француза своему языку, а француз учил русского своему.
Каждое утро, просыпаясь, русский обращался к французу:
– Bonjour, mon ami Michel!
И француз с той же лаской и с тем же братским чувством отвечал ему:
– Здравствуй, друг мой Иван!
Когда они выздоровели и им нужно было расставаться, оба проливали слезы. Пока их силой не развели в разные стороны, они продолжали сжимать друг друга в объятиях.
По правде сказать, ассортимент ругательств в русском языке не менее разнообразен, чем набор нежных слов: никакой другой язык так не приспособлен к тому, чтобы поставить человека на пятьдесят ступеней ниже собаки.
И заметьте, что в этом отношении воспитание ровным счетом ничего не значит. Воспитаннейший и учтивейший аристократ выдаст «сукина сына» и «е… вашу мать» с той же легкостью, с какой у нас произносят «ваш покорный слуга».
Признаться, я был весьма склонен наградить повара ресторана «Самсон» всеми русскими бранными словами, да и французскими тоже, когда, вставая из-за стола, определил по выставленному нам счету, что мы обедали, а по собственному желудку – что мы остались голодными; и потому мы лишь из любопытства, а не для моциона пешком отправились в Петергофский парк.
Петергоф – парк наполовину английский, наполовину французский; отчасти это Виндзор, отчасти Версаль. Густая тенистая листва тут, как в Виндзоре, а прямоугольные пруды, статуи и даже карпы – как в Версале.
Эти карпы – а некоторые из них, как нас уверяли, обитают здесь со времен императрицы Екатерины – высовывают из воды свои рыльца, когда слышится колокольчик, в который звонит инвалид. Как вы понимаете, они предаются этому занятию вовсе не безвозмездно: торговка пирогами, находящаяся здесь безотлучно, объяснит вам, с какой целью карпы так торжественно встречают вас.
В увиденном ничего нового для нас не было.
Фонтенбло в этом отношении берет верх над Петергофом. Если в Петергофе карпы водятся со времен Екатерины, то в Фонтенбло – со времен Франциска I.
В Петергофе есть даже свой Марли.
Подражательность – вот главная беда Петербурга. Его дома копируют архитектуру Берлина; его парки – это подражание паркам Версаля, Фонтенбло и Рамбуйе; его Нева – это подражание Темзе, хотя и с дополнением в виде ледохода.
Вот почему Санкт-Петербург – не Россия; это, как сказал Пушкин, а может быть, даже и сам Петр I, – окно, открытое в Европу.
Что же касается статуй, то мы ограничимся упоминанием лишь одной из них, привлекающей внимание не своей ценностью, а своей необычностью. Это присевшая на корточки наяда, которая держит на плече вазу и льет из нее воду. Когда смотришь на нее спереди, все выглядит благопристойно, потому что видно, откуда течет вода; но, глядя на нее сзади, получаешь совсем иное впечатление и начинаешь строить предположения, не делающие чести стыдливости нимфы. Вот почему по приказу начальства она вынуждена теперь обходиться без воды.








