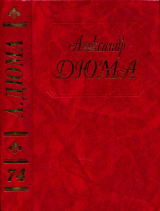
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Но невозможно заставить отступить таких людей, как Ней и Даву. Они освобождают пространство и пропускают вперед Мюрата, который с хлыстом в руке летит во главе кирасир. Земля дрожит от топота шести тысяч лошадей; русские полки раздавлены копытами, изрублены саблями. Смертельно раненный, падает Багратион, и его уносят на глазах у солдат, которые полагают, что он убит. Ней совершает чудеса храбрости, Даву вновь становится тем героем, каким он был при Экмюле, а Мюрат остается, как всегда, архангелом битв.
По его приказу один из кирасирских полков делает быстрый поворот налево. Главный редут все еще держится. Трижды взятый нашими, он трижды отбит русскими. Ермолов, прекрасный, как Клебер, храбрый, как Мюрат, кажется неуязвимым, как Ахилл.
Честь совершить последний захват редута предоставлена нашим кирасирам.
Пушечное ядро уносит Монбрёна, руководившего атакой. Его место занимает Огюст Коленкур, тот молодой адъютант императора, которого в это утро ординарец Наполеона увидел целующим женский портрет.
Полк мчится во весь опор, проносится мимо редута, исчезает в дыму, но тотчас разворачивается и, в тот момент, когда принц Евгений и его гренадеры взбираются на бруствер, врывается в редут через горжу. Русские солдаты во главе с двумя генералами оборачиваются к новым нападающим и в упор стреляют. Ламбер и Коленкур падают. Русские солдаты изрублены, канониры перебиты у орудий. На этот раз редут уже окончательно в наших руках, но какой ценой!
Одно за другим приходят новые известия. Император получает их в разгаре боя.
Понятовский со своими поляками преодолел овраг у Семеновского и после рукопашного боя оттеснил оттуда русских.
Генерал Тучков, в четвертый раз пошедший в атаку, был накрыт облаком вязаной картечи, выпущенной в него с двадцати шагов, и буквально разнесен в клочья.
Главный редут наконец взят, но Ламбер и Коленкур убиты.
В ту минуту, когда это последнее известие сообщили императору, рядом с ним был обер-шталмейстер Арман Коленкур, герцог Виченцский, брат погибшего. Наполеон тотчас устремляет на него взгляд. Обер-шталмейстер не делает ни единого движения и мог бы показаться бесстрастным, если бы по его щекам не текли безмолвные слезы.
"Вы слышали? – обращается к нему император. – Не хотите ли удалиться?"
У обер-шталмейстера нет сил ответить, но он жестом благодарит Наполеона и остается.
Между тем пушки Понятовского гремят уже в тылу у русских: противника полностью обошли.
Император пускает коня в галоп и, не заботясь, следует ли за ним эскорт, едет вперед до рубежа, за которым уже можно оказаться под огнем вражеских стрелков.
Он видит, что неприятель прижат к Псаревскому оврагу; корпус Остермана заменил корпус Раевского, переставший существовать; уничтожен третий кавалерийский корпус, находившийся под командованием Палена; остатки этих двух соединений влились в корпус генерала Корфа.
Однако то ли из-за отсутствия руководства, то ли из упорства, какое присуще отчаянью, русские, которые уже не могут нападать на нас, упрямо не желают отступать, как если бы, не в силах удержать поле битвы живыми, они хотели сохранить его за собой мертвыми.
Наполеон в раздумье смотрит на них и, казалось, колеблется. Стоит ему дать приказ, и это поражение превратится в разгром; но все окружающие его солдаты, хотя они и совершили чудеса, измотаны!
Мюрат и Ней шепчут императору:
"Гвардия, сир, прикажите выступить гвардии!"
И в самом деле, в распоряжении императора есть свежие войска численностью в сорок тысяч человек.
"А если мне придется дать еще одно сражение, – отвечает он, – какими силами я буду его вести? Нет, пусть пушки довершат свое дело, и, раз уж русские упорствуют в своем желании оставаться под огнем наших батарей, стреляйте, пока у вас есть ядра и порох".
И артиллерия, которой командовали Ларибуазьер, Сорбье, Пернети, д'Антуар и Фуше, с четырех часов дня до семи часов вечера прочесывала огнем эту неподвижную людскую массу, произведя двадцать две тысячи выстрелов.
LV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
Наполеон, оглядываясь со Святой Елены на события этого страшного дня, сказал:
"У Кутузова были все преимущества: численный перевес в пехоте, кавалерии, артиллерии, исключительная позиция, большое количество редутов.
И он был побежден!
Неустрашимые герои – Мюрат, Ней, Понятов-скийу – вам мы обязаны этой славной победой; история поведает, как отважные кирасиры захватывали редуты и рубили саблями канониров у их пушек; она расскажет о героической самоотверженности Монбрёна и Коленкура, которых смерть настигла в расцвете их славы, и о том, как наши канониры, установив свои пушки прямо в поле, без всякого прикрытия, сражались против многочисленных батарей противника, защищенных мощными брустверами; она расскажет о неустрашимых пехотинцах, которые в самый критический момент, вместо того чтобы ждать ободрения со стороны своего императора, сами кричали ему: «Будь спокоен: твои солдаты поклялись победить, и они победят!'»"
Это восхваление? Жалоба?
Во всяком случае, Наполеон, как известно, в течение двух дней не решался составить бюллетень об этой страшной битве.
У Кутузова же сомнений не было. В тот же вечер старый полководец письменно известил императора Александра, что он одержал безоговорочную победу и остался на поле битвы хозяином положения; в своем письме он добавил:
«Французы удаляются в сторону Смоленска, преследуемые нашими победоносными войсками».
Император Александр, получив депешу в семь часов утра, произвел Кутузова в фельдмаршалы, приказал устроить благодарственный молебен в Успенском соборе и постановил воздвигнуть на поле битвы колонну в ознаменование этой победы.
На следующий день вечером он узнал правду. Но Кутузов уже стал фельдмаршалом, а благодарственный молебен состоялся, так что менять ничего не стали, и жители столицы в действительности не знали, как им быть, когда они увидели, что русская армия уходит из Москвы через Коломенскую заставу, а французская армия вступает в Москву через Дорогомиловскую заставу.
На поле битвы мы остались победителями, но сверх этого не в состоянии были сделать ни одного шага.
Все, кто сражался – а сражались все, за исключением гвардии, – были изнурены.
Всю ночь нужно было подбирать и перевязывать раненых, хотя стало холодно и резкие порывы ветра тушили факелы.
Никакого различия между ранеными русскими и ранеными французами не делалось.
Послушайте Ларрея – это он передвигается по полю, усыпанному мертвыми телами, это он говорит среми мертвой тишины:
"Было чрезвычайно холодно, и временами все вокруг обволакивал туман; поскольку приближалось равноденствие, дул сильный северный ветер, и лишь с великим трудом удавалось сохранять перед моими глазами огонь зажженной свечи; впрочем, совсем без него нельзя было обойтись только тогда, когда я накладывал лигатуру на артерии.
Я на три дня задержал свой отъезд, с тем чтобы закончить перевязку как наших раненых, так и русских. Русские раненые были развезены по соседним деревням и оставались там до полного своего выздоровления.
Из одиннадцати пациентов, которым я ампутировал руку по самое плечо, лишь двое умерли во время эвакуации; все остальные успели выздороветь, находясь в Пруссии и Германии, еще до нашего возвращения в эти страны. Самым замечательным из этих раненых оказался один командир батальона: едва операция закончилась, он сел на коня и, отправившись в путь, без всяких перерывов продолжал его до самой Франции.
На дорогах можно было встретить ампутированных, которые сумели смастерить себе деревянные ноги и, покинув полевые лазареты, при помощи этих протезов, какими бы несовершенными они ни были, добирались до родины.
В итоге у нас было от двенадцати до тринадцати тысяч вышедших из строя солдат и девять тысяч убитых".
Потери же русских, по сведениям их историков, составили до пятидесяти тысяч.
Примерно столько же потеряли австрийцы в сражении при Сольферино.
Теперь на этом огромном поле битвы осталось лишь три следа страшного кровопролития, происходившего в тот день: это площадка, где стояла палатка императора, Спасо-Бородинский монастырь и колонна, воздвигнутая в том самом месте, где находился центр Главного редута.
Спасо-Бородинский монастырь заключает в своих стенах пространство, где располагался один из редутов, сооруженных перед деревней Семеновское, – тот самый, который защищал генерал Тучков.
Монастырь построен его вдовой, получившей право стать первой здешней настоятельницей. Она приехала сюда после окончания битвы, с тем чтобы найти среди убитых труп своего мужа, но, как я уже говорил, залпом картечи его тело было разнесено в клочья.
Все, что осталось от храброго генерала, – это рука, оторванная чуть выше запястья. Вдова опознала ее по обручальному кольцу и перстню с бирюзой, который она подарила своему мужу.
Рука была погребена в освященной земле; на месте этого погребения г-жа Тучкова построила церковь, а рядом с церковью – монастырь; затем церковь и монастырь были обнесены общей каменной стеной.
Церковь воздвигнута на месте бывшего редута; могила находится внутри нее, слева от входа, и покрыта простым камнем, на котором выгравированы слова:
Помяни, Господи, во царствии Твоем АЛЕКСАНДРА,
На брани убиенного, и отрока НИКОЛАЯ.
Сын был похоронен рядом с останками отца.
С противоположной стороны церкви находится могила вдовы генерала и ее брата.
Над этой могилой лежит камень, который во всем похож на первый и несет на себе надпись:
Се аз, Господи, игуменья Мария, основательница Спасо-Бородинского монастыря.
Над входом в церковь выгравированы следующие слова и даты:
1812 года 26 августа.
БЛАЖЕН ЕГОЖЕ ИЗБРАЛ И ПРИЯЛ ЕСИ ВСЕЛИТСЯ ВО ДВОРЕХ ТВОИХ.
16 октября 1826.
Как известно, русский календарь отстает от нашего на двенадцать дней. Следовательно, 26 августа соответствует нашему 7 сентября, дню сражения, а 16 октября соответствует 28-му числу того же месяца.
Мы посетили покои прежней настоятельницы; нам показали ее одежду, ее портрет и ее посох, а также письмо, написанное императрицей Марией в связи со смертью великой княжны Александры.
Нас любезно приняла нынешняя настоятельница монастыря, княгиня Урусова.
Я пообещал ей прислать иерусалимские четки.
У меня есть такие четки, привезенные, правда, из Иерусалима не мною, а моей дочерью; они освящены патриархом и соприкасались с гробницей Спасителя; но как можно переслать четки из Франции в Бородино?
Если кто-либо способен подсказать мне, как это сделать, я ему тоже подарю четки.
Выйдя из монастыря, мы пересекли картофельное поле, на котором ночью был заморозок. Дело было 9 августа.
В России всякий раз подмораживает – иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но постоянно.
Когда мы выехали из Москвы, а это было 7 августа, уже начали падать листья с деревьев, как это бывает у нас в октябре.
Покинув монастырь, мы поднялись в Семеновское, бедную деревню из трех десятков домов, которая, должно быть, не могла прийти в себя от изумления в тот день, когда ей довелось стать театром страшного сражения. Очевидно, три четверти ее обитателей не знали, за кого и зачем идет эта битва.
Из деревни Семеновское мы прошли по оврагу, доставившему столько трудов маршалу Понятовскому. Вскоре мы очутились посреди какого-то болотистого места, поросшего высокой травой и омываемого ручьем – должно быть, это был Огник, – и, пройдя около версты, оказались позади небольшого леса, покрывающего своей тенью восточный склон холма, где находился Главный редут и где теперь стоит памятная колонна в честь сражения.
Именно в этом небольшом лесу были погребены тела воинов, погибших на Главном редуте: бугры на земле, которые видны там, это и есть их могилы.
Выйдя из леса и направившись на запад, вы окажетесь напротив позиций французской армии и подойдете к подножию колонны.
И тогда вашему взору предстанет огромный камень, на котором начертана какая-то надпись. Это могила князя Багратиона: раненный, как мы уже упоминали, 7 сентября, он умер 24-го числа того же месяца во Владимирской губернии.
По повелению императора тело генерала было доставлено в Бородино и погребено на поле сражения.
Дидье Деланж, который был человеком предусмотрительным и воспринимал поле битвы с более философской точки зрения, чем я, приготовил превосходный завтрак, расположившись под кронами того самого небольшого леса. Мы укрылись под этой тихой сенью, и, переводя взгляд от одного могильного холма к другому, я был вынужден признать, что могилы на поле битвы, с которым связаны такие воспоминания, вполне стоят могил на сельском кладбище, даже если оно воспето Греем или Делилем.
Двадцать восьмого октября французская армия вновь проходила по этим же местам. Оставим в стороне прекраснейшие страницы, которые г-н Филипп де Сегюр написал по этому поводу в своей поэтической книге о
Русской кампании, и позаимствуем у г-на Фена несколько исполненных душевной боли строк из его "Заметок о 1812 годе".
"28 октября, – пишет он, – наша армия оставила Можайск справа и вступила на главную Смоленскую дорогу невдалеке от Бородина. Наши сердца сжимались при виде этой равнины, где было погребено столько наших солдат! Эти храбрецы были убеждены, что они умирают во имя победы и мира! Мы осторожно прошли по их могилам, страшась, что земля покажется им тяжелой под шагами нашего отступления!"
Однако в Можайске и Бородине, помимо убитых, были также и раненые, находившиеся там на излечении; император обнаружил их в немалом числе в том самом Колоц-ком монастыре, с вершины колокольни которого он видел на горизонте поле будущей битвы на Москве-реке. При мысли, что он бросит их здесь, сердце Наполеона облилось кровью, и он приказал, чтобы каждая повозка взяла с собой по одному нашему соотечественнику; он начал со своих собственных экипажей и поручил врачам своей медицинской службы, Рибу и Лерминье, в течение всего пути наблюдать за этим созданным на скорую руку обозом раненых.
В числе таких раненых, подобранных нашей армией, был и г-н де Бово, молодой лейтенант карабинеров, у которого только что ампутировали ногу. Он совершил отступление в ландо императора.
Ларрей подтверждает этот факт в своих "Записках":
«В полевых лазаретах, устроенных нами возле Колоцкого монастыря, оказались и русские офицеры, которых мы перевязывали после сражения. Они залечили свои раны. Несколько из этих офицеров вышли навстречу нам, чтобы засвидетельствовать мне свою признательность. Я оставил им деньги, чтобы в ожидании прихода своих соотечественников они могли купить у бродячих торговцев-евреев предметы первой необходимости; в то же самое время я поручил им позаботиться о раненых французах, которых мы здесь оставляли. У меня были основания думать, что эти офицеры окажут им защиту».
Если из глубины могилы можно что-нибудь услышать, то последнее, что донеслось до этих храбрецов и заставило их вздрогнуть, – это отзвук горячо любимого ими голоса императора, проезжавшего рядом с ними; их сон слишком глубок, а шаги редких паломников, приходящих взглянуть на поле сражения, слишком легки, чтобы что-либо за прошедшие пятьдесят лет могло потревожить спящих.
В 1839 году император Николай провел грандиозный парад и устроил представление битвы на Москве-реке, в котором участвовало сто восемьдесят тысяч солдат.
Девятого августа, в пять часов вечера, мы направились в Москву, и прибыли туда через сутки в тот же самый час.
Я нашел Нарышкина несколько озабоченным: во время нашего отсутствия он узнал, что сгорела одна из его деревень, Дорогомилово. Двести пятьдесят домов обратились в пепел. Огонь перебрался по загоревшемуся мосту через реку и, подгоняемый ветром, поджег другую деревню.
Если у вас есть желание составить себе представление о русском боярине старого закала, вам следует приглядеться к Нарышкину.
Он всюду владеет имениями и домами: в Москве, в Елпатьеве, в Казани, Бог знает где еще; сам он не знает счета ни своим деревням, ни своим крепостным: это дело его управляющего.
Не обижая ни того, ни другого, вполне можно допустить, что управляющий ворует у него по сто тысяч франков в год.
Его дом – это скиния беспечности, это апофеоз безалаберности.
Однажды Женни изъявила желание поесть ананасов. Нарышкин приказал их купить.
Я видел, как один из мужиков нес охапку великолепных ананасов. Он удалился в сторону служб.
Вероятно, из всех, кто был в доме, мужика увидел лишь я один; прошло семь или восемь дней, но на столе не появилось ни одного ананаса.
И вот как-то раз, когда Нарышкин остался недоволен десертом, я спросил его:
– Ну, а где твои ананасы?
– А ведь и правда, я же велел их купить.
– И тебе их принесли, однако забыли подать на стол; возможно, кто-то другой в твоем доме любит их.
Позвали всех слуг, от повара Кутузова до кучера Кар-пушки, но никто из них не видел ананасов и не понимал, чего от него хотят.
– Пойдем поищем сами, – предложил я Женни.
И мы отправились на поиски.
Ананасы были найдены в углу небольшого погреба, куда надо было спускаться по приставной лестнице и где хранились дичь и мясо.
Их было там сорок штук.
Если считать, что штука стоит двадцать франков, то все вместе это обошлось в двести рублей.
При доме состоял охотник, который был обязан поставлять дичь; дичь эта поступала из какого-то имения, расположенного уж не знаю где, и, думаю, Нарышкин был осведомлен об этом не больше, чем я.
Каждую неделю охотник приносил корзины, полные диких уток, вальдшнепов и зайцев. Если бы мы с Женни не позаботились о том, чтобы всю эту дичь или, по крайней мере, часть ее раздарить, то три четверти этого богатства пропали бы.
Однажды охотник пришел в сопровождении чрезвычайно красивой борзой собаки.
– Выходит, у тебя есть борзые такой породы? – спросил я Нарышкина.
– Наверное, – ответил Нарышкин. – Года три или четыре тому назад я велел купить в Лондоне пару таких за тысячу экю.
– Кобеля и суку?
– Да
– Прикажи, чтобы мне оставили одного из первых щенков, которые у них родятся.
– Возможно, от них уже есть взрослые. Позовем Семена.
Позвали Семена: это был охотник.
– Семен, – обратился к нему Нарышкин, – есть у меня борзые в Елпатьеве?
– Да, ваше превосходительство.
– И сколько?
– Двадцать две.
– Как это двадцать две?
– Вы, ваше превосходительство, не давали никаких приказаний, так что всех, что появлялись на свет, оставляли; некоторые подохли от болезней, но, как я имел честь сказать вашему превосходительству, теперь у вас есть двадцать две здоровые борзые собаки.
– Вот видишь, – сказал мне Нарышкин, – ты можешь, не причиняя мне никакого ущерба, взять одну борзую или даже пару борзых, если захочешь.
Нарышкин держит табун лошадей, один из ценнейших в России и, быть может, единственный, где сохранилась в чистоте знаменитая порода рысаков Григория Орлова.
В этом табуне у него сотня коней, и ни один из них никогда не будет продан; это лучшие рысаки России.
Они нужны Нарышкину для того, чтобы выигрывать чуть ли не на всех скачках, хотя это в большей степени тешит его гордость, чем приносит ему барыши. Общая сумма всех денежных премий может достичь двухсот-трехсот луидоров. Табун же обходится в пятьдесят тысяч франков. Однако табун доставляет ему радость.
Каждое утро, облачившись в кашемировый халат, Нарышкин усаживается на крыльце и проводит смотр своих лошадей: одних выводят под уздцы, на других верхом сидят берейторы, и наблюдать за этими великолепными животными с безупречными статями – занятие и в самом деле отличное.
И когда мне приходится видеть человека, который, хотя и испытывая порой стесненность в средствах, позволяет себе роскошь держать в своих конюшнях лошадей общей стоимостью от восьмисот тысяч до миллиона франков, я пожимаю плечами, вспоминая наших щеголей и их упряжки на Елисейских полях и в Булонском лесу.
Заметьте, что в коляску и в четырехконную карету Нарышкина, владеющего всеми этими рысаками, запрягают наемных лошадей, которые стоят ему пятьдесят франков в день.
Женни, в виде исключения, имела для своей санкт-петербургской коляски двух рысаков, которые приводили в отчаяние великосветских русских дам, негодовавших при виде того, как простая актриса мчится в своем экипаже туда, куда ей угодно, вдвое быстрее их.
Когда было решено, что мы поедем в Елпатьево открывать охоту, возник вопрос, в каком состоянии находится там барский дом. Нарышкин бывал в этом имении два раза за всю свою жизнь, причем один.
А надо сказать, что Нарышкин, будучи по характеру боярином старого закала, превосходно умеет окружить себя роскошью, но точно так же превосходно умеет без нее обойтись.
Он даже не помнил, были ли в Елпатьеве кровати.
Поэтому было принято решение отправить туда Дидье Деланжа в качестве квартирмейстера.
Дидье Деланж отправился в Елпатьево на почтовых лошадях.
Четыре дня спустя он вернулся со списком предметов, совершенно необходимых для устройства там нашей жизни.
В этот список входили простыни, матрацы, кухонная утварь – всего на общую сумму в семь тысяч франков.
Все эти вещи были куплены и на трех фургонах отосланы в Елпатьево, а Дидье Деланж снова отправился туда, чтобы все это разместить к нашему приезду.
Нам предстояло пробыть в Елпатьеве три дня.
Понятно, что никакое русское богатство, каким бы значительным оно ни было, не может выдержать подобного образа жизни, тем более, если все расходы находятся в ведении управляющего, причем иногда даже не одного, а двух!
Перед отъездом из Москвы мы купили зимнюю одежду, поскольку нам предстояло оказаться в сезон снегов в степях Калмыкии и в горах Кавказа и нужно было подумать о том, как противостоять температуре в пятнадцать-двадцать градусов мороза.
Прежде всего мы с Муане обзавелись удобнейшими дорожными костюмами. К этим костюмам были добавлены две овчинные шубы из числа тех, какие носят богатые мужики и какие называются тулупами. И наконец, наш московский гардероб был дополнен меховыми сапогами и полным ассортиментом домашних туфель из Торжка. Я забыл упомянуть о высоких овчинных шапках, придававших нам такой грозный вид, что, глядя на себя, мы сами готовы были лопнуть со смеху.
Нам не хватало лишь дорожного несессера с самоваром, чтобы готовить себе чай, и переводчика, с помощью которого мы могли бы изъясняться с жителями тех мест, по каким нам предстояло проехать.
Несессер мы купили на базаре, и Женни, не желая ни на кого полагаться, взяла на себя заботу посмотреть, все ли есть в купленном нами наборе.
Что же касается переводчика, то нас обеспечил им ректор университета, выбравший его из числа лучших своих учеников и отрекомендовавший его нам как человека надежного.
Переводчик носил благозвучное имя – Калино.
Вечером 6 сентября, при свете луны, который был не менее прекрасным, чем 4 августа, мы в последний раз посетили Кремль. Нас обязывали к этому воспоминания, которые мы о нем сохранили.
На следующий день мы попрощались с нашим милым павильоном, где я все же надеялся побывать когда-нибудь снова.
В Троицкий монастырь наша компания отправилась в двух экипажах: Нарышкин, Женни и я – в дорожной коляске, а Калино и Муане – на телеге. Они предпочли этот способ передвижения, который не приковывал их к нам и позволял им чувствовать себя школьниками на каникулах. Мы должны были встретиться в Троицком монастыре.
В пять часов утра Муане и Калино, пребывая в полном восторге от того, что им удалось вновь обрести свободу, отправились в путь. Нарышкин, не проявлявший подобного энтузиазма по поводу предстоящего паломничества, пожелал выехать лишь после плотного завтрака.
Дидье Деланж, прибывший накануне, заверил нас в том, что теперь мы можем без всякого страха отправляться в Елпатьево и, хотя в имении нам не увидеть таких удобств, как в Санкт-Петербурге, нас, тем не менее, ожидает там почти такой же уют, как в Москве.
Излишне говорить, что Деланж составлял часть нашей команды. Он словно тень следовал за Нарышкиным.
Что же касается Кутузова, то он отправился в последнем фургоне, взяв с собой свою личную кухонную утварь. Поскольку ему нечего было делать в Троицком монастыре, он должен был ждать нас в Елпатьеве в течение всего дня 9 сентября.
Обед следовало подать в шесть вечера. Если мы приедем позднее, он послужит нам ужином.
Семен был предупрежден, и охота должна была быть устроена на следующий день.
Как говорят во Франции, мы начали с самого вкусного и в полдень помчались во весь опор в коляске, запряженной четверкой.
Перекладные были подготовлены на середине пути, то есть примерно в пяти-шести льё от города.
Дорога от Москвы до Троицкого монастыря великолепна и вся обсажена деревьями; самые примечательные места на этой дороге – села Пушкино и Рахманово. Выезжая из Москвы, вы какое-то время следите глазами за Мытищинским акведуком, построенным Екатериной: он подает воду в огромную Сухареву башню – водный резервуар Москвы.
Через каждые сто шагов на дороге встречаются богомольцы, идущие в ту или в другую сторону.
LVI. ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Благодаря быстрому бегу наших лошадей мы добрались до Троицкого монастыря еще до захода солнца. Трудно представить себе что-либо более величественное, чем эта огромная обитель, размером с целый город, в такой час дня, когда косые лучи солнца отражаются в ее позолоченных шпилях и куполах.
Перед тем как подъехать к монастырю, вы проезжаете по обширному предместью, возникшему вокруг него: оно насчитывает тысячу домов и шесть церквей.
Находясь в окружении холмов, придающих этой местности более живописный вид, чем это свойственно русским городам, которые обычно расположены на равнинах, монастырь стоит на возвышенности, господствующей над всем вокруг; он обнесен мощной и высокой крепостной стеной из камня и защищен восьмью сторожевыми башнями.
Это живое средневековье – как Эгморт, как Авиньон.
Внутри крепостных стен размещаются колокольня, девять церквей, царский дворец, покои архимандрита и кельи монахов.
Мы пойдем туда завтра. А сегодня вечером нам предстоит поужинать и расположиться на ночлег в монастырской гостинице.
Однако, сказав "нам предстоит поужинать в монастырской гостинице", я неправильно выразился. Мне следовало сказать: "поужинать в помещении монастырской гостиницы", ибо то, как я отозвался о постоялых дворах Коневца и Валаама, уязвило самолюбие Нарышкина, и Дидье Деланж поместил в багажные ящики нашей кареты превосходный ужин, приготовленный в Москве.
Так что речь шла только о комнатах и постелях.
Комнаты оказались грязные, а постели – жесткие. Но, в конце концов, за чашкой превосходного чая и приятной беседой легко можно дотянуть до двух часов ночи, и если встать в шесть утра, то дело сведется не более чем к четырем часам мучений.
Ну, а в обители святого Сергия вполне можно отважиться на четыре часа мучений.
Эти мучения, впрочем, становятся сладостными и легкими для некоторых паломников и паломниц. Троицкий монастырь, как уверяют хорошо осведомленные люди, не только место религиозного паломничества: он имеет и чисто мирскую цель для тех, кто не боится набросить покров святости на человеческие страсти. Какой русский проявит недостаток православной веры настолько, чтобы запретить своей жене паломничество в Троицкий монастырь? Подобный запрет был бы настоящим скандалом, и, надо сказать, таких скандалов ни разу еще не случалось.
А раз уж вы оказались в Троицком монастыре, то может случиться так, что вам встретится там кто-нибудь, чье присутствие станет для вас неожиданностью, но, слава Богу, отнюдь не досадой. Вы обмениваетесь с ним парой слов и между прочим называете номер своей комнаты; остальное зависит от сообразительности того, с кем вы имеете дело, и от филантропической предусмотрительности архитектора, который, строя постоялый двор, думал о процветании монастыря.
На следующий день вы приносите благодарность святому Сергию, даже не вспоминая, хорошо или плохо вам было спать.
Да и первые анахореты, отшельники Фиваиды, разве не спали на камнях?
Я был готов войти в монастырь, как только отворят ворота. Спор на историческую тему, который я накануне за чаем вел с Нарышкиным, подстегивал мое любопытство.
Я утверждал, что у дверей Успенского собора, слева от входа, мне удастся найти надгробную плиту длиной в шесть футов, распиленную на уровне одной пятой своей длины с той стороны, где в могиле должна находиться голова покойника.
Это имело отношение к одной легенде о Петре Великом, которую при мне рассказывали моему старому другу г-ну де Вильнаву.
Итак, я поспешно вступил под входные своды и по красивой аллее, обсаженной деревьями, дошел до собора, окруженного решетчатой оградой монастырского кладбища.
Сделав внутри ограды четыре-пять шагов, я радостно вскрикнул.
Моя плита была тут, распиленная на уровне одной пятой своей длины, и, при всем своем малом знакомстве с русскими буквами, сопоставляя их с греческими, на которые они очень похожи, я, кажется, прочитал на плите имя Авраама Лопухина.
Я помчался объявить Нарышкину о своем триумфе. Он еще спал. Мне пришлось его разбудить. Это было ему наказанием.
А вот и сама легенда.
Мы уже рассказывали о заговоре Евдокии Федоровны Лопухиной в пользу ее сына Алексея и говорили, как вступил в этот заговор влюбленный в нее боярин Глебов.
И наконец, мы рассказали, как он был посажен на кол на эшафоте, по трем углам которого были выставлены на плахах головы его сообщников.
На четвертой плахе, пустой, стояло имя Авраама Лопухина, ускользнувшего от гнева царя, который, несмотря на самые усердные розыски, не смог его схватить.
Авраам Лопухин укрылся в Троицком монастыре, облачился в монашескую рясу и спустя три или четыре года умер своей смертью.
Его похоронили на монастырском кладбище.
Петр I, не знавший при жизни Лопухина, что он удалился в монастырь, услышал о его смерти от самого настоятеля, который, надеясь избежать наказания, рассчитывал на почтение, испытываемое Петром к монастырю.
Первой мыслью царя было выкопать труп и обезглавить его, но, прислушавшись к просьбам настоятеля, умолявшего не совершать подобного святотатства, царь ограничился тем, что приказал распилить на уровне головы надгробную плиту.
Не имея возможности обезглавить труп, он обезглавил накрывший его камень.
В этой казни было что-то одновременно от поборника правосудия и от дикаря.
Нарышкина всегда удивляло, что я знаю историю России лучше, чем сами русские.
Удовлетворив свое самолюбие, я вернулся в собор: мне нужно было посмотреть там кое-что еще.
Это был алтарь, под напрестольным покровом которого спрятала Петра I его мать Наталия в тот день, когда, спасаясь от стрельцов, она искала укрытие в соборе. Я нашел алтарь: двуглавый орел указывает место, где происходила эта сцена.








