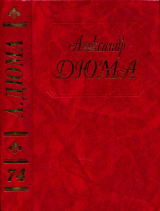
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
Я стал продолжать свои поиски и нашел в углу гробницу Бориса Годунова, его сына Федора и его дочери Ксении, которую изнасиловал Лжедмитрий (а может быть, это был истинный Дмитрий, кто знает?).
Их тела были перевезены в Троицкий монастырь из Москвы. Борис всегда питал к монастырю величайшее почтение и щедро осыпал его дарами.
Иван Грозный, Иван Безумный, Иван Бешеный также глубоко почитал святого Сергия, в чью раку он был положен в самый день рождения своим отцом Василием Ивановичем.
Рака святого, куда положили Ивана IV – попутно скажем, что это проявление благочестия отнюдь не принесло России счастья, – вся из позолоченного серебра.
Она находится в Троицком соборе, а не в том, где искал убежище Петр I и где погребены Борис и его дети.
Над ней установлен серебряный шатер, поддерживаемый четырьмя столбами того же металла; этот шатер был подарен в 1737 году императрицей Анной. Он весит тысячу фунтов.
Именно от распутных императриц и жестоких царей святые обычно получают самые богатые дары.
Этот второй собор, отличающийся большим богатством, чем первый, построен на том месте, где после похода на Москву татар под водительством Едигея патриарх Никон нашел тело святого Сергия.
Само собой разумеется, что захватчики, будучи магометанами, полностью разорили монастырь. Само собой разумеется и то, что при их приближении монахи обратились в бегство.
Предав Москву огню и залив ее кровью, татары вернулись в Казань, подобно тому как вышедшая из берегов река входит в свое русло.
Тогда возвратились и монахи, но не в свои кельи – ибо татары сровняли их с землей, – а в руины монастыря.
Среди этих руин патриарх Никон обнаружил тело святого Сергия, пребывавшее в состоянии совершенной нетленности. Это произошло в 1422 году. Он возвел новые жилые строения, и ему помогала в этом набожность князей; нетленность тела святого Сергия казалась чудом, и благоговейное любопытство верующих заставляло их стекаться сюда со всех сторон. Монастырь богател за счет их даров и княжеских подарков. Мы уже говорили, что самыми щедрыми из государей оказались Иван Грозный и Борис Годунов.
В Москве, во дворце этого самого патриарха Никона, нам показали некоторые из его священнических облачений: омофор – нечто вроде столы, один конец которой носят перекинутым через плечо, а другой ниспадает на грудь, и просторную тунику, настолько всю расшитую драгоценными камнями и жемчугом, что она весит пятьдесят русских фунтов.
Во времена смуты, возникшей при Лжедмитрии, которого обвиняли в намерении привести в Россию поляков, несметные богатства Троицкого монастыря пошли на то, чтобы заплатить защитникам старой Руси, тогда как его стены дали им укрытие; поляки же, зная, что в одном этом монастыре хранится столько же сокровищ, сколько их было во всей Польше, осадили его в 1609 году, предводительствуемые своим великим гетманом Сапегой.
И самым грозным их противником стал тогда простой монах: брат Авраамий Палицын ходил по стране, проповедуя священную войну, призывая дворян и князей пожертвовать ради отечества своими интересами, дружбой и даже ненавистью, что особенно трудно; это он убедил князя Пожарского пойти на Москву и привел к нему нижегородского мясника Минина.
Наконец, после семи месяцев безуспешной осады, поляки запросили мира. Он был подписан в 1618 году в деревне Деулино, расположенной в одном льё от монастыря, которому она принадлежала.
В 1764 году, когда Екатерина конфисковала имущество Церкви в пользу государства, Троицкий монастырь имел в своем подчинении четырнадцать других монастырей и владел ста шестью тысячами восьмьюстами восьмью крепостными.
Святой Сергий родился в Ростове в 1315 году. Решив предаться молитвенному созерцанию и уединению, он попросил у князя Андрея Радонежского кусок земли и построил там свой первый скит. Однако вместо нескольких футов земли, о которых просил его святой Сергий, князь дал ему квадратную версту.
Рядом со своим скитом святой Сергий воздвиг церковь, посвященную Троице; отсюда и нынешнее название монастыря, который включает в себя эту маленькую церковь.
Могила князя Андрея Радонежского, первого дарителя земли, находится рядом с могилой святого Сергия, в Троицкой церкви.
Чтобы составить себе представление о том, какие богатства может заключать русский монастырь, нужно видеть сокровищницу Троицкой обители. Десять больших залов заполнены драгоценными предметами: это ризы, облачения митрополитов, надгробные покровы, алтарные покрывала, евангелия, требники, чаши, кресты, дароносицы. Глаза слепит сверкание алмазов и всевозможных драгоценных камней, словно струящихся на тканях и священных облачениях. Один только алтарь оценивается в полтора миллиона франков.
Среди всех этих драгоценных предметов вы замечаете в шкафу у двери конскую уздечку и старый домашний халат: это уздечка князя Пожарского и халат Ивана Грозного.
В числе самых драгоценных предметов посетителям показывают оникс, найденный в Сибири и подаренный Потемкиным митрополиту Платону. Он несет на себе природный отпечаток распятия, у подножия которого молится коленопреклоненный человек.
Наконец, как бы в противовес всем этим мирским богатствам, нам показывают обратившуюся в лохмотья рясу святого Сергия, который никак не мог предположить, что его преемник Никон будет носить тунику, отягченную пятьюдесятью фунтами драгоценных камней.
Некогда в монастыре проживало триста монахов, но сегодня их тут не более ста.
Из всех владений, сохраненных монастырем, одно из самых любопытных – это ресторан "Троица" в Москве. Он принадлежит монахам и весьма посещаем, ибо славится ухой из стерляди.
Там разрешено, между прочим, пить и напиваться, как во всех других питейных заведениях, однако не позволяется запирать двери в отдельных кабинетах.
Думаю, что если бы подобное правило действовало бы и на постоялом дворе Троицкого монастыря, это существенно уменьшило бы число паломников и паломниц в этой обители.
Пока я рассматривал надписи на безвкусном обелиске, воздвигнутом посреди двора митрополитом Платоном, Калино подвел ко мне обнаруженного им молодого монаха, говорившего по-французски; однако никто в монастыре не знал об этом, и монах, питая надежду, что ему не придется раскаяться в горячем желании познакомиться со мной, умолял меня не разглашать тайну, которая могла бы сильно повредить ему в глазах начальства.
Как выяснилось, еще два месяца назад монастырские власти были предупреждены о моем приезде в Санкт-Петербург, и им было предписано, в случае если я появлюсь в Троицком монастыре, опасаться меня.
Я до сих пор не могу понять, в связи с чем у них должны были появиться опасения на мой счет.
Пока мы разбирались в этом, к нам присоединился Нарышкин; он был не прочь лично удостовериться в существовании достопамятного распила, который палач Петра I оставил на надгробном камне Лопухина.
Когда он увидев этот распил собственными глазами, его уважение ко мне значительно возросло.
Его приход преследовал еще одну цель: напомнить нам, что пора завтракать. У нашего милого боярина была твердая привычка: в любых жизненных обстоятельствах считать часы трапезы священными.
Мы вернулись в монастырскую гостиницу и, по-прежнему благодаря Дидье Деланжу, обнаружили там великолепный завтрак.
Я выразил желание съездить в Вифанский монастырь – место рождения отца и матери святого Сергия.
Поскольку дороги туда были не очень хорошие, Дидье Деланж не счел уместным рисковать каретой своего хозяина. И потому он раздобыл нам средство передвижения, совершенно новое для меня, хотя и весьма распространенное в России: тарантас.
Вообразите себе огромный паровозный котел, поставленный на четыре колеса, с окном в передней части, чтобы обозревать пейзаж, и отверстием сбоку, чтобы туда проникать.
Подножка для тарантаса пока еще не изобретена; в наш мы попадали с помощью приставной лесенки, которую в зависимости от надобности убирали или прилаживали.
Когда пассажиры втиснулись внутрь, лесенку прицепили к борту.
Поскольку тарантас никоим образом не подвешен на рессорах и не имеет скамеек, он устлан изнутри соломой, которую особо щепетильные пассажиры вольны сменить. Если поездка предстоит долгая и едут своей семьей, то вместо соломы постилают два или три тюфяка, благодаря чему можно сэкономить на ночлегах в постоялых дворах и ехать днем и ночью.
В тарантасе могут свободно поместиться от пятнадцати до двадцати пассажиров.
Увидев это безобразное устройство, имеющее некоторое сходство с коровой Дедала или быком Фалариса, Муане и Калино заявили, что, поскольку расстояние, которое надо преодолеть, составляет всего лишь три версты, они пройдут его пешком.
Что же касается Нарышкина, то он, стоя на балконе и с насмешливым видом глядя на нас своими славянскими глазами, пожелал нам всяческих удовольствий.
– Признайтесь, – сказал я Женни, помогая ей вскарабкаться в тарантас, – он вполне заслужил, чтобы мы поймали его на слове.
Нам пришлось потратить добрых три четверти часа, чтобы проехать три версты по отвратительной дороге, хотя и среди прелестного ландшафта. И потому, когда мы прибыли на место, оказалось, что Муане и Калино появились там за двадцать минут до нас.
Читатель уже знает мое мнение о прославленных достопримечательностях, которые посещают, чтобы увидеть их, а главным образом, чтобы иметь потом возможность сказать: "Я это видел".
Вифанский монастырь относится к числу таких достопримечательностей.
В его церкви находится гроб, который святой Сергий променял на позолоченную раку; гробница архиепископа Платона и его портрет на смертном одре; нечто вроде природного алтаря – с ручейками, лужайками и деревьями, где пасутся всевозможные животные, и картина на религиозный сюжет, привезенная из Италии Суворовым – тем самым, скульптура которого, изображающая его в виде Ахилла, стоит возле Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.
После посещения церкви нам осталось осмотреть жилище знаменитого митрополита Платона, которого в современной России, как мне показалось, явно склонны ставить выше его древнегреческого тезки.
Впрочем, это совсем простой небольшой дом, над входом в который начертано истинно христианское пожелание:
«Кто б ты ни был, входящий, да благословит тебя Господь!»
За исключением шкафа, подаренного Людовиком XVI, и занавесей, вышитых Екатериной И, вся обстановка в доме отличается крайней простотой.
В спальне, возле кровати, висит на гвозде соломенная шляпа почтенного митрополита.
С другой стороны, симметрично ей, помещена рамка с французским четверостишием одного русского поэта; я не выдаю его вам за удачное, поймите меня правильно, а просто привожу его таким, какое оно есть:
Муж редкого ума и Церкви лучший сын,
Он в святости своей – подобье Аарона.
Как Златоуст речист, он мудр, как Августин, Благоговение внушая, как икона.[10]
БЕЛОСЕЛЬСКИЙ.
Если бы вы сочинили это четверостишие, любезный читатель, вы бы не стали его подписывать, и я тоже.
Правда, если бы вам велели сочинить по-русски то, что написал по-французски г-н Белосельский, вы оказались бы в чрезвычайно затруднительном положении.
Но у вас было бы перед ним то преимущество, что вы не стали бы этого делать.
LVII. ДОРОГА В ЕЛПАТЬЕВО
На следующий день, завершив доскональный осмотр Троицкого монастыря и оставив там Муане, чтобы он мог сделать все зарисовки, какие ему будет угодно, мы отправились в путь.
Из Троицкого монастыря в Елпатьево ведут две дороги, если, конечно, их можно назвать дорогами.
Для того чтобы увидеть нашими четырьмя глазами и ту, и другую – два глаза Калино в расчет не принимались, – между нами было решено, что Муане поедет по той из них, которую я отвергну. У него были законные основания полагать, что на своей телеге он проедет всюду.
Ему досталась дорога вдоль озера.
Пусть не ждут от меня никаких сведений об этом озере, кроме одного: в нем водятся сельди точно такого же вида, что и в океане.
Я взял с Муане обещание, что он отведает их, чтобы проверить этот факт. Что же касается Калино, то, будучи малороссом, он никогда не ел сельдей, и на него нельзя было полагаться в этом вопросе.
Наша дорога считалась лучшей, и это давало нам ясное представление о том, какой же была та, по которой следовал Муане.
Впрочем, благодаря ей я получил возможность увидеть нечто любопытное и прежде мне совершенно неизвестное: дорога была проложена по трясине и состояла из сосновых бревен, уложенных рядом и скрепленных друг с другом. В ширину она имела футов тридцать.
Двигаясь по этому зыбкому настилу длиной более версты, сотрясавшемуся под копытами наших лошадей и колесами нашего экипажа, я искренне пожалел, что Муане нет рядом: мне хотелось, чтобы он зарисовал такую необычную дорогу. По приезде в Елпатьево выяснилось, что мое желание исполнено как нельзя лучше: первое, что показал мне Муане, было зарисовкой болота и гати, тех самых, какие – я готов был поклясться в этом – видели мы. На самом деле, то были просто похожее болото и похожая гать. Нарышкин уверял нас, что в России множество таких болот и гатей и что мы напоминаем ему детей, которые, впервые попав на берег моря, набивают себе карманы галькой.
Дидье Деланж предупредил нас, что нам предстоит взобраться на песчаную гору, по которой забыли проложить настил из сосен, и там мы столкнемся с трудностями.
Мы ежеминутно спрашивали Деланжа:
– Так мы уже у песчаной горы?
– Нет-нет! – отвечал Деланж. – Когда вы окажетесь там, вы ее сразу увидите.
На второй почтовой станции в нашу карету впрягли восемь лошадей вместо четырех, и нам стало понятно, что мы приближаемся к malo sitio[11], как говорят в Испании.
С нашей восьмеркой лошадей мы мчались сначала как ветер и вид у нас был, как у его величества всероссийского императора.
После получаса этой великолепной езды мы увидели зиявшую на холме небольшую желтую борозду, тянувшуюся вверх.
– Так вот этот уклон вы и называете песчаной горой, Деланж? – спросил я.
– Именно его.
– Надо же! Я ожидал увидеть нечто вроде Монмартра или Чимборасо, а выходит, ради этого бугорка вы распорядились впрячь в карету восьмерку лошадей?
– Да, ради него, и дай Бог, чтобы нам не пришлось впрячь еще восемь!
Тогда я еще не видел в Сураме шестидесяти двух волов, впряженных в карету английского посла в Персии, и потому счел шестнадцать лошадей чрезмерной роскошью для четырех человек.
– Ба! – сказал я Деланжу. – Будем надеяться, что мы обойдемся дюжиной.
– Пошел! Пошел! – крикнул кучеру Нарышкин.
Кучер хлестнул лошадей, которые увеличили скорость и довольно лихо въехали на склон горы; но вскоре они замедлили бег, с галопа перешли на рысь, потом пошли шагом и, наконец, совсем остановились.
– Что такое? – спросил я.
– Да ничего: приехали! – сказал Деланж.
Я высунулся из кареты: лошади стояли в песке по брюхо, карета – по кузов.
– Черт возьми! – воскликнул я. – Кажется, срочно нужно разгрузить карету.
С этими словами я открыл дверь и спрыгнул на землю. Но, едва коснувшись песка, я испустил крик.
– Что случилось? – испуганно спросила Женни.
– А то, – ответил я, цепляясь за подножку кареты, – что я вот-вот исчезну в зыбучих песках, ни дать ни взять как граф Эдгар Равенсвуд, если вы не подадите мне руку.
Три руки вместо одной потянулись ко мне; я ухватился за самую сильную из них и сумел ступить на подножку.
– Ну как, – спросил Деланж, – что вы скажете о моей песчаной горе?
– Я скажу, дорогой друг, что она скорее глубока, чем высока. Но дело не в этом; нужно покинуть карету и выбраться на твердую почву.
– Как это? – спросила Женни, уже начавшая беспокоиться.
– О! Не бойтесь, – успокоил я ее, – мы будем следовать закону, который действует на терпящих бедствие кораблях, и сначала спасем женщин.
– Прежде всего, я не спущусь, – сказала Женни.
– Вот увидите: вы спуститесь и доберетесь до твердой почвы столь же легко, как трясогузка.
– Ничего другого я не прошу, если вы обеспечите мне безопасность.
– Прежде всего встаньте, прелестная сильфида. Вставай и ты, толстый лентяй!
Женни и Нарышкин встали.
– Вот у нас уже четыре подушки, еще две возьмем с козел, итого шесть. Подайте мне две эти подушки, Деланж. Так, превосходно.
Нарышкин смотрел на мои действия, ничего не понимая.
Я взял подушку и решительно положил ее на песок возле подножки, вторую кинул подальше, а третью еще дальше.
– А! Понимаю, – сказала Женни. – Дорогой друг, теперь меня не удивляет, что вы сочиняете романы: у вас бездна воображения.
Я взял в охапку три остальные подушки и, пользуясь первыми тремя, установил если и не мост, то, по крайней мере, опоры моста, последняя из которых почти касалась твердой почвы.
– Пойдемте, – сказал я Женни.
Перепрыгивая с подушки на подушку, как трясогузка скачет с камня на камень, она добралась до твердой почвы и закричала от радости.
– Ну вот, женщины спасены! Теперь займемся стариками: твоя очередь, Нарышкин.
– Старик, старик, – пробурчал он. – Я на два года моложе тебя.
– Это еще не значит, что ты не старик, не правда ли, Женни?
Женни засмеялась, но не ответила.
Я последовал за Нарышкиным. Деланж двинулся за мной, подбирая за собой подушки.
– Ну и что мы будем делать теперь? – поинтересовался Нарышкин. – Экий же ты болван, Деланж! Почему ты не выбрал другую дорогу?
– Прежде всего, не ворчи, боярин, и присядь; тут три подушки для тебя одного, две для Женни и одна для меня. Как видишь, с тобой обходятся в соответствии с твоим рангом.
– Со всеми этими задержками мы не доберемся к обеду.
– Ну, значит, доберемся к ужину, это предусмотрено.
Затем, обратившись к Деланжу, я сказал:
– Деланж, дружище, вы говорили о дополнительных восьми лошадях, не так ли?
– О, я думаю, хватит и четырех.
– Хорошо, остановимся на четырех, Деланж, но приведите двух мужиков и пусть они возьмут с собой доску.
– Слепо вам повинуюсь, – ответил Деланж.
– Хотел бы я знать, что ты собираешься делать с этой доской, – заметил Нарышкин.
– Это тебя не касается: я назначил себя капитаном тонущего корабля, и спасательные работы – мое дело.
Деланж велел кучеру выпрячь одну из лошадей и стал с такой силой тянуть ее за повод, что в конце концов вытащил ее на твердую почву.
Как только лошадь прочно стала на ноги, Деланж вскочил на нее и помчался во весь опор.
– Да, кстати, – крикнул я ему вслед, – захватите веревки, покрепче и подлиннее!
Десять минут спустя Деланж вернулся с четырьмя лошадьми, двумя мужиками, веревками и доской.
– Ну вот, теперь у тебя все, что нужно, – сказал мне Нарышкин, – надеюсь, ты вытащишь нас из этого положения.
– Если только ты не пожелаешь выбраться из него сам.
– Нет, черт возьми, ты же сказал, что это твоя забота.
– Тогда молчать в строю и слушать мою команду! Деланж, устройте с помощью этой доски переправу от нас к карете. Прекрасно! А теперь поставьте ваших мужиков на доску, сами встаньте на подножку и освободите карету от всего, что ее утяжеляет.
– Хорошо, – сказал Деланж, – понял.
– Образуйте с мужиками цепочку.
Началась разгрузка экипажа. Через минуту чемоданы и дорожные шкатулки оказались возле нас: всего набралось около двухсот килограммов, которые не должны были нас больше заботить.
– А теперь? – спросил Деланж.
– А теперь распрягите лошадей.
– Всех?
– Всех!
– Так ты собираешься сам тащить карету? – спросил Нарышкин.
– Может быть.
Он пожал плечами.
– Лошади распряжены, – доложил Деланж.
– Попробуйте высвободить их из песка.
Лошади, которым уже не нужно было ничего тащить, выбрались оттуда, подстегиваемые ударами кнута. Их вывели на твердую почву, где уже стояли мы.
– А теперь внимание, Деланж!
– Слушаю.
– Привяжите к карете на всю длину веревки четверку свежих лошадей, а к ним – восемь усталых.
– Честное слово, – сказал Деланж, – я полагаю, господин Нарышкин, что дело все же пойдет.
– Еще бы! – откликнулся я.
Четверку свежих лошадей впрягли в тяжелую карету на всю длину веревки, а к ним припрягли восемь усталых.
Двенадцать лошадей стояли на твердой почве. Они могли бы сдвинуть с места 80-фунтовую пушку и при первой же попытке сдвинули карету.
– Ну, как? – спросил я Нарышкина.
– Хитро придумано! – ответил он.
– Сам знаю: это колумбово яйцо.
Потом я обратился к Деланжу:
– Теперь пусть ваши мужики отнесут на руках на ту сторону горы чемоданы и ящики, а вы сами поднимайтесь вверх, удерживая на твердой почве по крайней мере четырех лошадей, остальные же пусть выкарабкиваются как могут.
– А мы, что же, пойдем пешком? – спросил Нарышкин.
– Неужели тебе трудно пройти пешком полчетверти версты?
– Но мне кажется, что, когда есть экипаж, незачем идти пешком.
– О мой друг! Какое заблуждение! Я никогда столько не ходил пешком, как в те времена, когда у меня были экипажи!
На другой стороне горы карета покатилась как по маслу; багаж снова погрузили, и мы заняли свои места.
– Ну, а теперь, – сказал я Нарышкину, – дай этим славным людям четыре рубля.
– Ни копейки! Почему они не содержат дороги в лучшем состоянии?
– А почему Россия – такая страна, где в реках недостаточно воды, а на дорогах слишком много песка? Дай им четыре рубля, или я дам восемь, и тогда знатным барином буду я, а ты не будешь даже поэтом.
– Деланж, дай им двенадцать рублей, и пусть катятся ко всем чертям!
– Деланж, дайте им двенадцать рублей и скажите, что князь благодарит их и желает им всяческих благ.
– Я не князь. Будь я князь, я велел бы избить их палками, и ничего другого они от меня не получили бы.
– Вот первое разумное слово, которое ты произнес за целый день; пусть Женни поцелует тебя в награду за труд.
– Как мило! Значит, это я должна платить за разбитые горшки!
– Платите, платите, Женни; чем больше женщины платят этой монетой, тем больше им остается!
Не знаю, есть ли на свете человек более ворчливый и одновременно более благородный, великодушный и щедрый, чем Нарышкин.
Поверьте, русский боярин старого закала, цивилизованный француженкой, – это прекрасно.
Наши два мужика и восемь лошадей отправились к себе домой, а мы, уже без всяких новых происшествий, продолжили свой путь.
Однако, вместо того чтобы прибыть в Елпатьево в шесть вечера, мы прибыли туда в девять и вместо обеда сели за ужин.
Все, что мы видели по дороге уже при лунном свете, показалось мне чрезвычайно красивым: мост, речка, крутая гора, где, вместо того чтобы увязнуть в песке, мы чуть было не покатились кувырком вниз, и наконец, аллеи огромного парка, по которым мы четверть часа ехали до господского дома.
У дверей нас ждали Кутузов, Карпушка, Семен и еще около дюжины мужиков, желавших знать, как себя чувствует их барин.
Барин чувствовал себя отлично, но он умирал от голоду и потому довольно неприветливо принял знаки почтения со стороны своих смиренных подданных.
Но позади него шла Женни, и я думаю, что, вернувшись к себе домой, они вряд ли пожалели о потерянном дне.
После ужина, делавшего честь Кутузову, мы осмотрели свои комнаты.
Кутузов оказался на высоте, но Деланж превзошел самого себя.
В ста пятидесяти верстах от Москвы, в затерянном краю на берегу Волги, в барском доме, двадцать лет стоявшем нежилым, без всякой подготовки было устроено все, что необходимо для жизни не просто комфортной, но и роскошной.
У себя в комнате в Елпатьеве я обнаружил все свои туалетные принадлежности из Петровского парка – от зубной щетки до тульского стакана с ложечкой.
Пока мы завтракали в Петровском парке, Деланж все это упаковал по приказанию Женни и уложил в карету.
Добавлю, что, когда я уезжал из Елпатьева, все это было по ее же приказанию упаковано снова, как и при отъезде из Петровского парка. Так что сегодня, 16 июля 1861 года, сидя за этими строками на другом конце Европы, на террасе дворца Кьятамоне, я пью воду со льдом, подкрашенную неаполитанской самбукой, из того самого стакана, из которого я пил московский мед в Петровском парке и в Елпатьеве.
На следующий день, на рассвете, мы с Женни пробежались по парку и на лужайке спустили со сворки двадцать двух борзых, о существовании которых Нарышкин даже не подозревал.
В одиннадцать часов нас ожидала охотничья повозка; лишь в России я видел подобного рода экипажи, чрезвычайно удобные. Это длинный и очень низкий шарабан, в котором сидят спиной к бортам, как на империале наших омнибусов. В нем помещаются четыре, шесть или даже восемь человек, в зависимости от длины экипажа, ширина которого всегда одинаковая, каким бы ни было число охотников, и который может проехать по любой дороге, а благодаря своей небольшой высоте никогда не опрокидывается.
В ту минуту, когда мы должны были тронуться в путь, во двор вышел миниатюрный охотник, на которого мы не рассчитывали. Это была Женни: никого не предупредив, она заказала себе в Москве ополченский наряд наподобие моего и, с ружьем за плечом, явилась требовать своей доли в наших охотничьих забавах.
Нам нужно было проехать около версты. Охота началась при выезде из парка, и дичь, которую не тревожил никто, кроме Семена, не была пуглива.
Впрочем, этот край России, суровой к своим детям, природа явно не наделила особым плодородием. Я уже говорил, как мало здесь птиц. Известно, что и плотность населения здесь меньше, чем в любой другой стране мира, если не считать необитаемых широт. Этот общий закон пустынности распространяется и на дичь: ее встречается здесь куда меньше, чем должно было бы быть.
Правда, этот недостаток возмещается тем, что здесь множество волков, а подняв глаза к небу, трудно не увидеть, даже в Москве, парящего в воздухе коршуна, сокола или ястреба.
Правда и то, что волк охотится не только за косулями и зайцами, но и за другой добычей: с наступлением зимы, когда выпадает снег, приходит голод, и волк охотится за охотником.
Несколько лет тому назад зима была такой суровой, что, в соответствии с поговоркой "Голод и волка из лесу гонит", волки вышли из лесов и, подступив к деревням, нападали не только на домашний скот, но и на жителей.
Перед лицом подобного нашествия правительство приняло решительные меры.
Стали устраиваться облавы, и за каждый предъявленный волчий хвост выплачивалась награда в пять рублей.
Было предъявлено сто тысяч волчьих хвостов, за которые уплатили пятьсот тысяч рублей, то есть два с половиной миллиона франков.
Потом стали разбираться, наводить справки, произвели расследование и обнаружили в Москве фабрику по изготовлению волчьих хвостов.
Из одной волчьей шкуры, стоившей десять франков, выделывали от пятнадцати до двадцати хвостов, которые стоили уже триста пятьдесят – четыреста франков; как видим, во сколько бы ни обходилась рабочая сила, прибыль составляла три с половиной тысячи процентов.
Тем не менее у нас были все необходимые условия для удачной охоты. Около сотни крестьян служили нам загонщиками, а охотников было всего двое – Нарышкин и я.
Правда, зайцы, попадавшиеся мне навстречу, вначале не внушали мне особого желания стрелять в них: одни были совсем белые, другие – белые на три четверти.
Это напоминало облаву на ангорских кошек.
К великой радости Нарышкина, на первых трехчетырех выстрелах я промахнулся, ибо такой цвет меня не воодушевлял.
Бедные животные уже начали менять к зиме окраску своего меха.
Русские зайцы, которые относятся не совсем к тому же виду, что и наши, и мех которых скорее сероватый, как у кроликов, чем рыжеватый, как у зайцев, зимой, о чем всем известно, меняют свою окраску и становятся белыми как снег.
Это защита от врагов, которой снабдила их предусмотрительная природа.
Мы охотились четыре или пять часов и убили около двух десятков этих зверьков.
Огромное имение Нарышкина, шестьдесят или восемьдесят тысяч арпанов земли, возделано едва ли на четверть: везде нехватка рабочих рук, везде человек не в состоянии справиться с землей, а между тем земля хороша, и всюду, где всходят посевы, урожай прекрасный.
У Нарышкина есть еще одно имение, расположенное под Казанью, на берегу Волги; оно больше елпатьев-ского – в нем около ста тысяч арпанов.
Итак, восемьдесят тысяч арпанов земли, предоставленной самой себе и производящей лишь сено. А сколько платят за сено? Две копейки за дюжину вязанок, меньше двух су!
Россия способна прокормить в шестьдесят или в восемьдесят раз больше жителей, чем она имеет сейчас. Но Россия останется ненаселенной и не располагающей к заселению до тех пор, пока будет существовать закон, запрещающий иностранцам владеть землей.
Что же касается закона об отмене рабства, который должен удвоить если не число работников, то хотя бы объем производимой работы, то понадобится, по крайней мере, пятьдесят лет, прежде чем можно будет ощутить первые его результаты.
В течение недели, проведенной мною в Елпатьеве, мы охотились трижды.
В двух последних охотах участвовали Муане и Калино. И всякий раз мы проезжали целые версты невозделанной степи, три четверти которой не производят даже сена и на которой растет только никому не нужный вереск.
Я посоветовал Нарышкину превратить эти земли хотя бы в пастбища.
– Хорошо! – сказал он. – Это чтобы говорили: "Порций Нарышкин", как говорят: "Порций Катон".
LVIII. ВНИЗ ПО ВОЛГЕ
Как ни удерживал я время, пытаясь остановить его бег, оно, к великому моему отчаянию, неумолимо двигалось: часы летели, следом за часами бежали дни, за днями – недели. Прошло уже больше месяца, как я приехал в Москву. Я предполагал пробыть там всего лишь две недели, а пробыл месяц. В Елпатьеве я рассчитывал остаться на три-четыре дня, а находился там уже неделю.
Однако Нижегородская ярмарка, открывшаяся 15 августа, длилась только до 25 сентября. И потому мне надо было расстаться с моими добрыми и дорогими друзьями, с которыми я охотно провел бы всю жизнь.
Было решено, что я отправлюсь в путь вечером 13-го, в субботу.
Хотя небо было великолепным и комета пышно распустила свой огненный хвост, затмевая звезды, холод уже начал давать о себе знать, и возникало опасение, что Волга замерзнет прежде, чем я завершу свое плавание.
Пропустить пароход, прибывавший в Калязин в воскресенье утром и совершавший рейс от Твери до Нижнего Новгорода, значило задержаться на неделю, а эта неделя могла тяжелейшим образом сказаться в конце нашего путешествия.
К тому же нас почти всюду ждали: в Москве один молодой офицер, отвечавший за лагерное расположение войск, вручил мне бумагу, согласно которой меня должны были снабдить в Казани полковничьей палаткой.
Там же, в Москве, богатый астраханский купец, г-н Сапожников, заранее написал своему управляющему, чтобы тот предоставил в мое распоряжение его дом, лучший в городе.
И, опять же в Москве, очаровательная графиня Ростопчина написала, как я уже, кажется, упоминал, князю Барятинскому, чтобы предупредить его о моем приезде на Кавказ.
Затем, уже в Елпатьеве, нас навестило множество гостей, и в их числе был полковой хирург калязинского гарнизона, взявший с нас слово, что, не предупредив его, мы не сядем на пароход.








