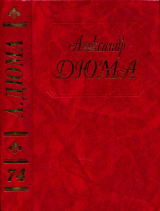
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Сокольники тотчас дали соколам в награду за их безупречное поведение по окровавленному куску мяса, которые они достали из своих кожаных сумок, висевших у них на поясе.
Скажем, однако, что победа сокола, который одолел лебедя, упавшего в степь, была менее яркой, чем у его соперника.
Впрочем, живописное зрелище этой охоты, окрашенное, благодаря нарядам наших калмыков, восхитительным колоритом средневековья, было знакомо мне и раньше: я уже охотился так однажды вместе с одним из моих друзей, у которого был великолепный соколиный двор в Компьенском лесу, и пару раз в замке Ло, вместе с королем и королевой Голландии.
Что касается князя Тюменя, то у него тоже был отличный соколиный двор, который состоял из дюжины отборных соколов, взятых еще птенцами и обученных сокольниками.
Поскольку хищные птицы не дают потомства в неволе, приходится ловить их дикими, так что, помимо дюжины обученных соколов, у князя всегда имеется еще десяток, проходящих обучение.
Хорошо обученный сокол стоит от трех до четырех тысяч франков.
Охота увлекла нас на расстояние около одного льё от дворца. Было пять часов вечера. Обед – совершенно излишняя роскошь после завтрака, съеденного нами в полдень, – ждал нас к шести часам. Мы возвращались вдоль берега реки, что давало нам возможность еще раз посмотреть на наших соколов в действии.
И в самом деле, вскоре на наших глазах в воздух поднялась прекрасная серая цапля, и, хотя она взлетела на большом расстоянии от нас, сокольники сняли с соколов клобучки, и птицы взмыли вверх в полете, который можно уподобить только полету молнии.
У цапли, атакованной сразу двумя врагами, почти не было надежды на спасение, однако она попыталась защищаться, о чем лебеди даже не помышляли.
Правда, ее длинный клюв – это страшное оружие, на которое иногда накалывается даже она сама, падая с высоты, но, то ли ее собственная неловкость была тому причиной, то ли искусность ее противников сделала свое дело, уже через мгновение цапля упала на землю, где благодаря проворству одного из сокольников она была взята в плен живой и почти без всяких ран.
Птице спасли жизнь, и, с обрезанным крылом, ей суждено было служить украшением птичьего двора князя.
Это удивительно, но крупные перелетные птицы, такие как аисты, журавли и цапли, необычайно легко поддаются приручению.
Оба сокола получили еще по небольшому куску окровавленного мяса и казались вполне довольными своей судьбой.
Мы прибыли во дворец, где, как я уже сказал, нас ждал обед.
Гомеровское изобилие и гостеприимство Идоме-нея – ничто в сравнении с гостеприимством и изобилием, которые предложил нам калмыцкий князь.
Один лишь список блюд, из которых состоял обед, и список вин, предназначенных орошать их, занял бы целую главу.
Во время десерта княгиня Тюмень и ее придворные дамы встали из-за стола.
Я хотел было сделать то же самое, но г-н Струве, действуя от имени князя, попросил меня остаться на месте, ибо это временное отсутствие княгини и ее придворных дам входило в программу праздника и готовило нам какой-то сюрприз.
Князь взял на себя обязанность развлекать и занимать нас, и делал это с таким умением, что нам оставалось лишь предоставить ему полную свободу действий, а точнее, предоставить события их естественному ходу.
И в самом деле, через четверть часа после ухода княгини и ее придворных дам появился церемониймейстер, облаченный в то же красное одеяние, в том же желтом капюшоне на голове и с тем же жезлом в руке, и сказал несколько слов на ухо своему повелителю.
– Господа! – произнес князь. – Княгиня приглашает нас к себе на кофе!
Приглашение было слишком своевременным, чтобы не быть с готовностью принятым.
Я предложил руку княжне Грушке, которую ее европейское платье ставило в один ряд с цивилизованными дамами, и мы под предводительством князя Тюменя последовали за церемониймейстером.
Выйдя из дворца, мы направились к небольшой группе шатров, стоявших шагах в тридцати от главного здания.
Эта группа шатров, к которой мы шли, представляла собой загородный дом княгини с его службами, а вернее, это было ее любимое жилище, ее национальная кибитка, которую она предпочитала всем каменным зданиям на свете, когда-либо построенным, – от дворца Семирамиды до китайского дома г-на д’Алигра.
Там нас ждало поистине любопытное зрелище, там мы вступали в подлинную Калмыкию.
Шатры княгини – их было три, и они соединялись между собой: первый служил прихожей и залом ожидания, второй – гостиной и спальней, третий – умывальной и гардеробной – так вот, повторяю, эти три шатра были несколько больше жилищ простых калмыков, но имели точно такую же форму и снаружи их покрывала точно такая же ткань.
Что же касается внутреннего убранства, то здесь уже было существенное отличие.
Средний шатер, то есть главный, освещался сверху, как это было принято, через круглое отверстие в крыше, но внутри весь был обтянут красным узорчатым шелком; пол покрывал великолепный ковер из Смирны, а внутренний проход в помещении был выстлан вышитым войлоком из Хорасана.
Напротив входа в шатер находилась огромная тахта, служившая диваном днем и постелью – ночью; у ее изголовья и изножья стояли похожие на две этажерки, уставленные китайскими безделушками, два алтаря, посвященные далай-ламе; над этими алтарями, в воздухе, насыщенном благовониями, колыхались знамена, флаги и вымпелы всевозможных цветов.
Княгиня восседала на тахте, а у ее ног, на ступеньках, по которым можно было взойти на это подобие трона, находились ее двенадцать придворных дам, пребывавших в тех же позах, в каких они предстали перед нами впервые, – то есть сидевших на собственных пятках и впавших в состояние своей изначальной неподвижности.
Признаться, в ту минуту я отдал бы все на свете, чтобы иметь с собой фотографа, который мог бы за несколько секунд запечатлеть всю эту картину, такую странную и вместе с тем такую живописную.
По всей внутренней окружности шатра были приготовлены подушки, чтобы мы, в свой черед, могли сесть там на корточках; однако, поскольку ширина тахты позволяла оказать такую любезность, княгиня поднялась, когда мы вошли, и пригласила наших спутниц сесть рядом с ней.
Не стоит и говорить, что князь все это время особенно старательно оказывал внимание дамам и проявлял учтивость и галантность, которых они определенно не могли бы ожидать от банкира с Шоссе д’Антен или от члена Жокей-клуба.
Принесли чай и кофе – на этот раз настоящий чай и настоящий кофе, – которые были поданы по-турецки, то есть на полу.
Я позаботился выяснить, не калмыцкий ли это чай и кофе, но мне ответили, что это кофе мокко и китайский чай.
Когда кофе был выпит, одной из придворных дам принесли балалайку – что-то вроде русской гитары с тремя струнами, из которой она стала извлекать несколько унылых и монотонных звуков наподобие тех, какие можно услышать в Алжире, где их извлекают из похожего инструмента.
При первых же нотах – если подобные звуки могут быть названы нотами – вторая придворная дама встала и принялась танцевать.
Я употребил слово "танцевать" лишь потому, что ни в письменной, ни в устной моей речи мне не удалось найти более подходящего выражения; дело в том, что подобные телодвижения нельзя назвать танцем. Это были наклоны туловища и кружения, изображавшие некую томительную пантомиму, которую танцовщица исполняла без всякой тени чувственности, изящества и удовольствия.
Минут через десять танцовщица вытянула руки, встала на колени, обращаясь с призывом к какому-то невидимому духу, поднялась, еще раз повернулась вокруг себя и подошла к другой придворной даме, которая встала, уступив ей свое место, и заменила ее в танце.
Вторая танцовщица произвела в точности те же движения, что и первая; затем ее заменила третья, которая принялась выполнять те же упражнения без каких бы то ни было изменений.
Я уже начал всерьез опасаться, что все двенадцать придворных дам имеют одно и то же предписание и будут сменять одна другую, вследствие чего нас ожидает до самой полуночи череда несколько однообразных развлечений, но после третьей танцовщицы, поскольку чай и кофе были выпиты, княгиня встала, сошла со ступенек, подала мне руку, и мы вышли.
Само собой разумеется, что двенадцать придворных дам, тотчас вскочившие как по команде, зашагали вслед за княгиней и вернулись во дворец такой же степенной походкой, как и их повелительница.
Воспользовавшись нашим отсутствием, дворец иллюминировали.
Гостиная сияла огнями, отражавшимися в великолепных зеркалах и граненых хрустальных люстрах, явно привезенных из Франции.
У одной из стен гостиной стоял рояль от Эрара.
Я спросил у князя, играет ли кто-нибудь в доме на фортепьяно. Он ответил, что нет, но, насколько ему известно, во Франции не существует гостиной без рояля – увы, он сказал правду! – и ему тоже захотелось иметь рояль у себя.
Впрочем, этот рояль, прибывший всего лишь месяц назад, еще совершенно не был в употреблении, и его только накануне настроил мастер, которого князь специально вызвал из Астрахани, на тот случай, если кто-нибудь из гостей, которых он ожидал, умеет играть на этом экзотическом инструменте.
Три наши дамы умели играть на фортепьяно.
Чтобы ответить любезностью на любезность, только что оказанную нам княгиней, я попросил Калино, большого мастера русской пляски, исполнить национальный танец.
Калино ответил, что он готов, если одна из дам пожелает выступить с ним в паре.
Сделать это вызвалась г-жа Петриченко. Мадемуазель Врубель села за фортепьяно.
Калино и его партнерша встали друг против друга.
Если некоторые стороны университетского образования Калино были упущены, то его врожденные способности к танцевальному искусству, напротив, получили огромное развитие.
Калино танцевал "русскую" с таким же совершенством, с каким за шестьдесят лет до этого Вестрис танцевал гавот.
Он привел в восхищение присутствующих и получил похвалу от княгини.
После этого было решено устроить французскую кадриль.
Мадемуазель Врубель, которая была в трауре и не танцевала, осталась за фортепьяно, звуки которого явно доставляли большое удовольствие княгине.
Госпожа Давыдова и г-жа Петриченко, приглашенные Курно и Калино, встали на свои места.
Княгиня, уже весьма возбужденная русской пляской, пришла в совершенный восторг от французского танца. Она то и дело поднималась со своего кресла, глядела на танцующих своими сияющими глазами, наклоняясь то вправо, то влево, чтобы лучше разобраться в танцевальных движениях, аплодировала, когда танцоры выполняли сложные фигуры, и приоткрывала в улыбке свой прелестный свежий ротик сердечком. Наконец, когда закончилась последняя фигура, княгиня подозвала князя и сказала ему несколько слов шепотом, но с большим жаром.
Мне стало понятно, что она просит у него разрешения танцевать.
Я обратил на это внимание г-на Струве, которому, на мой взгляд, вполне естественно было бы выступить посредником в таком важном деле. Господин Струве, в самом деле, взял на себя это поручение и выполнил его настолько успешно, что у меня на глазах предложил княгине руку и стал в позицию для следующей кадрили.
Но оставались еще придворные дамы, которые смотрели на княгиню глазами, полными зависти.
Я кивнул Калино и отправился спросить князя, не будет ли нарушением калмыцкого этикета, если придворные дамы примут участие в той же кадрили, что и княгиня.
Князь был явно расположен идти на уступки; если бы в эту минуту у него попросили конституцию для его народа, он дал бы ее не раздумывая.
Он разрешил общий танец.
Когда бедные придворные дамы узнали эту счастливую новость, они сразу же стали подбирать юбки, как для езды верхом, но княгиня одним взглядом умерила их восторги.
Калино подал руку одной из придворных дам, Курно – другой; двое или трое молодых русских, приехавших из Астрахани вместе с нами, тоже выбрали себе партнерш; г-жа Давыдова и г-жа Петриченко взяли на себя роль кавалеров еще для двух дам; наконец, две последние, которым не хватило кавалеров, составили пару и заняли место в общем хороводе.
Музыка дала сигнал к началу.
За свою жизнь я брался рассказывать о многом и даже, полагаю, о том, о чем рассказать невозможно, но рассказать об этом танце я не возьмусь.
Никогда еще такая неразбериха, такая толкотня, такая суматоха не представали глазам европейца. Фигур танца не было и в помине; когда требовалось идти направо, все двигались налево; все вращения совершались в противоположном направлении; одна из танцующих упорно держалась в цепочке дам, тогда как другая стремилась выказать свое расположение одному-единственному кавалеру; калмыцкие головные уборы падали и катились по полу, как уланские шапки на поле битвы; все натыкались друг на друга и наступали на ноги кому попало; все смеялись, кричали и плакали от восторга.
Князь держался в стороне. Я взобрался на кресло в углу, откуда мне было видно все, и просунул руку в подхват шторы, чтобы не упасть.
Смех уже переходил в судорожный хохот.
Только от мадемуазель Врубель зависело, продлится ли это безумие всю ночь: для этого ей нужно было лишь беспрерывно играть до самого рассвета.
В конце концов танцоры и танцорки попадали бы замертво на пол, но, несомненно, не остановились бы, пока они могли держаться на ногах.
Княгиня пребывала в таком восторженном состоянии, что, вместо того чтобы вернуться на свое место, она бросилась на шею мужу.
Она сказала ему по-калмыцки какую-то фразу, которую я имел нескромность попросить перевести.
Эта фраза в дословном переводе звучит следующим образом: "О друг моего сердца! Я никогда в жизни так не веселилась!"
Я был совершенно одного мнения с княгиней, и мне тоже очень хотелось бы иметь возможность сказать кому-нибудь: "О друг моего сердца! Я никогда в жизни так не веселился!"
Наконец все успокоились. После подобных упражнений было бы нелишне отдохнуть часок.
Тем временем произошло событие, в реальность которого я какое-то время никак не мог поверить, настолько трудно мне было внушить самому себе, что все это происходит на самом деле.
Князь в сопровождении г-на Струве подошел ко мне, держа в руках альбом.
Он попросил меня набросать в альбом несколько стихотворных строк, обращенных к княгине и способных запечатлеть для грядущих веков мое недолгое пребывание в Тюменевке. (Так называлось владение князя Тюменя.)
Альбом в Калмыкии! Представляете себе? Альбом от Жиру, с девственно-белой бумагой, нетронутый, как рояль Эрара, и, несомненно, прибывший вместе с ним, ибо князю, конечно, сказали, что, равно как не бывает гостиной без рояля, не бывает и рояля без альбома!
О цивилизация! Если я и мог предвидеть, что где-нибудь встречусь с тобой и стану твоей жертвой, то уж никак не между Уралом и Волгой, между Каспийским морем и озером Эльтон!
Но надо было примириться со своей участью и не питать зла к альбому.
Я попросил перо.
У меня была надежда, что этот предмет не удастся найти в доме князя Тюменя и, тем более, во всей остальной Калмыкии, а прежде, чем за ним можно будет послать к Мариону, я буду уже далеко.
Но нет: нашлись и перо, и чернильница.
Теперь мне ничего не оставалось, как сочинить мадригал.
Вот шедевр, который на память о моем пребывании здесь я оставил на первой странице альбома княгини.
КНЯГИНЕ ТЮМЕНЬ
Творец границы стран установил навеки:
Там – цепи горные, а там леса и реки.
А вам решил Господь степь без границы дать,
Где легче дышится, где вы, княгиня, склонны Империи своей благие дать законы,
И вашей грации, и красоте под стать.[17]
Господин Струве перевел это шестистишие на русский язык князю, который перевел его на калмыцкий для княгини.
По-видимому, мои стихи, против обыкновения, сильно выиграли в переводе, ибо княгиня произнесла длинную благодарственную речь, в которой я не понял ни слова, но которая закончилась тем, что мне протянули для поцелуя ручку.
Мне казалось, что мой долг выполнен, но я ошибался.
Княжна Грушка уцепилась за руку князя Тюменя и шепотом сказала ему несколько слов.
Я не знал калмыцкого языка, но тут я понял все.
Она тоже хотела получить стихи.
Княгиня Тюмень заявила, что в любом случае я напишу их не в ее альбом, и унесла его в своих прелестных коготках, как ястреб жаворонка.
Княжна Грушка дала сестре унести альбом, пошла за тетрадью – все от того же Жиру – и принесла ее мне.
Я взялся за работу, но, признаюсь, стишок для княжны получился на одну строчку короче.
Княгиня Тюмень обладала правом первородства.
КНЯЖНЕ ГРУШКЕ
Определяет Бог судьбу своих детей;
Вам было суждено родиться средь пустыни.
Волшебней взгляда нет, улыбки нет светлей,
Чем ваша, Волги дочь! Красавица, вы ныне Ее жемчужина, цветок ее степей.[18]
Совершив этот второй подвиг, я попросил разрешения удалиться.
У меня были опасения, что каждая из придворных дам тоже захочет получить четверостишие, а я уже исчерпал свое вдохновение.
Князь лично проводил меня в свою собственную спальню.
Он и княгиня ночевали в кибитке.
Я огляделся вокруг и увидел великолепный серебряный несессер с четырьмя большими флаконами, поставленный на туалетный столик.
Громадная кровать, покрытая пуховым одеялом, красовалась в алькове.
Китайские вазы и чаши блистали в углах комнаты лазурью и золотом.
Я совершенно успокоился.
Поблагодарив князя, я потерся носом о его нос, чтобы пожелать ему на ночь того же, что уже желал на день, то есть всяческого благополучия, и попрощался с ним.
Когда князь ушел, я стал думать о самом насущном.
После дня, полного движения и пыли, после бурного и жаркого вечера, который мы провели, самым насущным для меня было облить все тело как можно большим количеством воды.
Я находился в таком состоянии, что готов был с головой погрузиться в воду.
Но ни в вазах, ни в чашах я не нашел ни одной капли воды!
Весь этот китайский фарфор стоял здесь лишь для красоты и не имел никакого другого назначения.
Князь, несомненно, слышал, что в спальнях должны быть вазы и чаши, как в гостиной должно быть фортепьяно, а на фортепьяно – альбом.
Но, как и в случае с его фортепьяно и с его альбомом, нужен был случай, чтобы воспользоваться этими вазами и чашами.
Такой случай ему еще не представился.
Я стал заглядывать во флаконы несессера, питая надежду найти в них туалетную воду, за неимением воды из реки или из источника.
В конце концов это ведь тоже была бы вода!
Но нет: один содержал киршвассер, другой – анисовку, третий – кюммель, четвертый – можжевеловую настойку.
Увидев прелестные флаконы, украшающие несессер, князь решил, что они предназначены для ликеров.
Мне ничего не оставалось, как повернуться к кровати, моей последней надежде. Чистые простыни, в конечном счете, могли заменить многое.
Я снял пуховое одеяло, так как терпеть не могу эту постельную принадлежность.
Оно закрывало перину без простыни и покрывала, несущую на себе явные следы того, что ей не удалось сохранить девственную чистоту, которой отличались фортепьяно и альбом.
Я снова оделся, кинулся на кожаный диван и заснул, глубоко сожалея о том, что такой богатый и расточительный в излишествах, такой добрейший, любезнейший и милейший князь был так беден в самом необходимом!
LXXI. ДИКИЕ ЛОШАДИ
Хотя я лег спать достаточно поздно, а остальные гости князя Тюменя легли еще позже меня, в семь часов утра все уже были на ногах. Князь предупредил нас, что день начинается в восемь часов, и этот второй день должен был стать не менее насыщенным, чем предыдущий.
И в самом деле, без четверти восемь нас пригласили подойти к окнам дворца.
Едва приблизившись к ним, мы услышали как что-то, похожее на бурю, движется к нам с востока, и земля под нашими ногами задрожала.
В тот же миг туча пыли, поднявшаяся с земли к небу, затмила солнце.
Признаться, лично я пребывал в полнейшем неведении о том, что происходит. Я верил, что князь Тюмень всемогущ, однако не настолько же велико было его могущество, чтобы специально для нас устроить землетрясение.
Внезапно среди этой тучи пыли я начал различать стремительное движение какой-то огромной массы и увидел силуэты мчащихся четвероногих существ: мне стало понятно, что это дикие лошади.
Вся степь, насколько хватало глаз, дрожала, заполненная бешено несущимися к Волге лошадьми.
Вдалеке слышны были крики и ржание, вызванное болью или, скорее, яростью.
Огромный табун диких лошадей летел на нас из пустыни, преследуемый наездниками, которые подгоняли его бег. Первые лошади, оказавшись вдруг у самого берега Волги, на мгновение остановились, но, под нажимом тех, что давили на них сзади, решительно бросились в воду.
За ними кинулись и все остальные.
Десять тысяч диких лошадей с ржанием переплывали с одного берега Волги на другой, при том что ширина реки в этом месте составляла три километра.
Первые уже вот-вот должны были достичь правого берега, когда последние еще были на левом.
Наездники, подгонявшие лошадей, а их было человек пятьдесят, прыгнули в воду вместе с ними, но, оказавшись в воде, они соскальзывали со своих коней, не сумевших бы с такой тяжелой ношей на спине проплыть и пол-льё, и хватались кто за гриву, кто за хвост.
Я никогда в жизни не видел зрелища столь дикого и в то же время великолепного, столь ужасающего и в то же время величественного, как эти десять тысяч лошадей, единым табуном переплывающих гигантскую реку, которая преграждала им путь.
Пловцы, находившиеся в гуще лошадей, продолжали подгонять их криками.
Наконец, лошади и люди достигли правого берега и скрылись в редком лесу, первые деревья которого, напоминавшие рассыпной строй пехотинцев, подступали к самому берегу.
Мы застыли на месте, потрясенные увиденным. Я думаю, что даже в пампасах Южной Америки и в прериях Северной Америки взору путешественников никогда не представало более волнующее зрелище.
Князь извинился перед нами за то, что ему удалось собрать всего лишь десять тысяч лошадей. Он был предупрежден о нашем посещении только за два дня, а вот если бы его предупредили за четыре дня, он собрал бы табун в тридцать тысяч голов.
Потом нас пригласили пройти из дворца на берег Волги и сесть в лодку, поскольку большую часть предстоящего дня нам предстояло провести на правом берегу реки.
Мы не заставили себя упрашивать: перспектива была заманчивая.
Нас, правда, тревожил вопрос о завтраке, но наше беспокойство улеглось, когда мы увидели, что дюжина калмыков грузит в лодку корзины, по форме которых можно было догадаться об их содержимом.
Там были задние окорока жеребенка, филейные части верблюжьего мяса, половины жареного барана, а кроме того, бутылки разной формы и разного вида, в том числе и с посеребренным горлышком.
Убедившись, что волноваться по этому важнейшему вопросу не приходится, мы расселись по четырем лодкам, которые тотчас, словно во время гребных состязаний, устремились к противоположному берегу.
Вода в реке еще бурлила после переправы лошадей.
В середине Волги лодки немного отклонились от взятого направления, но, пройдя то место, где течение было особенно сильно, наверстали упущенное, выправили курс и пристали к берегу точно напротив того места, откуда они отчалили.
Все время, пока длилась переправа, я разглядывал гребцов.
Сходство между ними было поразительное. У всех были раскосые и едва приоткрытые глаза, плоские носы, выступающие скулы, желтая кожа, редкие волосы, жидкая или почти отсутствующая борода, но непременно усы; у всех были толстые губы, огромные и оттопыренные уши, напоминавшие уши колокола или ступки; у всех были маленькие ступни, обутые в очень короткие цветные сапожки, которые в далеком прошлом, должно быть, были желтыми или красными.
Но вот головные уборы у всех были одинаковые – квадратные желтые шапочки с опоясывающей голову оторочкой из черного овечьего меха.
Мне думается, что в фасоне этого мужского головного убора есть нечто не только национальное, но и религиозное.
Что же касается женских головных уборов, то, видимо, в Калмыкии существуют по этому поводу определенные предрассудки, так как, несмотря на все мои просьбы, обращенные к князю и княгине Тюмень, я не смог получить ни одного образца головного убора ни самой княгини, ни какой-либо из ее придворных дам.
Поэтому я в отчаянии, мои дорогие читательницы, оттого что вернусь во Францию, не сумев привезти вам это средство подчеркнуть вашу красоту.
Едва оказавшись на правом берегу реки, князь Тюмень вскочил на коня, который его уже ожидал, и проделал на нем несколько замысловатых прыжков.
На наш взгляд, он был скорее крепким, чем блестящим наездником: седло у него было слишком высокое, а стремена слишком короткие по сравнению с привычными для нас представлениями о верховой езде, и это вынуждало его ехать стоя, оставляя промежуток между седлом и тем местом, какое предназначено для того, чтобы на него опираться.
Так что конь скакал буквально между ногами у всадника, как Троянский конь скакал бы между ногами колосса Родосского.
Впрочем, все калмыки, если только они не садятся на лошадь совсем без седла, держатся на ней таким же образом. Садятся же они на лошадь уже в раннем детстве, а можно даже сказать, еще в колыбели.
Князь Тюмень показал мне колыбель своего сына: это было деревянное устройство, сделанное вогнутым таким образом, чтобы оно охватывало спинку ребенка, и имевшее деревянный выступ вроде тех, на какие в шорных лавках подвешивают седла. Ребенка сажают верхом на эту своеобразную заднюю луку седла, покрытую полотном, как и вся остальная колыбель; он пребывает там стоя, поддерживаемый в вертикальном положении ремнями, которые затягивают вокруг его груди. Это устройство, используя приделанное позади него кольцо, вешают на стену.
Седельце, на котором ребенок сидит верхом, имеет отверстие и пропускает все, от чего угодно избавиться маленькому наезднику.
Когда маленький калмык вырастает из колыбели, где, как мы видим, он уже сидит в седле, его сажают верхом на барана или собаку, вплоть до того возраста, в котором он уже сможет сесть на настоящую лошадь или взобраться на верблюда.
Вот почему все эти превосходные наездники, с их слишком высокими каблуками и слишком низкой обувью, оказываются никуда не годными ходоками.
Вернемся однако к нашему князю, который предавался джигитовке в облаке песка, взметавшегося из-под копыт его лошади и падавшего ему на голову.
По знаку князя калмыцкие наездники погнали перед собой и вывели на берег реки небольшой табун лошадей из числа только что переплывших ее, голов примерно в триста – четыреста.
Князь взял лассо и бросился в середину табуна, не обращая никакого внимания на враждебность животных, которые ржали, кусались, брыкались; накинув лассо на коня, показавшегося ему самым норовистым, он пустил свою лошадь в галоп и, несмотря на все усилия коня освободиться, вытянул его из середины табуна. У плененного коня, оторванного от своих собратьев, на губах выступила пена, грива поднялась дыбом, а глаза налились кровью.
Надо было обладать поистине неимоверной силой, чтобы противостоять рывкам, которые дикое животное передавало тому, кто заставлял его действовать против собственной воли.
Как только конь оказался отделен от табуна, пять или шесть калмыков бросились на него и повалили его на землю, но, едва лишь один из калмыков встал так, что поваленный конь оказался у него между ногами, остальные сняли с него лассо и дружно, как по команде, отбежали в сторону.
Минуту конь пребывал в неподвижности, а затем, видя себя избавленным от всех своих врагов, за исключением одного человека, счел себя свободным и одним прыжком поднялся на ноги.
Но он был теперь невольником в большей степени, чем прежде, ибо на смену материальной власти пут и силы пришла власть ловкости и ума.
И тогда между диким животным, спина которого никогда прежде не знала никакого груза, и опытным наездником завязалась удивительная борьба. Конь скакал, вертелся, крутился, пытался пустить в ход губы, откидывал голову назад, бросался в реку, взбирался по крутому откосу, уносил своего всадника прочь и возвращался с ним на прежнее место, снова уносил его, вжимал его спиной в песок и вскакивал с ним вместе, взвивался на дыбы и, в конце концов, опрокидывался навзничь.
Все было напрасно: казалось, всадник сросся с конем. Через четверть часа побежденный конь запросил пощады и лег, задыхаясь.
Трижды этот опыт повторялся с участием разных коней и разных наездников, и трижды человек выходил победителем.
И тогда выступить в роли объездчика вызвался мальчик лет десяти. Ему предоставили самую дикую лошадь, какую только удалось отыскать; мальчик проделал все то же, что до него проделали взрослые мужчины.
Несмотря на свою безобразную внешность, всадники, обнаженные по пояс, выглядели в этой борьбе великолепно. Их бронзовая кожа, жилистые тела, дикие лица – все, включая каменное безмолвие, которое они хранили в минуты наибольшей опасности, придавало им в этой жестокой схватке человека и коня вид античных кентавров.
Затем все приступили к завтраку, чтобы дать время приготовиться к скачкам верблюдов.
Я добился от князя согласия, чтобы всем объездчикам, а прежде всего мальчику уделили часть наших съестных припасов и напитков.
На берегу Волги был установлен шест, на верху которого развевался длинный флаг: это была конечная точка верблюжьих скачек. Начальная же их точка находилась в одном льё вверх по течению реки: участники скачек должны были двигаться вниз по течению, то есть с северо-запада на юго-восток.
Князь выстрелил из ружья, в ответ раздался другой выстрел, звук которого донесло до нас речное эхо, и это возвестило, что скачки начались.
Через несколько минут мы увидели, как появились первые верблюды, которые бежали, вздымая за собой песчаный вихрь. Их галоп был, наверное, на треть быстрее галопа лошади.
Я полагаю, что им понадобилось не более шести-семи минут, чтобы покрыть эту дистанцию в четыре версты.
За первым пришедшим к конечной точке верблюдом, отстав от него всего на десять шагов, следовал его соперник. Сорок восемь остальных прибежали, как Куриации, один за другим, с различными интервалами.
Призом было прекрасное казацкое ружье, которое наездник-победитель принял с явной радостью.
Потом пришел черед скачек с призовым бумажным рублем и скачек с призовым серебряным рублем.
Всадники, сидя на лошади без седла и поводьев и управляя ею только с помощью колен, должны были на всем скаку схватить бумажный рубль, обернутый вокруг небольшого деревянного колышка.
Что же касается серебряного рубля, то с ним все обстояло еще труднее: он лежал плашмя на земле.
Все эти упражнения исполнялись с поразительной ловкостью.
Награждены были все, даже побежденные.
Я полагаю, что трудно найти более счастливый народ, чем эти славные калмыки, и лучшего повелителя, чем князь Тюмень.








