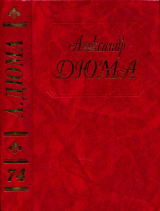
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Мы заметили такое отклонение, когда проснулись. Солнце, всегда находившееся впереди или почти впереди нас, оказалось теперь полностью слева.
Впрочем, вид, открывшийся нам, когда мы поднялись на палубу, был великолепен: наш пароход проходил как раз то место, где быстрая Кама, текущая из Сибири, впадает в Волгу и совершенно меняет цвет ее воды. К тому же Кама, которая течет из более холодных краев, была покрыта белоснежными льдинами, издали похожими на лебединые стаи.
Кама, как известно, берет свое начало в Уральских горах; судоходство по этой реке более надежное и бесперебойное, чем по Волге, поскольку на ней нет мелей; она чрезвычайно богата рыбой, и в ней водятся те же породы рыб, что и во всех других русских реках: севрюга, осетр, форель, судак, белуга, вес которой иногда доходит до тысячи четырехсот фунтов, и сом, рыба у нас неизвестная, которая водится также в Волге и в Днепре и которую нельзя продавать без предварительного осмотра: в ее желудке, как в желудке акул, нередко находят куски человечины.
Волга после слияния с Камой делается шире, и в ней появляются острова; левый ее берег остается все таким же низким, тогда как правый берег, становящийся холмистым после Нижнего, достигает в высоту четырехсот футов; почва здесь состоит из глины, сланца, известняка и песчаника без малейшего присутствия скальных пород.
Симбирск, столица одноименной губернии, был первым более или менее значительным городом на нашем пути, и это при том, что он расположен уже в пятидесяти льё от Казани.
Именно безлюдье особенно поражает и более всего удручает в России. Становится понятно, что земля здесь могла бы кормить в десять раз больше жителей, чем она имеет теперь, а между тем Волга, самая крупная водная артерия России и единственный путь, связывающий Балтийское море с Каспием, привлекает на свои берега больше населения, чем любая другая река.
После Ставрополя она делает огромную излучину в сторону Самары, а затем, описав почти замкнутую петлю, возвращается к Сызрани.
Мы прошли мимо Симбирска и Самары ночью; более смелый, чем судно, доставившее нас в Нижний, "Нахимов" шел и днем, и ночью: капитан откровенно признался нам, что он опасается, как бы его судно не оказалось затерто льдом, ведь приближался октябрь.
Всякий раз, когда "Нахимов" останавливался, чтобы закупить дрова, мы сходили на берег, но места, меняя названия, оставались всегда одними и теми же. Всюду деревянные избы, в которых обитают крестьяне в красных рубашках и тулупах. Во время каждой из таких стоянок мы покупали великолепную рыбу. Стерлядь, которая продается на вес золота в Москве, а тем более в Санкт-Петербурге, стоила нам три-четыре копейки за фунт.
При внимательном рассмотрении стерляди, к мясу которой русские питают сильно преувеличенное, на мой взгляд, пристрастие, я в конце концов уяснил себе, что это вовсе не какая-то особая порода рыбы, а просто-напросто мелкий осетр, acipenser ruthenus, который преодолевает астраханские пороги и поднимается вверх по реке.
Когда я рискнул заикнуться об этом, мне громко рассмеялись в лицо: русские не могут допустить даже мысль, что Провидение не создало особую породу рыбы для услаждения нёба северных гурманов.
Ну а южным и западным гурманам я могу со всей определенностью заявить, что, как только рыбоводство почтит своим вниманием осетра и начнет выращивать его мальков, стерлядь будет водиться и у нас в Сене и в Луаре.
Между Ставрополем и Самарой мы увидели на левом берегу огромный холм, напоминающий по форме головку голландского сыра; его называют Царевым курганом, потому что после завоевания Казани царь Иван Грозный спустился вниз по Волге и приказал, чтобы ему подали обед на вершину этого холма.
Видневшийся вдали город, купола которого напоминали громадные кротовины, называется Царёвщиной, несомненно потому, что там останавливался Иван Грозный.
Через три дня после нашего отправления из Казани мы прибыли в Саратов.
Капитану нужно было взять там груз, и он предупредил нас, что ему, вполне возможно, придется задержаться там на день, а то и на два.
Это было довольно грустно. Мы не запаслись письмами в Саратов и, естественно, никого там не знали: эти два дня нам предстояло изнывать от смертельной скуки.
Но поскольку, с другой стороны, в моем распоряжении были теперь два дня, которыми можно было распорядиться по собственному усмотрению, я заранее дал знать капитану о своих намерениях.
Когда мы вместе с генералом Ланом прослеживали по русской карте течение Волги и, соответственно, путь, который я должен был проделать, генерал высказал мысль, что мне было бы чрезвычайно любопытно осмотреть соленые озера, расположенные по левую сторону от реки, в киргизских степях.
Мы могли бы высадиться в Камышине, взять телегу и устроить себе трехдневную прогулку к киргизам, а на третий день встретиться с "Нахимовым" в Царицыне, в том месте, где Волга ближе всего подходит к Дону.
Генерал Лан надеялся, что вблизи озера Эльтон я найду его друга генерала Беклемишева, казачьего атамана, и тогда именно он со всем радушием покажет мне соленые озера.
На всякий случай я попросил у него письмо к генералу Беклемишеву.
– Помилуйте, – ответил он, – просто назовитесь: его жена знает все ваши книги наизусть.
И я уехал из Казани, дав себе слово устроить прогулку к киргизам, если для этого представится возможность.
Но пока мы были на верных полтора, а может быть, и два дня привязаны к Саратову.
Смирившись со своей участью, мы сошли на берег.
С неба падала мелкая колкая изморозь, что в немалой степени усугубляло унылость этих мест.
Калино мы отправили на разведку, хотя мне никогда не доводилось встречать человека менее толкового в отношении сбора сведений, чем Калино. Фраза "Калино, идите собирать сведения" была ему решительно непонятна.
– Сведения о чем? – спрашивал он.
– Обо всем, черт возьми!
И Калино, понурив голову, спрашивал, сколько в городе жителей, на какой реке он расположен, сколько от него льё до Москвы, сколько домов сгорело во время последнего пожара и сколько тут церквей.
Калино был рожден для того, чтобы собирать статистические данные.
После часа блужданий по чудовищным мостовым грязных саратовских улиц – утренняя грязь раскисла на полуденном солнце – мы уже знали, что в Саратове тридцать тысяч жителей, что там шесть церквей, два монастыря и одна гимназия и что в пожаре 1811 года за шесть часов сгорело около тысячи семисот домов.
Всего этого едва ли было достаточно, чтобы заполнить полтора дня, как вдруг, подняв глаза, я прочел на вывеске:
«АДЕЛАИДА СЕРВЬЁ»
– О! Мы спасены, дорогой друг, – сказал я, обращаясь к Муане. – Здесь есть французы или, по крайней мере, одна француженка.
И я ринулся в магазин, оказавшийся бельевой лавкой.
Услышав звук открывающейся двери, из задней комнаты вышла молодая женщина с парижскими манерами и обворожительной улыбкой на губах.
– Здравствуйте, милая соотечественница, – сказал я. – Чем можно заняться в Саратове, если ты попал в него на два дня и боишься заскучать тут?
Она внимательно посмотрела на меня и рассмеялась.
– Ну, – ответила она, – все зависит от характера и рода занятий: если это моравский брат, то он проповедует: если это коммивояжер, то он предлагает свои товары; если же это господин Александр Дюма, то он ищет соотечественников, обедает с ними и, конечно же, с присущим ему остроумием делает все для того, чтобы время прошло незаметно.
– Вот, Калино, – сказал я своему отличнику, – вы можете совершить кругосветное путешествие и, поверьте, нигде не найдете никого, кроме французов, кто бы вам так ответил. Но для начала, милая соотечественница, раз уж вы догадались, что мы не моравские братья и не коммивояжеры, давайте поцелуемся: за тысячу льё от Франции это позволительно.
– Одну минутку! Позовем моего мужа. Пусть он побудет хотя бы в числе приглашенных.
И она позвала мужа, подставляя мне обе щеки.
Он появился, когда я целовал вторую. Ему объяснили, кто я.
– Ну тогда, – сказал он, пожимая мне руку, – вы ведь отобедаете у нас, не так ли?
– Да, но с условием, что обед приготовлю я: вас испортила жизнь в России.
– Помилуйте! Не прошло еще и трех лет, как мы здесь.
– В таком случае, я доверяюсь вам: вы не так давно покинули Францию, чтобы забыть традиции французской кухни.
– А что мы будем делать в ожидании обеда?
– Беседовать.
– А после обеда?
– Беседовать. Ах, дорогой друг, неужели вы не знаете, что беседуют только во Франции и только французы? У меня есть превосходный чай. Вот Калино, которого московский ректор дал мне в переводчики, но он решительно ничего не понимает из нашего разговора, потому что мы говорим по-парижски, а это особый язык. Калино сходит за нашим чаем, а мы время от времени будем говорить по-французски, чтобы доставить ему удовольствие.
– Ну, тогда входите, и пусть все будет по вашему желанию.
Мы вошли в дом и принялись болтать. В разгар этой болтовни мне вдруг кое-что вспомнилось, и я спросил хозяйку дома:
– Вы о чем-то вполголоса говорили с мужем; что вы ему сказали?
– Я предложила ему пригласить двоих наших друзей.
– Французов или русских?
– Русских.
– Ах, так! Я предчувствую измену… И кто они, ваши друзья?
– Один – князь: это его общественное звание; другая – поэтесса: это ее интеллектуальное звание.
– Женщина-поэт, дорогой друг! Нам придется ласкать ее самолюбие, а это все равно, что ласкать дикобраза.
– Да нет, она талантлива.
– Ну, тогда уже легче. А ваш князь – настоящий князь?
– Полагаю, что да: так к нему обращаются.
– А как его зовут? Предупреждаю, что всех ваших князей я знаю наперечет.
– Князь Лобанов.
В эту минуту дверь отворилась и вошел красивый молодой человек лет двадцати шести – двадцати восьми.
Он услышал свое имя.
– По-моему, – сказал он, – во Франции есть пословица, гласящая: "Только помяни волка, а он тут как тут".
– Да, именно так: знаете, я только что за вами послала.
– Нет, не знаю; но мне известно, что в вашем доме сейчас господин Дюма, и я хотел обратиться к вам с просьбой представить меня ему.
– А как вы об этом узнали?
– О дорогой друг, я только что встретил господина Позняка, полицмейстера, и он очень рассчитывает, что завтра мы все у него отобедаем… Но представьте же меня.
Я встал.
– Князь, – сказал я, – мы давно знаем друг друга.
– Скажите лучше, что я вас знаю. Но вам, вам откуда знать какого-то татарина, сосланного в Саратов?
– Во Флоренции я был хорошо знаком…
– Ах, да, с моей тетушкой и моими кузинами, княжнами Лобановыми. Они сто раз мне о вас рассказывали. Вы помните княжну Надин?
– Еще бы! Мы вместе играли на сцене, вернее, я был режиссером.
– Ах, вон оно что! Ну и как вы решили провести день? – спросил князь.
– Господин Дюма сам составлял программу: если она не покажется вам удачной, вините в этом его.
– И какова же программа?
– Мы беседуем, обедаем, снова беседуем, пьем чай и опять беседуем.
– После чего господа ночуют у меня, чтобы избавить себя от необходимости возвращаться на пароход.
– Я бы тотчас согласился, если бы не боялся вас стеснить.
– Сколько времени вы уже в России?
– Скоро пять месяцев.
– Тогда вы должны знать, что, предоставляя кому-либо ночлег, русский ничуть себя не стесняет. У меня в доме восемь или десять диванов. Каждый из вас займет по одному. Господин Дюма займет два, и вопрос будет решен. Или у вас на судне есть кровати? В таком случае возвращайтесь на судно: предупреждаю, у меня дома кроватей нет.
– Что ж, у меня как раз есть тюфяк и подушка, которые мне подарили в Казани: я опробую их у вас.
– Сибарит!
– Калино, друг мой, принесите нам чай и распорядитесь, чтобы мне принесли мой тюфяк и мою подушку.
Выходя, Калино посторонился, уступая дорогу невысокой полной даме лет двадцати восьми – тридцати, с округлыми формами, живыми глазами и быстрой речью.
Она направилась прямо ко мне и протянула руку.
– Ах, вот и вы наконец! – промолвила она. – Мы знали, что вы в России, но можно ли было подумать, что вы когда-нибудь приедете в Саратов… Здравствуйте, князь! Здравствуйте, Аделаида!.. То есть на край света! А вы здесь. Добро пожаловать!
В России есть прелестный обычай. Я посвящаю в него не всех, а лишь тех, кто достоин его оценить. Когда вы целуете русской даме руку, она тотчас возвращает вам поцелуй – в щеку, в глаза или куда придется, словно опасаясь, как бы с ней не случилось чего-нибудь дурного, если она его сохранит.
Я поцеловал руку госпоже Зинаиде, и она тотчас вернула мне мой поцелуй.
Такой способ приветствовать друг друга в высшей степени ускоряет знакомство.
В старых русских нравах есть немало хорошего.
– Стало быть, – спросил я ее, – мы пишем стихи?
– А что еще, по-вашему, можно делать в Саратове?
– Вы их нам прочтете?
– Уж не понимаете ли вы, случаем, по-русски?
– К несчастью, нет, но вы мне переведете.
– Если это может доставить вам удовольствие.
Дверь отворилась: вошел офицер в полковничьих эполетах.
– О! – воскликнула хозяйка дома. – Господин полицмейстер пожаловал. Вам здесь нечего делать, господин Позняк, и мы в вас не нуждаемся.
– Нуждаетесь или не нуждаетесь, но, предупреждаю вас, вам придется меня терпеть: в вашем доме находятся иностранцы, а мой долг – осведомиться, кто они такие, и, если это личности подозрительные, отвести их в полицию, держать под наблюдением и не позволять им вступать в сношения с их соотечественниками. Попробуйте теперь плохо меня принять.
– Дорогой господин Позняк, потрудитесь же сесть. Как себя чувствует госпожа Позняк? Как дети?
– Ну и отлично! А вот и тот, кто заставляет забыть о приеме, который вы мне поначалу оказали. Господин Дюма, мне известно, что вы любитель оружия, так посмотрите, что я вам принес.
И он достал из кармана изумительный кавказский пистолет с узорчатым дулом и рукояткой из слоновой кости, инкрустированной золотом.
– Если вы так обходитесь с подозрительными личностями, то как же вы относитесь к своим друзьям?
– Когда я встречаю своих друзей, я приглашаю их позавтракать у меня на следующее утро, а если они отказываются, я с ними ссорюсь.
– Это ультиматум?
– Да, это ультиматум.
– В таком случае придется у вас позавтракать.
По этому разговору и по намеченным планам можно судить, как прошли те два дня, которых я так опасался и которые оказались двумя лучшими днями за все путешествие. Простая парижская белошвейка с ее прелестным остроумием приобщила к цивилизации этот уголок земли, наполовину русский, наполовину татарский.
Что же касается нашей поэтессы, то мне очень хотелось бы иметь возможность дать читателю представление о ее таланте, но единственное, что я могу сделать во имя такой цели, хотя этого будет явно недостаточно, – это переложить в рифму два сделанных ею для меня перевода ее же собственных стихотворений.
Взгляните на карту, найдите на ней Саратов и посмотрите, за сколько льё от нашей цивилизации родились эти два северных цветка, орошаемые ледяными водами Волги и гнущиеся под суровыми ветрами Урала!
МЕТЕЛЬ
Я вьюга дикая, я белая метель,
Как черный серафим, я распеваюсь к ночи.
Всем сбившимся в пути брести в снегах нет мочи,
И я им постелю последнюю постель.
Я – их отчаянье, беспомощность и страх,
И люди думают: "Уж не конец ли света?
Пал Божий гнев на нас, гуляет бес в степях И смертью нам грозит. Бог милосердный, где ты? Ужасен вьюги вой, как смертный приговор,
И Господу молясь, мы станем на колени:
О Всеблагой Господь, уйми бесовский хор,
Над нами смилуйся и ниспошли спасенье!"
Но только к твоему приближусь я окну,
Когда ты мирно спишь, обласканный луною,
Я плачу, как дитя, сама себя кляну,
Твой каждый вздох ловлю и сон не беспокою.
Я нежности полна, а люди говорят:
"Готовясь умереть, все оживает внове,
Когда ушла зима. Весной воскреснет сад,
И розы расцветут, опять полны Любови!"[15]
УМИРАЮЩАЯ ЗВЕЗДА
Возникла я в тот день, когда пустынный Мир создала Божественная власть,
Но в этот вечер небо я покину.
Во тьму веков мне суждено упасть.
Угаснувшей, не засиять мне снова,
Сниму корону золотых лучей.
Сопернице я уступить готова Мой путь. Теперь сиять здесь ей!
Меня совсем не огорчает это,
Не для владык земных мои лучи!
Мне только жаль мечтателя-поэта,
Глядевшего лишь на меня в ночи.
Забудет он, что это я сияла,
Чтобы святое пламя сердце жгло,
Я дивных строк навеяла немало,
Лучи роняя на его чело.
Он не поймет, что не меня – другую Он видит, созерцая небосвод.
Неблагодарный! Я о нем тоскую,
А он другой хвалу теперь поет.
Сестра, в него влюбившись столь же страстно, Познаешь боль, взойдя на небосклон:
Я видела, как жил поэт прекрасный, —
Увидишь ты, как умирает он.[16]
Разве не удивительно находить повсюду поэзию, этот общий язык недужных сердец, которая в песнях араба отзывается рыком атласского льва, а в уральских степях даже метель претворяет во влюбленную?
Если мне когда-нибудь доведется совершить кругосветное путешествие, я буду собирать песни любви повсюду, где ступит моя нога, и издам их, эти несхожие приметные знаки человеческой страсти, одинаковой на всех широтах, под названием "История сердца".
В восемь вечера мы покинули всех наших новых друзей, которые, я уверен, хранят такую же память обо мне, какую я храню о них. Они проводили нас на борт судна и оставались там с нами до тех пор, пока не подняли якорь.
Свет факелов, которые они зажгли после того, как наш пароход отчалил, и которыми они махали нам на прощание, мы видели еще около получаса.
Поскольку я был вправе потребовать у капитана причитающиеся мне два дня, мы договорились с ним, что он высадит нас напротив Камышина, в Николаевской, небольшой деревне на левом берегу Волги.
Наш пароход должен был прибыть туда в девять утра.
За час до этого, извещенные капитаном, мы распорядились вынести на палубу небольшой багаж, без которого нельзя было обойтись во время нашей прогулки.
Итак, мы вышли в Николаевской и с подорожной в руках направились на почтовую станцию.
Помнится, мы уже говорили, что подорожная – это распоряжение русских властей, обязывающее станционных смотрителей предоставить лошадей тому, кто его предъявляет. Точно так же, как во Франции нельзя путешествовать без паспорта, в России нельзя без подорожной взять почтовых лошадей.
Эти подорожные бывают большей или меньшей действенности и годны на большее или меньшее расстояние.
Моя подорожная была выписана в Москве; выдал мне ее губернатор, граф Закревский, который, будь на то его воля, ни за что не пустил бы меня в Москву. Мое присутствие во вверенном его правлению городе было ему тем более неприятно, что меня ему в некотором роде навязали, и потому, как только я, в знак своего отъезда, запросил подорожную, он выдал мне подорожную поистине княжескую, чтобы склонить меня воспользоваться ею как можно быстрее.
Так что, увидев нашу подорожную, староста, у которого я потребовал пять лошадей, не стал чинить обычных в подобных случаях препятствий.
Вообще нигде не найдешь большей вороватости, чем у станционного смотрителя, разве что у двух станционных смотрителей. Поскольку лошади очень дешевы – каждая лошадь стоит две копейки, или шесть лиаров за версту, – то, как правило, старосты пускаются в махинации; из этого следует, что, дабы вознаградить себя за дешевизну лошадей, они используют все возможные способы вымогательства денег у путешественников; самый излюбленный их прием – сказать, что в конюшне у них пусто, но они могут раздобыть лошадей по соседству. Однако, добавляют они, лошади эти не казенные, а хозяйские, и хозяева не хотят отдавать их внаем иначе, как за плату вдвое большую, чем на почте.
Если вы хоть раз поддадитесь этому обману, вы погибли. От станционного смотрителя к ямщику и от ямщика к станционному смотрителю будет передаваться весть о вашей наивности, и вам, как это бывает почти всегда, придется заплатить за то, чтобы ее утратить.
Но если у вас есть некоторое понятие о российских почтовых законах, вы мне скажете: "Каждый станционный смотритель, даже если речь идет о самой маленькой деревушке, обязан держать в конюшне по меньшей мере три тройки, то есть девять лошадей".
Если же ваша осведомленность в российских почтовых законах очень глубока, вы добавите: "Кроме того, у каждого станционного смотрителя на столе постоянно лежит почтовая книга, привязанная к концу шнурка, который ему строго-настрого запрещается перерезать, и скрепленная восковой печатью уезда. Он лишается своей должности, если печать оказывается нарушенной и ему не удается дать этому вразумительного объяснения. В этой книге он отмечает количество проехавших через станцию путешественников и количество взятых ими лошадей".
Да, это совершенно верно, но, поскольку никто и никогда не проверяет книгу, они могут, даже при наличии этой книги, никогда не иметь в конюшне ни одной лошади.
Когда с такого рода затруднениями сталкиваются русские, имеющие привычку путешествовать по своей стране, они обычно проверяют книгу, но не пером, а нагайкой: для того, чтобы в конюшне нашлась свободная тройка, почти всегда бывает достаточно пяти-шести ударов нагайкой по спине старосты.
Нагайка – это плетка, которую, как правило, покупают в тот же день, когда берут подорожную. Настанет пора, когда для удобства путешественников и то, и другое будут выдавать в одной канцелярии. В 1858 году их приходилось приобретать пока что раздельно.
Путешественникам-иностранцам, надо отдать им должное, подобные повадки вначале внушают отвращение, но через какое-то время, чувствуя себя жертвами собственной филантропии, они мало-помалу перенимают местные обычаи.
Заметьте, что со времен Екатерины II староста имеет офицерский чин.
От плетки бывает еще и другая польза: заставив старосту дать лошадей, она заставляет лошадей бежать, хотя и обрушиваясь не на спины лошадей, а на спину ямщика.
В России ничего не делается так, как в других странах, но, хорошо зная Россию, вы в конце концов достигаете своей цели. Путь к ней несколько более долог и неровен, вот и все.
Проделав пять-шесть тысяч верст по России, вы вынуждены покупать новую плетку, однако вам не удается припомнить, чтобы вы хоть раз стегнули ею лошадь.
Мы даем эти сведения как совершенно точные и, более того, крайне важные.
Поинтересуйтесь у первого встречного подданного его величества императора Александра.
LXIV. У КИРГИЗОВ
Нам предстояло проехать что-то около двухсот шестидесяти верст, то есть примерно шестьдесят пять французских льё.
По такой ровной местности и такой гладкой степной дороге эти шестьдесят льё можно было проделать за один день, если бы не приходилось терять по два часа на каждой почтовой станции.
Крест на шее, который всякому русскому служащему указывает на ранг полковника, сокращает ожидание примерно на полчаса; орденский знак на платье, указывающий на ранг генерала, сокращает ожидание приблизительно на час.
В России, как я уже говорил, все определяется чином. Напомню, что слово "чин" – это перевод французского слова "ранг".
Однако в России ранг не заслуживают, а получают, и людям здесь находят применение не в соответствии с их заслугами, а в соответствии с их чином.
И потому, по словам одного русского, чины – это настоящая теплица для произрастания интриганов и воров.
Вот русская иерархия и соответствующие ступени карьерного восхождения: губернский секретарь, коллежский секретарь, титулярный советник, коллежский асессор, надворный советник, коллежский советник, статский советник, действительный статский советник, тайный советник, действительный тайный советник второго класса, действительный тайный советник первого класса.
Россия – страна, в которой советников больше, чем где бы то ни было еще, и которая меньше, чем кто бы то ни было еще, спрашивает советов.
Так вот, все эти звания являются ступенями чинов и имеют соответствия в воинских званиях.
Ограничиваясь разговором о почтовой станции, поясним, что если капитан получил лошадей и их уже запрягли в карету, а в это время появляется полковник, то полагается выпрячь лошадей из кареты капитана и запрячь их в карету полковника. То же самое генерал проделывает с полковником, а фельдмаршал – с генералом.
В моей подорожной значилось: «Господин Александр Дюма, французский литератор». Так как слово «литератор», не имеющее, вероятно, эквивалента в русском языке, было написано по-французски, а ни один станционный смотритель не знал, что оно означает, Калино переводил это звание как «генерал», и мне воздавались почести, полагающиеся моему чину.
Нет ничего более унылого, чем эти бескрайние плоские равнины, покрытые серым вереском и настолько безлюдные, что увидеть на горизонте силуэт всадника – целое событие, и можно порой проехать тридцать или сорок верст, а на вашем пути не взлетит ни одна птица.
Между первой и второй почтовыми станциями мы начали замечать вдалеке киргизские кибитки. Как и кибитки калмыков, они войлочные, пирамидальной формы, с отверстием сверху для выхода дыма от очага.
Киргизы – вовсе не коренные обитатели этих мест: они пришли из Туркестана и, вероятно, происходят из Китая.
Они магометане и делятся на три орды: Большую, Среднюю и Малую.
Некогда всю степь от Урала и до Волги занимали калмыки. Но однажды пятьсот тысяч калмыков оседлали коней, погрузили свои кибитки на верблюдов и, под водительством хана Убаши, отправились обратно в Китай.
Река возвращалась к своему истоку.
Но что же побудило их к этому переселению?
Одна из наиболее вероятных причин – систематическое ущемление власти предводителя калмыков, а также их личных свобод, осуществлявшееся русским правительством.
Незадолго до того Убаши оказал русским действенную помощь в их походах против турок и ногайцев. Он самолично привел тридцать тысяч конников для участия в знаменитой кампании, завершившейся осадой Очакова. Однако наградой ему стали лишь новые притеснения.
Своей властью он обратился с призывом ко всей орде, и за этим призывом последовало почти всеобщее переселение.
Екатерина потеряла сразу полмиллиона подданных.
Правда, и Убаши выиграл от этого немного.
Снявшись с места 5 января 1771 года, в день, объявленный верховными жрецами благоприятным, и числя в своих рядах семьдесят тысяч семей и пятьсот тысяч душ, калмыки к концу того же года пришли в Китай, имея всего пятьдесят тысяч семей и триста тысяч человек.
За восемь месяцев они потеряли двести тысяч своих соплеменников на пути длиной в две тысячи пятьсот льё, который им пришлось преодолеть.
В течение многих лет местность, покинутая Убаши и его ордой, оставалась необитаемой, но в 1803–1804 годах несколько киргизских племен, действуя с согласия русского правительства, разбили свои кочевья на берегах Урала; мало-помалу они продвигались с востока на запад и в конце концов появились на берегах Волги.
Россия, желавшая восполнить понесенные ею потери, уступила им семь или восемь миллионов гектаров между Волгой и Уралом, что было вполне достаточно для восьми тысяч семей, то есть примерно для сорока тысяч человек.
Но, в отличие от калмыков, племени кроткого и покорного, исповедующего ламаистский буддизм, киргизы, исповедующие магометанство, являются жуткими грабителями; нас об этом предупредили, и мы взяли это на заметку.
Мы видели их в 1814 году, этих передовых разведчиков русской армии, в их остроконечных шапках и широких шароварах, с их луками, стрелами и копьями, с их веревочными стременами и длинношерстными лошадьми. Они внушали ужас нашим крестьянам, никогда прежде не имевшим представления о подобных людях, а особенно о подобной одежде.
Сейчас у большинства из них ружье уже заменило лук и стрелы, но некоторые, то ли потому, что они слишком бедны, чтобы купить ружье, то ли из верности национальным традициям, по-прежнему сохраняют лук и стрелы.
Их кибитки, мимо которых мы проезжали и у порогов которых кучками держались женщины и дети, имели в диаметре десять – двенадцать футов, то есть от тридцати до тридцати шести футов в окружности. В них помещаются постель или циновка, сундук для одежды и кое-какая кухонная утварь.
Мы проехали через два-три таких кочевья и видели в отдалении еще несколько, по пять-шесть кибиток в каждом.
Чтобы увезти одну такую кибитку и проживающую в ней семью, требуется не менее четырех верблюдов или восьми лошадей.
Киргизские лошади низкорослы, быстроноги и неутомимы; они питаются степной травой, и редко когда хозяева уделяют им какое-нибудь иное внимание, помимо того, чтобы снять с них узду и дать им таким образом возможность свободно пастись.
Разумеется, о ячмене или овсе для них даже и речи нет.
Поскольку увидеть в степи что-нибудь более интересное не представлялось возможным, мы решили ехать днем и ночью до самых озер. Так как нам было известно, что в пути не удастся найти абсолютно никакой пищи, мы запаслись хлебом, крутыми яйцами и вином.
Кроме того, наши саратовские друзья приготовили нам в дорогу двух жареных кур и отваренного с пряностями судака.
С наступлением ночи нам стали чинить препятствия с выдачей лошадей. Благовидным предлогом для отказа было то, что в темноте нас могут задержать киргизы.
В ответ мы показали наши ружья; к тому же мы были убеждены, что поблизости от столь значительного казачьего поста, как тот, что располагается на озере Эльтон, нам совершенно нечего опасаться.
В итоге оказалось, что правда была на нашей стороне; около двух часов ночи мы все же остановились на почтовой станции, но вовсе не потому, что боялись киргизов, а потому, что закоченели от холода.
Заморозки, как я уже говорил, настигли нас еще в Казани, а снег – в Саратове; в степи же, где ветер не встречает никаких препятствий, было, наверное, шесть-семь градусов ниже нуля.
Мы уже упоминали, что все русские почтовые станции устроены по одному образцу: тот, кто видел одну, видел все. Четыре стены, беленные известью; две лавки, служащие по выбору того, кто ими пользуется, либо диванами, либо кроватями; стол, две табуретки, пара стульев и печь, далеко выступающая в комнату; вот и все – да, надо еще сказать о горячей воде, в которой заваривают местные травы, называя их чаем, – вот и все, что там можно непременно найти.
Однако в киргизской степи вода солоноватая, и люди с более или менее утонченным вкусом ее не пьют.
Ну а еды – никакой, совершенно никакой!
Так что в России, и это следует без конца повторять, в путешествие надо брать с собой все необходимое: тюфяк, чтобы было что положить под бок, подушку, чтобы было на что положить голову, и съестные припасы, чтобы было что положить в рот.
В перечне наших съестных припасов я назвал судака; мои читатели, которым, возможно, когда-нибудь придется соприкоснуться с этой достойной уважения рыбой, позволят мне дать по ее поводу несколько разъяснений.








