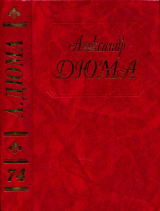
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
– Спасите меня, Миних! Я рассчитываю только на вас.
Но Миниху не была свойственна восторженность; он холодно взвесил положение и обрушил на эту надежду императора снег своих седин.
– Государь, – сказал он, – через несколько часов императрица будет здесь с двадцатью тысячами солдат и мощной артиллерией. Ни Петергоф, ни Ораниенбаум не смогут устоять, и всякое сопротивление, учитывая то воодушевление, каким охвачены ее войска, приведет лишь к тому, что вы и ваше окружение будете убиты. Спасение и победа только в Кронштадте.
– Объяснись, мой дорогой Миних, – сказал император.
– Кронштадт располагает многочисленным гарнизоном и внушительным флотом. Сброд, окружающий императрицу, рассеется так же быстро, как он собрался, а если вы встретите сопротивление, то у вас с вашими тремя тысячами голынтейнцев, гарнизоном и флотом будут равные с противником силы.
Это предложение вернуло присутствие духа даже самым испуганным; в Кронштадт был послан генерал, который немедленно прислал оттуда своего адъютанта, чтобы сообщить, что гарнизон не отступает от своего долга и готов умереть за императора, если император решит укрыться в Кронштадте.
И тогда несчастный коронованный глупец перешел от панического ужаса к безграничной уверенности. Как только гольштейнцы прибыли, он принял парад и, в восторге от их бравого вида, воскликнул:
– Не следует бежать, не увидев врага!
Миних, стоявший за немедленное отступление, приказал двум яхтам приблизиться к берегу и тщетно старался посадить на одну из них императора, который терял время на бахвальство, рассуждая о том, какую пользу могут принести ему небольшие холмы, господствующие над дорогой.
Однако все эти воинственные намерения рухнули самым плачевным образом, поскольку в ту самую минуту, когда пробило восемь часов, во весь опор прискакал один из адъютантов и сообщил, что императрица во главе двадцати тысяч солдат идет на Петергоф и находится уже в нескольких верстах.
После получения этого известия уже не было и речи о том, чтобы увидеть врага: император, сопровождаемый всем своим двором, помчался к берегу, и все бросились в лодки, крича:
– На яхты! На яхты!
– Так вы едете? – спросил император одного из придворных, который явно не торопился спуститься в лодку вместе с другими.
– Простите, государь, уже поздно, дует северный ветер, а у меня нет плаща.
И он остался на берегу, а два часа спустя уже был возле Екатерины и рассказывал ей, каким образом император вышел в море.
Итак, на веслах и на парусах Петр III вместе со своим двором бежал в Кронштадт.
Но еще утром вице-адмирал Талызин отправился в Кронштадт, сев без всякого сопровождения в шлюпку и под страхом смерти запретив своим гребцам говорить кому-либо, откуда они прибыли.
Добравшись до Кронштадта, он был вынужден ждать разрешения коменданта, чтобы высадиться на берег.
Справившись о его чине и узнав, что он один, комендант вышел ему навстречу, позволил высадиться и поинтересовался у него новостями.
– Ничего определенного я не знаю, – ответил вице-адмирал, – я был у себя на даче и, узнав, что в Санкт-Петербурге неспокойно, поспешил сюда, поскольку мое место на флоте.
Комендант поверил ему и вернулся к себе.
Талызин выждал, пока тот не скрылся из виду; затем он собрал вокруг себя несколько солдат и предложил им арестовать коменданта, сообщив, что император свергнут с престола, императрица коронована и те, кто выступит на ее стороне, будут награждены.
Так что, если они сдадут императрице Кронштадт, их судьба обеспечена.
Все следуют за ним; коменданта берут под арест, а затем собирают гарнизон и морскую пехоту. Талызин обращается к ним с речью и заставляет их присягнуть императрице.
В это время на горизонте появляются две яхты.
Присутствие императора может все изменить.
Талызин велит бить в набатный колокол. Гарнизон выстраивается на крепостных стенах; двести канониров с зажженными фитилями стоят возле двухсот пушек.
В десять часов вечера прибывает императорская яхта и готовится высадить на берег своего именитого пассажира.
– Кто идет? – кричат с крепостной стены.
– Император! – отвечают с яхты.
– Нет больше императора! – кричит Талызин. – И, если яхты еще хоть на шаг приблизятся к порту, я прикажу открыть огонь.
На борту императорской яхты начался страшный переполох; капитан, которому показалось, что он уже слышит свист ядер, взял рупор и крикнул:
– Мы удаляемся; дайте нам только время отойти!
И в самом деле, яхта, маневрируя, чтобы удалиться, повернула на другой галс, сопровождаемая криками "Да здравствует императрица Екатерина!", которыми приветствовали это бегство.
И тогда император зарыдал.
– О, я отлично вижу, что это общий заговор, – произнес он.
Чуть живой, он спустился в каюту вместе с Елизаветой Воронцовой и ее отцом – единственными придворными, осмелившимися последовать за ним.
Оказавшись за пределами дальнобойности пушек, яхты остановились, и, поскольку император был неспособен отдать какой-либо приказ, моряки, не зная, что делать, стали лавировать между крепостью и берегом.
Так прошла ночь.
Миних находился на палубе и, спокойно глядя на звезды, шептал:
– Что, черт возьми, мы делаем на этой галере?
Тем временем войска императрицы двигались на Петергоф, полагая, что там им предстоит встретиться с гольштейнскими солдатами.
Однако, увидев, что император бежал, гольштейнцы вернулись в Ораниенбаум, и в Петергофе остались лишь вооруженные косами бедняги-крестьяне, которых согнали туда гусары.
Орлов, шедший впереди в качестве разведчика, набросился на этих мужиков, не раздумывая о том, насколько они многочисленны, и с криками "Да здравствует императрица!" рассеял их, нанося им удары саблей плашмя.
Между тем подошла вся армия, и Екатерина вернулась самодержицей в тот самый дворец, который за сутки до этого она покинула как беглянка.
Около шести утра император велел позвать Миниха.
– Фельдмаршал! – обратился к нему Петр III. – Мне надо было следовать вашим советам, и я раскаиваюсь, что не послушал их. Вы, кто не раз попадал в крайне тяжелое положение, можете сказать, что мне делать?
– Ничего не потеряно, ваше величество, – ответил Миних, – если только вы соблаговолите выслушать меня.
– Говорите!
– Так вот, надо, не теряя ни минуты, подняв все паруса и налегая на весла, уйти от крепости и направиться в Ревель, взять там военный корабль и на нем отплыть в Пруссию, где находится ваша армия, а затем вернуться в свое государство, встав во главе восьмидесяти тысяч солдат, и я ручаюсь, ваше величество, что через полтора месяца вы будете сильнее, чем когда-либо прежде.
Придворные вошли вслед за Минихом, чтобы узнать, на что им надеяться и чего опасаться.
– Но у гребцов не хватит сил довести яхты до Ревеля, – послышался чей-то голос, явно выражавший общее мнение.
– Ну что ж, – промолвил Миних, – когда они устанут, настанет наш черед грести.
Его предложение не имело никакого успеха у этой изнеженной молодежи. Императора стали уверять, что положение далеко не безнадежное, что не подобает такому могущественному монарху бежать из своего государства, что не может быть, чтобы вся Россия поднялась против него и что все это восстание, возможно, не имеет иной цели, кроме как приблизить императора к жене.
Император ухватился за эту мысль и, решив добиваться примирения, сошел на берег в Ораниенбауме; он пребывал в убеждении, что от него не требуется ничего другого, как только простить. На берегу, все в слезах, толпились дворцовые слуги; их подавленное состояние вновь пробудило в нем страхи.
Армия императрицы шла на Ораниенбаум.
И тогда император велел оседлать лошадь, чтобы, переодевшись, одному бежать в Польшу. Но Елизавета Воронцова воспротивилась этому решению и заставила изменить его; она убедила императора послать кого-нибудь навстречу императрице и просить у нее разрешения для себя и Воронцовой удалиться в Гольштейн. Напрасно слуги, падая перед ним на колени и умоляюще сложив руки, кричали: "Батюшка, она убьет тебя!"; он их не слушал, а Елизавета велела им удалиться, сказав: "Несчастные, чего ради вы пугаете своего господина?"
Петр III пошел даже дальше того, что предлагала его фаворитка: боясь вызвать ярость наступавших солдат, он приказал разобрать маленькую крепость, служившую для его военных забав, снять пушки с лафетов и положить на землю оружие солдат. Миних, придя в бешенство, пучками вырывал свои седые волосы.
– Если вы не можете умереть, как император, стоя во главе своих войск, государь, – сказал он, – то берите в руки распятие, и мятежники не посмеют тронуть вас. Ну а я возьму на себя сражение.
Однако на этот раз, несомненно потому, что его решение было неудачным, император настоял на нем; но, не потеряв еще надежды, что ему удастся избежать ссылки, он написал Екатерине первое письмо, предлагая ей примирение и раздел власти; императрица даже не ответила на это письмо. Тогда он написал ей второе, в котором умолял простить его, просил назначить ему денежное содержание и разрешить удалиться в Гольштейн.
И тогда она послала ему с генералом Измайловым следующий текст отречения от престола:
«В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть Российским государством. Почему и восчувствовал я внутреннюю оного перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного чрез то бесславия. Того ради помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно чрез сие заявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что от правительства Российским государством на весь мой век отрицаюсь, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже оного когда-либо или чрез какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно, все сие отрицание написав и подписав моею собственною рукою».
Тому, кто должен был доставить императору текст отречения, было приказано передать Петру III, что императрица окружена людьми настолько ожесточенными против него, что она не отвечает за его жизнь, если он откажется подписать эту бумагу.
Измайлов пришел к императору, сопровождаемый одним лишь преданным слугой, и, поскольку Петр III колебался, заявил:
– Государь, именем императрицы я беру вас под арест.
– Но я сейчас подпишу, – поторопился сказать император.
– Речь идет не только о том, чтобы подписать акт: его надо полностью переписать вашей собственной рукой.
Император вздохнул, взял перо, переписал акт и подписал его.
Он лишь добавил на отдельном листе бумаги такие слова:
"Я хочу, чтобы мне прислали мою собаку Мопра, моего арапа Нарцисса, мою скрипку, несколько романов и мою немецкую Библию".
Но на этом все не закончилось, и, словно император был еще недостаточно унижен, Измайлов снял с него орденскую ленту.
Потом он посадил Петра III вместе с его любовницей и фаворитом в карету и отвез в Петергоф.
Императору пришлось проехать сквозь ряды солдат, встретивших его криками: "Да здравствует Екатерина!"
Карета остановилась перед главной лестницей. Император вышел первым, за ним последовала Елизавета Воронцова. Но едва лишь она ступила на землю, как ее схватили солдаты, сорвали с нее орденскую ленту Святой Екатерины и разорвали на ней одежду.
Гудович вышел вслед за ней; солдаты освистали его, но он обернулся и обозвал их трусами, предателями и негодяями.
Волна солдат подхватила и унесла его так же, как перед этим она унесла Елизавету Воронцову.
Император вошел во дворец один, рыдая от ярости. За ним следовали десять или двенадцать солдат.
– Раздевайся! – приказал ему один из них.
Тогда он отбросил шпагу, которая до этого все еще была при нем, и снял камзол.
– Дальше! Дальше! – кричали мятежники.
Ему пришлось снять с себя всю свою одежду.
В течение десяти минут, оставаясь босым, в одной рубашке, он подвергался издевательствам со стороны солдат.
Наконец ему бросили старый халат, который он надел; после этого он рухнул в кресло, опустив голову на руки, закрыв глаза и уши, словно хотел не видеть и не слышать то, что происходило вокруг.
Тем временем императрица принимала в парадной комнате придворных и составляла себе новый двор. Все, кто за три дня до этого окружал Петра III, теперь окружали ее.
Вся семья Воронцовых была здесь и стояла перед ней на коленях.
Княгиня Дашкова тоже встала на колени, как все ее родные, и, обращаясь к императрице, сказала:
– Государыня, вот вся моя семья, которую я приношу вам в жертву.
Императрица велела принести орденскую ленту и драгоценности Елизаветы Воронцовой и отдала то и другое ее сестре, которая без всяких колебаний приняла этот дар.
В эту минуту вошел Миних.
– Клянусь, государыня, – промолвил он, – я долго задавал себе вопрос, кто из вас мужчина, вы или Петр Третий, и, поскольку теперь со всей определенностью выяснилось, что это вы, я пришел к вам.
– Вы же хотели сражаться со мной, Миних, – сказала ему императрица.
– Да, государыня, – ответил он, – искренне признаюсь вам в этом, но теперь мой долг состоит в том, чтобы сражаться не против вас, а за вас.
– Но вы не говорите о советах, которые вы можете дать мне, Миних, и которые являются плодом тех знаний, какие приобретены вами за долгие годы, проведенные в делах мира и войны, а также в изгнании.
– Поскольку моя жизнь принадлежит вам, – отвечал Миних, – то весь опыт, который мне удалось приобрести в течение этой жизни, также принадлежит вам.
В тот же день Екатерина вернулась в Санкт-Петербург, и ее триумфальное возвращение было встречено с таким же ликованием, с каким ее провожали накануне.
На следующий день императрица отдала под командование Алексея Орлова четырех отборных офицеров и отряд спокойных и рассудительных солдат (это ее собственные слова), чтобы они отвезли императора в Ропшу.
В числе этих отборных офицеров, этих спокойных и рассудительных солдат был некто по имени Теплое, младший из князей Барятинских и поручик Потемкин – тот, что подал императрице темляк.
Через пять или шесть дней после приезда императора в Ропшу, 19 июля, Теплое и Алексей Орлов, оставив в передней Потемкина и Барятинского, вошли в спальню императора, которому только что подали завтрак, и заявили, что они хотят позавтракать вместе с ним.
По обычаю, принятому в России, вначале подали соления и водку.
Орлов подал императору стакан с отравленной водкой.
Петр III, не питая никаких подозрений, выпил его содержимое, и несколько минут спустя у него начались нестерпимые боли.
Тогда Алексей налил из той же бутылки второй стакан и хотел заставить императора выпить его.
Но император стал отбиваться и звать на помощь. Алексей Орлов, обладавший, как мы уже говорили, невероятной силой, бросился на него, опрокинул его на кровать, придавил коленом и стал сжимать ему горло, а в это время Теплое, как уверяют, воткнул ему в задний проход раскаленный на огне ружейный шомпол.
Крики, слышавшиеся вначале, стали ослабевать и, наконец затихли совсем.
Петр III, доверенный попечению четырех отборных офицеров и отряду спокойных и рассудительных солдат, умер, как сказала нам Екатерина, от геморроидального кровотечения, которое не повредило ему желудок, но вызвало воспаление кишечника.
В тот же день, когда императрица приступила к обеду, ей подали письмо; посланец извинился, что ввиду великой важности этого письма он беспокоит ее во время трапезы.
Письмо и в самом деле, как сейчас будет видно, содержало очень важное известие. Оно было от Алексея Орлова.
Он писал:
"Матушка, милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как это случилось. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка – его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневали тебя и погубили души навек.
Алексей Орлов".
Милосердная матушка не только простила это злодеяние, но и возвела Алексея Орлова в достоинство графа империи.
В ночь с воскресенья на понедельник, по приказу императрицы, тело Петра III было перевезено в Санкт-Петербург и выставлено на катафалке в Невском монастыре.
Лицо умершего было черное, шея была разорвана.
Но главное состояло не в том, что люди гадали, какой смертью умер император, а в том, чтобы никто не сомневался в его смерти.
Власти опасались Лжедмитриев и предвидели Пугачева.
Вслед за тем император был без всяких почестей похоронен в том же монастыре.
Мы видели, что после своего вступления на престол Павел I извлек из гробницы тело Петра III, устроил ему пышные похороны и заставил Алексея Орлова и Барятинского, единственных оставшихся в живых участников этой ужасной драмы, следовать впереди траурной процессии.
Каждый из них держал угол покрывала, положенного на гроб их жертвы!
XLIII. РОПША
После того как мы посетили Ораниенбаум, где нам показали оловянных солдатиков и деревянные пушки Петра III, комнату, в которой он подписал свое отречение, и остатки маленького форта, который он, пребывая в страхе, приказал снести; после того как я подал милостыню старому солдату, подкреплявшему свои права на мою щедрость тем, что он был участником кампании 1814 года и брал Париж, подтверждением чему служила серебряная медаль в его петлице; после того как я поцеловал ручку княжне Елене, очаровательной двухлетней девочке, которую ее мать, великая княгиня, правилами этикета лишенная возможности меня принять, послала ко мне, как Господь посылает одного из своих херувимов, когда он не хочет явить себя самолично, – после всего этого мы решили посетить резиденцию в Ропше, где произошла развязка той ужасной драмы, какую мы только что описали.
Для этого нам нужно было вернуться в Петергоф.
Ну а оказавшись в Петергофе, мы решили сделать сюрприз нашим добрым друзьям, Арно и его жене, напросившись к ним на завтрак.
Так что мы остались в вагоне и вышли только в имении графини Кушелевой, тетки нашего хозяина: по соседству с этим имением обосновалась французская колония, состоявшая большей частью из наших парижских актеров, волею судьбы перенесенных в Санкт-Петербург.
Мы прошли около двух верст пешком в сопровождении старого театрального постановщика из Опера-Комик, г-на Жосса, сошедшего с поезда вместе с нами.
Господин Жосс напомнил мне, что когда-то он поставил в Опера-Комик мою комедию "Пикильо".
Удивительно было в восьмистах льё от Парижа оказаться среди знакомых, но в России такие чудеса случаются на каждом шагу.
Проделать эти две версты пешком, причем самым резвым шагом, заставило нас – Муане, Григоровича и меня – то, что мы испытывали зверский голод и, надеясь на хороший завтрак, намеревались постучать в дружескую дверь.
Я уже говорил, что это была за дверь: мы собирались постучаться к красивой и милой г-же Напталь-Арно, с таким талантом сыгравшей столько ролей в моих пьесах.
Я должен был обедать с этими моими добрыми друзьями в прошлую субботу, ровно неделю тому назад. Мне приготовили превосходную встречу. Было все, вплоть до фейерверка, состоявшего из двух солнц и трех римских свечей. Но человек предполагает, а Бог располагает. Накануне того дня, когда мне предстояло удовольствие оказаться у них, меня, к несчастью, увлекли в другое место.
Добравшись, наконец, до этой вожделенной двери, мы толкнули ее и, войдя без доклада, как это принято у настоящих друзей, застали г-жу Арно с грамматикой в руках, диктующей письменное упражнение двум своим дочерям. Третья, которую привезли в двухмесячном возрасте из Парижа в Санкт-Петербург и которая, лежа у материнской груди, в этом теплом и надежном укрытии, даже не заметила, что ей пришлось пережить зиму с тридцатиградусным морозом, спокойно спала теперь в своей колыбели.
Что же касается Арно, то он был на охоте, открывшейся как раз в этот день.
При виде нас мать и дети в один голос радостно закричали.
Но потом из уст хозяйки вырвался робкий вопрос, в тоне которого слышался определенный оттенок страха:
– А вы, случайно, не позавтракать пришли?
– Мало того, что мы пришли позавтракать, мы еще умираем от голода! – без всякого стеснения ответил я, не оставляя г-же Арно ни малейшей надежды.
Хозяйка позвала кухарку, и состоялся большой совет. Непростое это дело – устроить без подготовки завтрак для трех мужчин с могучим аппетитом, да еще в загородном доме, в тринадцати верстах от Санкт-Петербурга, откуда приходится везти все, вплоть до хлеба.
Наконец выяснилось, что в кладовой есть утка, тайком, до открытия охотничьего сезона убитая г-ном Арно, а также дюжина яиц.
Но г-жа Арно предчувствовала, что омлета и рагу из дичи будет недостаточно для трех пар челюстей, столь грозных, как наши. Она послала за помощью ко всем французам в колонии, и, после того как каждый, во имя родины, сделал свой вклад, у нас получился великолепный завтрак.
Во время завтрака обсуждалось, каким способом мы можем добраться до Ропши. В Кушелеве транспортные возможности не отличались разнообразием. В итоге нашли и запрягли то, что называется телегой; я не знаю, какого рода это средство передвижения – женского или мужского, но мне точно известно, что оно жесткое.
Телега ожидала нас у дверей.
Нам предстояло проделать шестьдесят верст (туда и обратно). Госпожа Арно снабдила нас тремя одеялами, которые должны были послужить нам защитой в случае, если бы огромная черная туча, надвигавшаяся на нас, вздумала разразиться дождем. Затем г-жа Арно дала нам дружеский совет затянуть потуже пояс, пустив в ход либо застежки на панталонах, либо ремень.
До завтрака подобный совет привел бы нас в ужас, но теперь, после завтрака, мы с Муане храбро спросили:
– А для чего надо затягивать пояс?
Госпожа Арно нам это объяснила.
Ее совет имел отношение к нашим желудкам, которым тряска на телеге могла причинить немалое беспокойство, ибо только желудки местных жителей способны выдержать подобный способ передвижения, не подвергаясь опасности.
В России изготавливают особые кушаки для путешественников, передвигающихся в телегах.
Объясним попутно, что же представляет собой телега. (Определенно, я остановился на том, что это средство передвижения – женского рода.)
Предназначена она, главным образом, для перевозки товаров.
Представьте себе небольшую низкую четырехколесную повозку в форме лодки, без всяких рессор, подвешенную прямо на оси и снабженную двумя досками, которые положены поперек и предназначены для сидения.
Впрягите в эту колымагу, вполне способную быть старинным пыточным орудием времен Ивана Грозного, трех низкорослых, крепких, коренастых курляндских лошадей, средняя из которых мчится рысью, а те, что по бокам, скачут во весь опор, не обращая внимания на крики седоков; теперь вообразите, что правит всем этим финский мужик, который не понимает никакого языка, даже русского, и, когда ему кричат "Стой!", думает, что ему кричат "Пошел!", – и у вас будет представление об этом смерче, вихре, ураганном ветре, громе, под именем телеги проносящемся мимо вас на пути из Кушелева в Ропшу, по дороге, усыпанной камнями, которые не сочли нужным убрать, и усеянной ямами, которые забыли засыпать.
Мы прибыли в Ропшу разбитые, сломленные усталостью, изнуренные; что же касается лошадей, то у них не взмок ни единый волосок.
К счастью, в то утро мы встретили на вокзале в Петергофе генерала графа Т***.
Он подошел ко мне и, к моему великому удивлени: _>, первым заговорил со мной.
Это был мой старый знакомый, которого я не узнал; он напомнил мне, что лет двадцать пять тому назад мы с ним обедали вместе с герцогом де Фиц-Джеймсом, графом д'Орсе и Орасом Верне у прекрасной Олимпии Пелисье – ныне г-жи Россини.
Раз уж он соблаговолил вспомнить об этой встрече, то и я воздержался забыть о ней.
Генерал предложил нам свои услуги, проявив при этом ту истинно русскую учтивость, в какой у нас до сих пор никогда не было недостатка.
Мы сказали ему, что направляемся в Ропшу, не упомянув, разумеется, о цели нашей поездки, и надеемся посетить дворец.
– А есть у вас рекомендательное письмо? – поинтересовался он.
У нас не было такого письма.
Я вырвал страничку из моего дневника, и генерал написал несколько строчек, которые должны были обеспечить нам прекрасный прием со стороны управляющего дворцом.
Дорога в Ропшу идет по равнине, как все дороги севера России, но обсажена деревьями. Маленькая речка, извилистая, как Меандр, которую мы пересекли раз тридцать, изобилует прекрасной форелью. Поэтому, если в Петербурге слуга предлагает вам форель, он непременно скажет: "Форель из Ропши".
У князя Барятинского был слуга, никогда не упускавший случая произнести это. Восемьсот или девятьсот льё, отделяющих Ропшу от Тифлиса, меркли перед этой укоренившейся у него привычкой, и он счел бы своего хозяина обесчещенным, если бы форель, поданную к его столу у подножия Казбека, не сопровождали слова, звучащие как заклинание: "Форель из Ропши".
Обычно люди ищут сходство между колоритом местности и происшедшими там событиями. Я представлял себе Ропшу старым и сумрачным замком времен Владимира Великого или, по крайней мере, Бориса Годунова. Ничуть не бывало: Ропша – это строение во вкусе прошлого века, окруженное прекрасным английским парком, стоящее под сенью великолепных деревьев, с огромными проточными прудами, где во множестве разводят форель, предназначенную для императорского стола в Сан кт– П етербурге.
Что же касается замка, в котором в это время все было перевернуто снизу доверху и целый полк рабочих оклеивал стены персидской бумагой, то по размеру он был точно как какое-нибудь шале в Монморанси.
В одной из двух комнат, образующих левый угол замка, разыгралась в ночь с 19 на 20 июля ужасная драма, о которой мы пытались рассказать.
Оранжереи Ропшинского дворца – самые богатые в окрестностях Санкт-Петербурга. Записка графа Т*** произвела волшебное действие: садовники, рискуя причинить ощутимый вред моему пищеварению, заставляли меня пробовать все выращенные ими ранние фрукты: персики, абрикосы, виноград, ананасы, вишни. Все это мало напоминало натуральные плоды, но славные садовники угощали меня с такой настойчивостью и любезностью, что невозможно было отказаться и пришлось рискнуть несварением желудка, лишь бы доставить им удовольствие.
Кроме того, я унес с собой букет цветов, который был в два раза больше моей головы.
Мне и в голову не могло прийти, что я приеду в Ропшу за цветами!..
Вернувшись на дачу Безбородко, мы узнали новость огромной важности.
Духи воспользовались нашим с Муане отсутствием, чтобы напроказничать: Хьюм вновь обрел силу!
Я приехал в восемь часов утра, переночевав в Санкт-Петербурге; в доме еще никто не вставал.
Я направился в свою комнату, а вернее, свои покои, стараясь не шуметь, на цыпочках, как благовоспитанный юнец, не ночевавший дома.
Но не успел я перешагнуть порог комнаты, как туда же на глазах у меня вошел Миллелотти, растерянный, бледный и дрожащий.
Он рухнул в кресло.
– Ах, мой дорогой монсу Дума! – воскликнул он. – Ах, мой дорогой монсу Дума, если бы вы только знали, что произошло!
– Ну, и что же произошло, маэстро? Во всяком случае, мне кажется, что-то не слишком приятное для вас.
– Ах, монсу Дума, моя бедная тетушка, скончавшаяся девять месяцев назад, вселилась этой ночью в стол, и стол побежал за мной; стол целовал меня, да так нежно, что у меня до сих пор из зубов кровь идет.
– Что за чертовщину вы мне тут рассказываете? Вы с ума сошли?
– Нет, я не сошел с ума, но Хьюм вновь обрел свою силу.
Я радостно закричал: наконец-то мне предстоит увидеть кое-что из чудес знаменитого спирита.
Вот что на самом деле произошло.
Имейте в виду, что это рассказ Миллелотти, который я перевожу для вас на французский. И поверьте, дорогие читатели, я ничего не добавил к его словам.
Миллелотти и Хьюм занимали на первом этаже дома, но в другом крыле, две смежные комнаты, отделенные одна от другой тонкой перегородкой с двустворчатой дверью посредине. Я всегда подозревал, что Хьюм выбрал эти комнаты, чтобы быть подальше от меня: он во всеуслышание обвинил меня в том, что я обращаю духов в бегство.
Итак, прошлой ночью, около часа, – приготовьтесь услышать нечто ужасное! – когда ни Миллелотти, ни Хьюм еще не спали и, лежа в кроватях, читали при зажженных свечах, внезапно послышались три удара в межкомнатную перегородку, потом еще три и еще три. И тот и другой насторожились.
"Это вы звали меня, Миллелотти? – спросил Хьюм. – Вам что-нибудь нужно?"
"Ничего не нужно, – ответил маэстро. – Стало быть, это не вы стучали?"
"Я? Я лежу в своей постели, на другом конце комнаты".
"Что же тогда это такое?" – спросил Миллелотти, которого начал охватывать страх.
"Это духи", – ответил Хьюм.
"Как это духи?" – спросил Миллелотти.
"Да, – продолжал Хьюм, – моя сила возвращается ко мне".
Не успел он произнести эти слова, как Миллелотти соскочил со своей кровати и, распахнув дверь, предстал перед Хьюмом, бледный как призрак смерти.
"Полноте, – сказал он Хьюму, – давайте без глупостей!"
Хьюм лежал в кровати и выглядел совершенно спокойным.
"Не бойтесь ничего, – сказал он, – а если боитесь, сядьте на мою кровать".
Миллелотти подумал, что самое лучшее – последовать совету Хьюма. Видя, что он находится в таком добром согласии с заклинателем и даже бесцеремонно садится на его кровать, духи, по всей вероятности, его не тронут.
Итак, маэстро сел рядом с Хьюмом, который, приподнявшись на подушке и устремив взгляд на перегородку, произнес тихо, но в то же время внушительно:
"Если вы в самом деле мои верные духи и вы вернулись ко мне, то постучите три раза с равными промежутками".
Духи постучали три раза с равными промежутками, а затем послышался четвертый удар, который, прозвучав отдельно, казался поставленным в конце фразы, но не как вопросительный знак, а как знак, приглашающий к вопросам.
Хьюму, который понимает язык духов так же, как г-н Жюльен – китайский, не было нужды доискиваться, что хотели сказать духи этим четвертым ударом.
"Вы пришли ко мне или к моему товарищу?" – спросил Хьюм.
Духи ответили, что они пришли к Миллелотти.
"Как, ко мне?! – вскричал маэстро и, отгоняя духов, замахал руками, как если бы ему надо было отогнать мух. – Ко мне? Какого черта им от меня надо, вашим духам?"








