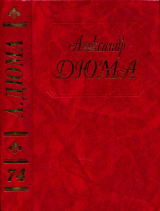
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
Несомненно, новый город достиг бы еще большего процветания, если бы Андрей, которого его благочестие отдалило от жены, не был бы убит ею и ее семейством, что стало местью сыну за злодейство, некогда совершенное его отцом.
Москва с той поры оказалась покинутой, а потом ее разграбили и предали огню монголы. Все погибло тогда в дыму этого первого пожара, так что лишь в 1248 году у Москвы снова появился князь, и только в 1280 году город возродился.
Даниил, младший сын Александра Невского, который провел жизнь, борясь со своими подданными, побеждая их и даруя им прощение, и гений которого сделал его великим человеком, а добродетели – святым, Даниил унаследовал земли на Москве-реке, в свое время захваченные Юрием у утопленного им Кучки. Даниил нашел основанный Юрием город весьма заброшенным, а лучше сказать, несуществующим. Место, где сейчас стоит Кремль, заросло густыми лесами, и островок, окруженный болотом, в которое, очевидно, превратился пруд, где утопили Кучку, служил прибежищем благочестивому отшельнику, слывшему святым. Даниил превратил хижину отшельника в церковь, посвященную Преображению, окружил остров палисадом и построил там себе дворец.
Потом он основал монастырь, где и был похоронен.
Его сын предпочитал жить больше в Москве, чем во Владимире и Суздале, и из-за этого предпочтения получил прозвание Московский.
Дмитрий, заслуживший прозвище Донской своей победой над татарами, заменил палисад, поставленный
Даниилом вокруг Кремля, стеной, способной выдержать натиск монголов, и дал внутри нее прибежище митрополиту, святому Алексию, который построил там Чудов-скую церковь. И наконец, Евдокия, жена князя, построила там знаменитый Вознесенский монастырь, где она приняла постриг и где была похоронена: тридцать пять великих княгинь и цариц, упокоившихся здесь же, составляют ее погребальную свиту.
При Иване III, сыне Василия Васильевича, Москва, благодаря своему богатству и красоте своих зданий, начинает становиться царицей русских городов. Иван III обогатил столь любимую им Москву добычей из Новгорода Великого, расширил пределы города, обнес его новой крепостной стеной, защитой которой служили массивные остроконечные башни, крытые зеленой и золотой обливной черепицей; он украсил одну из этих башен иконой Христа Спасителя: ее поместили над воротами, почитающимися поэтому святыми – ни один русский не приблизится к ним, не перекрестившись, и никто не войдет в них, не обнажив голову; он построил в Кремле Успенский собор, завещав своему сыну Василию III продолжать эти труды; тот построил в Кремле нынешнюю митрополичью церковь во имя святого Иоанна Крестителя, которая знаменита своей колокольней Иван Великий, увенчанной прославленным крестом: считалось, что он сделан из чистого золота, и потому французы увезли его при отступлении из Москвы, но потом были вынуждены бросить в какую-то реку.
При Иване IV – Иване Грозном – одновременно с целым рядом других сооружений, украсивших город, был построен знаменитый Покровский собор, в просторечии называемый "Василий Блаженный"; о нем мы подробнее поговорим по другому поводу.
Да простится мне, что я посвятил несколько страниц основанию Москвы и росту ее могущества. Для нас Москва – легендарный город; она видела катастрофу, подобную тем крушениям, какие потерпели Камбис и Аттила; Москва – крайняя точка, где Франция водрузила свое знамя на севере, водрузив его прежде на юге, в Фивах.
Вся наша революционная и имперская эпопея, величайшая со времен Александра Македонского и Цезаря, заключена между именем Бонапарта, высеченным на пилонах Фив, и именем Наполеона, начертанным на руинах Кремля. Поэтому не стоит удивляться, что у меня забилось сердце, когда я проезжал по городу Юрия Долгорукого.
Впрочем, возможно, что отчасти оно трепетало и от испытываемого мною желания снова увидеться с двумя моими друзьями.
Женни ждала нас у ворот Петровского парка, а Нарышкин – на крыльце, откуда он проводил смотр своих лошадей: этому приятному занятию он предавался каждое утро.
Кстати сказать, у Нарышкина самый лучший в России табун лошадей: он единственный владеет потомством принадлежавшего Григорию Орлову знаменитого племенного жеребца, русское имя которого я, к сожалению, не могу припомнить (в переводе на французский оно означает "Удалец").
Наше появление было встречено криками радости: в него уже никто не верил.
Нарышкин на минуту прервал свой смотр. Женни повела нас показывать отведенные нам комнаты.
Очаровательный павильон, отделенный от главного здания живой изгородью из сирени и цветущим садом, был предоставлен в наше полное распоряжение и специально для нас заново обставлен.
Неслыханная роскошь в Москве: у каждого была отдельная кровать!
Все мелочи комфорта и туалета, какие может предусмотреть женщина, занимаясь внутренним убранством дома, были заботливо и щедро включены нашей очаровательной хозяйкой в обстановку предоставленных нам комнат.
Было ясно, что нас рассчитывают удержать здесь как можно дольше; к сожалению, каждый день у нас был на счету: мне хотелось попасть в Нижний Новгород на знаменитую ярмарку, куда посылают своих представителей и Европа, и Азия.
Наши восторги и изъявления благодарности, сопровождавшие осмотр павильона, были прерваны звоном колокола, возвещавшего время завтрака. Мы отправились в главное здание, где нас встретил повар с коленкоровым колпаком в руках.
Этот повар, хотя он и отличался в лучшую сторону от того, что был у Кушелева, тем не менее оставался русским поваром, то есть человеком, исполненным предрассудков. Правда, его неприятие французской кухни поддерживалось Нарышкиным, который в качестве боярина старого закала отдавал предпочтение кухне Ивана Грозного, или, если угодно, грозной кухне Ивана.
Но Нарышкин подчинился долгу гостеприимства, и было условлено, что на протяжении всего нашего пребывания в Петровском парке г-н Кутузов – как видите, повар носил прославленное имя – будет подчиняться исключительно мне.
И он ожидал меня, чтобы засвидетельствовать мне верность и почтение как своему сюзерену.
Мы уже познакомились с ним в Санкт-Петербурге, так что это унижение было для него не столь уж болезненным.
Однако между бесправным слугой и всесильным господином встало серьезное, хотя и преодолимое препятствие: слуга не знал ни слова по-французски, а господин – по-русски.
И потому было условлено, что наша хозяйка, сойдя с высот элегантности – высот, на которых, следует признать, находились не только зимние и летние дворцы и виллы, где она царила, но и обычное жилище, устроенное ею для себя, – будет служить нам переводчицей.
Я высказал свои замечания по поводу завтрака, оказавшегося все же лучше, чем можно было ожидать от русского повара, зато безмерно расхвалил севрюжину, которую отваривают с пряностями и едят холодной, приправляя лишь хреном.
Если я когда-нибудь обзаведусь поваром, то отварная севрюжина с хреном будет единственным блюдом, которое я разрешу ему позаимствовать из русской кухни.
После завтрака мне предложили совершить прогулку туда, куда я пожелаю. У Нарышкина, независимо от того, собирается он выезжать или нет, всегда стоит в пятидесяти шагах от крыльца коляска, запряженная четверкой; лошади эти запряжены бок о бок, как на триумфальной колеснице, и, образуя при езде веер, производят, надо сказать, замечательное впечатление.
Но мной было заявлено, что днем я сегодня никуда не поеду, а вот вечером отправлюсь в Кремль, чтобы увидеть его при свете луны. Сошлись на том, что я хозяин и все должны мне повиноваться.
Нарышкин, как и остальные, склонил передо мной голову, один сел в свою коляску, запряженную четверкой, и отправился в клуб.
Мы смотрели, как он удаляется во всем своем величии, словно Аполлон, правящий солнечной колесницей.
Когда же он скрылся из виду, завернув за угол живой изгороди – а в Петровском парке только такие и есть, – мы пошли на свежевыкошенную лужайку, чтобы, как школяры на каникулах, поваляться на сене.
Я храню в памяти несколько чудных воспоминаний из моей жизни, воспоминаний из числа тех, какие в часы грусти проносятся перед вами, будто утешительные видения, воспоминаний, полных ощущения свободы, нежности и приязни.
Петровский парк – одно из таких воспоминаний.
Спасибо милым, дорогим друзьям, которым я этим обязан!
День промчался, словно часы были секундами. Настал вечер, взошла луна и залила всю природу своим мягким, ласковым светом: этот час я и избрал, чтобы выехать из дома и увидеть Кремль.
Мое решение увидеть Кремль именно таким образом было поистине вдохновением свыше. Наше восприятие мест, которые мы посещаем, явно подвержено влиянию света солнца и часа дня, а более всего оно зависит от нашего настроения.
Так вот, Кремль, увиденный мною в тот вечер, – в нежном сиянии, окутанный призрачной дымкой, со шпилями, устремленными к звездам, словно стрелы минаретов, – показался мне дворцом волшебницы, о котором не может дать представление перо.
Я вернулся изумленным, восхищенным, покоренным – счастливым.
Счастливый! Это прекрасное слово так редко исходит из уст человека, и даже буквы его заимствованы из языка ангелов.
LI. ПОЖАР
На следующий день после моего приезда Нарышкин пригласил позавтракать с нами начальника полиции Шетин-ского, чтобы я мог получить от него кое-какие интересные сведения.
Мы уже минут десять сидели за столом, как вдруг без доклада вошел встревоженный офицер полиции и по-русски произнес лишь одно слово:
– Пожар!
Начальник полиции вскочил со своего места.
– Что случилось? – спросил я.
– Пожар! – в один голос ответили Нарышкин и Женни.
Пожар в Москве – происшествие довольно частое, но при этом всегда серьезное.
Из одиннадцати тысяч московских домов только три тысячи пятьсот каменные, остальные – деревянные (мы говорим о тех, что находятся в черте города).
Если Санкт-Петербург считает годы своих бедствий по наводнениям, то Москва – по пожарам.
Само собой разумеется, что пожар 1812 года был самый страшный из всех.
Вместе с предместьями в Москве насчитывается около двадцати тысяч домов. Если верить автору "Истории разрушения Москвы в 1812 году", тринадцать тысяч восемьсот из них были превращены в пепел, и лишь шесть тысяч с трудом уцелели.
Меня охватило желание увидеть это грандиозное и ужасное зрелище.
– Где пожар? – спросил я у начальника полиции.
– В двух верстах отсюда, у Калужской.
– А вы можете взять меня с собой?
– Если вы пообещаете не задерживать меня ни на минуту.
– Едем.
Я схватил шляпу, и мы бросились к двери. Нас ожидала коляска начальника полиции, запряженная тремя крепкими вороными лошадьми; мы сели в нее.
– Гони во весь дух! – крикнул г-н Шетинский.
Посланец, явившийся к нам с сообщением о пожаре,
был уже в седле; он пришпорил лошадь и полетел как молния. Мы последовали за ним.
До того, как мне пришлось проделать эти две версты вместе с начальником полиции, я и представить себе не мог, с какой скоростью может мчаться экипаж, который увлекает за собой скачущая галопом тройка лошадей.
В какой-то миг я если и не испугался, то содрогнулся и у меня перехватило дыхание.
Пока наши лошади бежали по пригородной дороге, покрытой щебнем, нас окружало облако пыли, но стоило нам выехать на ребристую мостовую Москвы, как мы оказались буквально в облаке искр.
Я вцепился в железный поручень дрожек, чтобы не вывалиться. Вне всякого сомнения, начальник полиции хотел покрасоваться передо мной, поскольку он то и дело кричал: "Поскорее! Поскорее!", хотя мне казалось, что быстрее ехать невозможно.
На выезде из Петровского парка мы увидели столб дыма, и поскольку, к счастью, было безветрие, он стоял над местом пожара, будто гигантский зонт.
По мере нашего приближения к месту происшествия толпа становилась все гуще, но офицер, который мчался впереди нас и от которого мы отставали только на корпус лошади, кричал:
– Дорогу начальнику полиции!
И тех, кто при звуке этого грозного имени не спешил посторониться, он награждал ударами кнута.
Грохот, который мы производили, бешеная скорость, с какой мы мчались, и окрики нашего курьера привлекали к нам все взгляды; люди освобождали нам дорогу, как это делают при виде смерча, урагана, лавины.
Словно молния между двумя тучами пролетели мы между двумя рядами живого частокола. У меня все время было ощущение, что мы вот-вот кого-нибудь раздавим, но наши дрожки не коснулись даже чьей-нибудь одежды.
Не прошло и пяти минут, как мы оказались у места пожара.
Наши лошади остановились, дрожа и оседая на подгибающихся коленях.
– Прыгайте! – приказал мне г-н Шетинский. – Я не отвечаю за упряжку.
И в самом деле, лошади, извергая из ноздрей пар, чуть ли не огонь, встали на дыбы, как кони Ипполита.
Но мы уже были на земле.
Кучер круто развернул дрожки на месте и умчался.
Горел целый квартал. На протяжении почти двухсот метров дома, включая и те, что выходили на боковые переулки, были объяты пламенем.
К счастью, улица, на которую выходил этот сплошной пылающий фасад, была шириной в пятнадцать – двадцать метров.
Но справа и слева дело обстояло хуже: горящий квартал был отделен от соседних лишь переулками шагов пятнадцать в ширину. Эти два переулка были единственными проходами, позволявшими бороться с пожаром, наступая на него с тыла.
Начальник полиции приготовился ринуться в один из этих проходов.
– Куда вы? – спросил я.
– Вы же видите, – ответил он.
– Вы намереваетесь пройти по этому переулку?
– Приходится! Ждите меня здесь.
– Как бы не так! Я иду с вами.
– Зачем? У вас нет в этом никакой надобности.
– Хочу посмотреть. Если пройдете вы, пройду и я.
– Вы твердо решили?
– Тогда держитесь за перевязь моей сабли и не отставайте.
Я ухватился за его перевязь, и мы устремились вперед.
В течение нескольких секунд я ничего, кроме огня, не видел и ничем, кроме огня, не дышал; мне казалось, что я вот-вот задохнусь, и, пошатываясь, я хватал воздух ртом.
К счастью, по правую сторону от нас оказалась какая-то улица, и начальник полиции бросился туда.
Тяжело дыша, я рухнул на первое попавшееся бревно.
– Не вернуться ли вам за шляпой? – смеясь, поинтересовался начальник полиции.
И в самом деле, я обнаружил, что, пока мы пробирались сквозь огонь, шляпа слетела у меня с головы.
– Ну уж нет, – ответил я. – Пусть лучше остается там, где она есть. А вот стакан воды я бы выпил, исключительно ради того, чтобы загасить пламя, которого я наглотался.
– Воды! – крикнул начальник полиции.
От одной из групп, наблюдавших за пожаром, отделилась женщина: она вошла в дом, вышла оттуда с кружкой и поднесла ее мне.
Никогда ни капское, ни токайское вина не казались мне такими вкусными, как эта вода.
Пока я пил, до нас донесся какой-то грохот, напоминавший раскаты грома, – это приехали пожарные.
Поскольку пожары в Москве случаются весьма часто, пожарная служба поставлена тут достаточно хорошо.
Москва разделена на двадцать одну часть, и в каждой есть своя пожарная команда.
На площадке колокольни, самой высокой в части, постоянно дежурит человек, наблюдая, не начался ли где-нибудь пожар.
Стоит только показаться огню, как этот человек приводит в движение некую систему шаров, своего рода набор телеграфных знаков, с помощью которой оповещают не только о самом бедствии, но и о том, где оно происходит.
Получив оповещение, пожарные тотчас запрягают повозки с насосами и направляются к месту происшествия.
Пожарные прибыли; но, хотя они и не потеряли ни минуты, огонь был проворнее их.
Пожар начался в деревянной гостинице, и вызван он был неосторожностью ломового извозчика, который закурил во дворе, полном соломы.
Ворота в этот двор были распахнуты. Там царил настоящий ад.
Начальник полиции бросился в тот самый переулок, по которому мы с ним прошли, и появился снова с четырьмя пожарными насосами.
К моему великому удивлению, он направил струю воды не на очаг огня, а на крыши соседних домов.
Я поинтересовался у него, почему он выбрал такое направление.
– Разве у вас, французов, нет поговорки: "Дайте огню его долю добычи"?
– Да, есть, конечно.
– Ну так вот, с огнем не поспоришь, и я даю, а вернее, оставляю ему его долю добычи, однако при этом стараюсь сделать так, чтобы он ею и удовлетворился.
– А почему вы направляете струю воды из насоса именно на крыши?
– Потому что, как вы могли заметить, крыши эти из листового железа; от соседства с огнем они раскаляются и, вместо того чтобы предохранять поддерживающие их балки, сами становятся причиной пожара.
Единственный в округе водоразборный фонтан находился метрах в трехстах, и, когда в насосах кончалась вода, приходилось мчаться к нему и наполнять их там водой.
– Почему вы не устроите цепочку? – спросил я начальника полиции.
– Что значит "цепочка"?
Я объяснил ему, что во Франции, как только начинается пожар, все по собственному почину сбегаются, чтобы выстроиться живой цепочкой от места пожара к водоразборному фонтану, колодцу или реке; ведра передаются из рук в руки, и в итоге не насос движется за водой, а вода движется к насосу, который таким образом может работать непрерывно.
– Да, хорошо, превосходно придумано, – заметил он. – Все это понятно. Но у нас нет закона, который мог бы принудить людей к такому содействию.
– У нас подобного закона тоже нет, однако оказывать помощь готовы все. Я сам видел, как во время пожара в Итальянском театре в цепочку стали принцы.
– Дорогой господин Дюма, – возразил мне начальник полиции, – это настоящее братство, а русский народ не дорос еще до братства.
– А ваши пожарные, – снова спросил я, – до чего доросли они?
– До повиновения; идите посмотрите, как они работают, а потом поделитесь со мной впечатлениями.
На мой взгляд, это было лучшее, что я мог сделать в эту минуту, и потому, ухватившись за первый пустой насос так же, как раньше ухватился за перевязь начальника полиции, и пройдя через семидесятиградусный жар, я снова оказался на главной улице.
Пожарные и в самом деле трудились.
Они забрались на чердаки ближайших к месту пожара домов и с помощью топоров и ломов, помогая себе левой рукой в перчатке, срывали кровлю.
Однако пожарные опоздали: в угловом доме уже задымились чердачные окна, а затем посреди клубов дыма показались и языки пламени.
Но пожарных это не остановило, и, как солдаты, идущие на врага, они пошли в атаку на огонь.
Люди эти действительно были достойны восхищения.
То не был бессознательный порыв наших французских пожарных, каждый из которых сражается с разрушительной стихией в меру своего разумения, сам находит средства защиты и придумывает, как побороть огонь; нет, это было слепое, полное, безоговорочное повиновение. Если бы их начальник крикнул им: "Бросайтесь в огонь!", они с той же невозмутимостью бросились бы туда, хотя и понимая, что их ждет неминуемая и бессмысленная смерть.
Тем не менее они вели себя мужественно, а мужество – это всегда прекрасное зрелище.
Но мужество это, возможно, оценил лишь я один: рядом стояли три или четыре тысячи человек, глядя, как и я, на происходящее, но, казалось, не проявляя ни малейшего интереса к этому великому бедствию, ни малейшего сочувствия этому великому мужеству.
Во Франции бы кричали от ужаса, подбадривали, угрожали, восторгались, рукоплескали, улюлюкали.
Здесь – ничего подобного: угрюмое молчание, но молчание не горестное, а равнодушное.
Вспомнившиеся мне в эту минуту слова "Русский народ не дорос еще до братства", произнесенные начальником полиции, поразили меня своим глубоким смыслом.
Сколько же революций нужно этому народу, чтобы он дошел до того, до чего дошли мы?
Я был опечален этим равнодушием в большей степени, чем пожаром.
Попрощавшись с Муане, который, пристроившись в уголке, делал зарисовку происходящего, я сел в дрожки и велел отвезти меня в Петровский парк.
Карета оказалась запряжена, Карпушка сидел на облучке, и моя очаровательная хозяйка ждала меня.
Что же касается Нарышкина, то он устал дожидаться моего возвращения и в экипаже, запряженном парой лошадей, отправился в клуб.
Будучи любезным хозяином, нам он оставил карету, запряженную четверкой.
Было решено, что я отправлюсь осматривать Новодевичий монастырь.
Я попросил разрешения переодеться и пройтись щеткой по своим обгоревшим волосам.
Мне дали на это десять минут.
Может показаться, что настойчивость, с которой я желал посетить монастырь, объяснялась тем пышным именем, какое он носит.
Ничуть не бывало. Мне было известно, что этимология эта ложная и что название "Девичий" появилось вследствие искажения имени первой настоятельницы монастыря, которую звали Елена Девочкина.
Меня влекло к этому дважды знаменитому, дважды историческому монастырю другое; дело в том, что там, среди многих достославных захоронений, находятся и могилы Софьи Алексеевны и Евдокии Федоровны, чью трагическую историю я рассказывал.
Помимо того, что он вызывает исторические воспоминания, монастырь заслуживает посещения и как один из самых красивых, богатых и живописных в окрестностях Москвы.
Датируемый 1524 годом, он был построен великим князем Василием Ивановичем в ознаменование проводов знаменитой иконы Смоленской Божьей Матери, которую по просьбе жителей Смоленска вернули им в годы правления великого князя Василия Васильевича; выезд ее из Москвы сопровождался крестным ходом до Лужнецкой заставы, где, прежде чем икону перевезли через Москву-реку, был отслужен прощальный молебен.
На том самом месте, где происходило прощание со святыней, и был воздвигнут монастырь.
В монастыре находятся восемь церквей, и стоит он на берегу Москвы-реки.
Я так расхваливал Муане красоту этого монастыря, что мы поехали туда снова на следующий день, и, хотя русская архитектура не вызывала особых восторгов у моего товарища, монастырь удостоился его благосклонности, и он сделал с него восхитительную зарисовку.
Посетив Новодевичий монастырь, я попросил проехать на обратном пути мимо Кремля. Мне хотелось посмотреть при свете дня на места, которые произвели на меня такое сильное впечатление ночью.
Возможно, самая великая и самая ужасная страница нашей истории была написана здесь.
Это здесь у императора, словно у Христа, выступил на лице кровавый пот.
В тот момент, когда должна была осуществиться его мечта, в тот момент, когда, постучавшись в ворота Индии с юга, он стучится в ее ворота с севера; в тот момент, когда, после сражений у Смоленска и на Москве-реке, он садится в Кремле, то есть во дворце древних московских царей, на трон Владимира I, Софьи Палеолог и Петра Великого, раздается страшный, неожиданный крик: "Пожар!"
Он подходит к окну, откуда его взору предстает весь город. Пожар начинается одновременно в двадцати разных местах.
"Посмотрим, – говорил при входе в Москву император, – что будут делать русские; раз они отказываются вступать в переговоры, нам придется с этим смириться; зимние квартиры нам теперь обеспечены, и мы представим миру необычайное зрелище французской армии, мирно зимующей в окружении вражеского народа. Французская армия в Москве будет кораблем, застрявшим во льдах. С весной придет оттепель, а с ней и победа".
Но корабль оказался не во льдах, а в огне.
Наполеон полагал, что он своим гениальным умом предусмотрел все кровавые битвы, суровые зимы и даже неудачи. Он в Москве, с ним двести тысяч человек, ему не страшны никакие катастрофы.
Он предусмотрел все, кроме одного – ПОЖАРА!
Опершись об угол оконного проема, император задумчиво и сумрачно смотрит на страшный пожар.
"Сципиону, – говорит Полибий, – при виде горящего Карфагена пришло печальное предчувствие, что и Рим, в свой черед, может ждать подобная участь!"
"Так вот как они воюют! – воскликнул Наполеон, выйдя наконец из оцепенения. – Цивилизованность Санкт-Петербурга ввела нас в заблуждение: они так и остались скифами".
Затем он командует битвой против огня, как командовал бы битвой против неприятеля.
Однако теперь он имеет дело не с людьми: ему предстоит сражаться со стихией. Титан встретился с природной силой, превосходящей его по мощи.
Герцог Тревизский вместе со своим армейским корпусом должен перейти в наступление на огонь и погасить его.
Но в это время союзником огня становится ветер, Блюхер идет на помощь Веллингтону. Перед гигантским пожаром приходится отступить!
Внезапно огонь усиливается и меняет свой цвет: это в нижней части города, сплошь деревянной, вспыхивают водочные, масляные и винные склады. Река лавы вырывается из этого кратера, она растекается огненным потоком, подступает к фундаментам еще не тронутых огнем домов, которые вспыхивают одновременно со всех сторон.
Наши борцы с огнем отступают, преследуемые пламенем.
У пожара нет больше ни направления, ни границ: пламя ревет, клокочет, сто отдельных кратеров превращаются в один. Москва больше не город, а океан огня, где вздымает волны ураган.
Наполеон закрывает окно и бросается на диван; его сердце разрывается при виде подобного зрелища; но тут лопаются стекла, во дворец летят искры, от жара перехватывает дыхание.
Нужно покинуть дворец. Нужно бежать.
Бежать! Это слово Наполеону неизвестно.
Он остается.
Огонь охватил дворцовые конюшни. Горящая солома падает во двор Арсенала. Там находятся зарядные ящики нашей артиллерии.
Там таится опасность, и у Наполеона появляется повод выйти из Кремля; подвергая свою жизнь опасности, он направится туда, чтобы предотвратить взрыв. Наполеон спускается во двор Арсенала.
Это не отступление, это атака.
Канониры замечают Наполеона и окружают его; одни теряют голову и перестают бороться с огнем, другие хотят заставить императора уйти.
Генерал де Ларибуазьер, встав на колени, именем Франции смиренно приказывает ему покинуть это место.
Принц Евгений, маршалы Лефевр и Бессьер умоляют его удалиться.
Он приказывает князю Нёвшательскому и Гурго подняться на самый высокий балкон дворца (это тот, что находится ближе всего к Ивановской башне).
Они подчиняются; ветер настолько силен и воздух так разрежен, что их едва не уносит вихрем; они цепляются за ограду балкона и кричат:
– Огонь окружает Кремль! Спасайте императора!
– Отыщите проход, господин де Мортемар, – говорит побежденный Наполеон, – и уходим. Хотя, – вполголоса добавляет он, – возможно, лучше было бы умереть здесь.
Господин де Мортемар возвращается. Из Кремля можно выйти через подземную галерею, ведущую к Москве-реке.
Император вздыхает, идет за своим провожатым и переступает порог священного дворца.
В эту минуту он сделал первый шаг на том роковом наклонном пути, который приведет его к крушению; за этим горизонтом, скрытым от него дымом пожара, его ждут Святая Елена, ссылка, смерть!
Но там же его ждет и апофеоз!
Наполеон удаляется в Петровский дворец – причудливое сооружение из кирпича и камня, беспорядочное смешение архитектурных стилей Людовика XIV и Людовика XV.
Я видел этот дворец, направляясь в Новодевичий монастырь: он находится не более чем в пятистах шагах от виллы Нарышкина.
В Москве есть место, куда обязан совершить паломничество любой француз, перед тем как покинуть ее, – это кладбище для иноземцев.
Направляясь туда, он проедет по берегу Яузы: на этой речке царь Петр учился ремеслу моряка.
Оказавшись на кладбище, путешественник не станет с любопытством читать имена, начертанные крупными буквами, и пышные эпитафии; он будет искать среди этого поля мертвых самое уединенное место, и под зарослями ежевики, покрывающими холм, который напоминает холм Персов на равнине Марафона, обнаружит камень, на котором чья-то благочестивая рука нацарапала острием кинжала:
Французам, умершим во время и после оккупации.
Так не следует ли сегодня, когда прошло уже пятьдесят лет, сегодня, когда после грохота пушек 1814 и 1815 годов установилась тишина, преподать миру прекрасный пример: убрать заросли ежевики, покрывающие этот могильный холм, положить там надгробную мраморную плиту, обменять четыре французские пушки, стоящие у Кремля, на четыре пушки, захваченные в Севастополе, поручить Бари отлить из этих пушек мертвого льва, опустившего когти на разорванное знамя, призвать в Москву дюжину ветеранов русской армии, уцелевших в Бородине, дюжину ветеранов французской армии, уцелевших у Березины, и французам и русским, рука об руку, пойти и сотворить последнюю молитву на этой могиле, о существовании которой сегодня, возможно, знаю лишь я один и о которой, наверное, один я вспоминаю?
О пожаре Москвы исписаны тома.
Когда падение Наполеона позволило без всяких опасений клеветать на него, его обвинили в этом преступлении, но подобное обвинение нелепо, поскольку пожар опрокинул все его расчеты и разрушил все его надежды.
Голос истории устами французских писателей Сегюра и Гурго, а также русского автора г-на Бутурлина обвиняет в нем московского губернатора Ростопчина.
Ростопчин терпел это обвинение двенадцать лет, а по прошествии этого времени взялся за перо и в брошюре, написанной по-французски и озаглавленной "Правда о пожаре Москвы", снял с себя ответственность за это великое, но ужасное деяние и обвинил во всем случай.
Император Александр не одобрил пожара, но и не осудил его.
В 1814 году граф Ростопчин подал в отставку, и она была принята.
Молва утверждает, что граф Ростопчин был незаконнорожденным сыном Павла I, с которым, за исключением его более прямой осанки и более высокого роста, у него и правда имелось большое сходство; ум его – а граф слыл в Москве человеком остроумным – представлял собой странную смесь дерзости, насмешливости и пошлости.
Прокламация, которая была зачитана французам, арестованным по его приказу при подходе нашей армии и сосланным в Макарьев (я переписал эту прокламацию с оригинала, написанного его собственной рукой), дает представление о слоге этого человека. Вот она:
"Французы!
Ваш император сказал в воззвании к своей армии: "Французы! Вы столько раз уверяли меня в своей любви, докажите же мне это, последовав за мной в гиперборейские края, где царит зима и запустение и где властитель отворяет двери англичанам, нашим вечным врагам".
Французы!
Россия дала вам пристанище, а вы без конца замышляли против нее, и потому, дабы избежать смертоубийства и не запятнать страницы нашей истории подражанием сатанинским бешенствам вашей революции, правительству приходится выслать вас отсюда. Вы покидаете Европу, вы отправляетесь в Азию; вы будете жить среди гостеприимного народа, верного своим клятвам, который слишком вас презирает, чтобы причинить вам зло. Постарайтесь стать там добрыми подданными, ибо вам не удастся заразить там народ своими дурными принципами. Войдите в барку, которую я велел приготовить для вас, придите в себя и постарайтесь, чтобы барка эта не стала для вас лодкой Харона.








