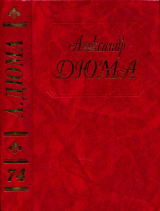
Текст книги "Путевые впечатления. В России. Часть вторая"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
До полуночи мы беседовали, оставаясь на палубе. В полночь мы выпили чаю, чтобы устранить тяжесть в желудке, ощущавшуюся после нашего обеда, и затем улеглись на скамьях: мои товарищи по путешествию завернулись в плащи, а я лег в чем был.
У меня выработалась превосходная привычка оставаться в одной и той же одежде днем и ночью, зимой и летом.
Около четырех часов утра я проснулся; судно, привыкшее, как почтовые лошади, следовать одним и тем же маршрутом, сориентировалось без помощи компаса и доставило нас прямо в Коневец.
Открыв глаза, я был вначале несколько озадачен, увидев в бледных северных сумерках, похожих на прозрачный туман, что поверхность озера усеивают какие-то черные точки. Этими черными точками оказались головы монахов, стоявших по шею в воде и тянувших руками огромную сеть.
Их было, по меньшей мере, человек шестьдесят.
Вопреки обыкновению русских ночей, в которых всегда остается что-то от зимы, эта ночь была удручающе жаркой и душной. Пароход стоял шагах в ста от берега, но капитан, непонятно почему, явно не спешил швартоваться. Ни слова никому не говоря, я разделся, сложил в уголке одежду и прыгнул через борт в озеро.
В свое время я купался на одном конце Европы, в Гвадалквивире, и теперь был не прочь искупаться на другом конце той же самой Европы, в Ладожском озере; две эти точки составляли вместе с заливом Дуарнене, где я тоже плавал, довольно занятный треугольник, и потому, задумав дополнить его до четырехугольника, я дал себе зарок: искупаться в Каспийском море, как только мне представится такая возможность.
Коневецкие монахи были весьма заинтригованы, увидев какого-то любознательного незнакомца, явившегося в костюме Адама до его грехопадения осматривать их улов.
Их сеть – огромный невод – заполняли тысячи мелких рыбешек, по размеру и форме напоминавших сардины; однако более всего я был восхищен тем, что к обоим концам полумесяца, который образовывала их сеть, были привязаны лошади, так что монахам оставалось лишь забросить невод и удерживать его: лошадям же приходилось выполнять все остальное, то есть самую тяжелую часть работы.
Такая изобретательность показалась мне заслуживающей всяческих похвал, и я попытался жестами выразить святым отцам свое восхищение увиденным.
Но, к несчастью, объясниться с ними было столь же трудно, как если бы я имел дело с жителями острова Чатем или полуострова Банкс.
Сделав последнее усилие, я попытался заговорить с ними на латыни, но это имело такой же результат, как если бы я обратился к ним на языке ирокезов.
Нет более невежественных людей, чем русское духовенство – и черное, и белое.
Оно делится на священников и монахов, поэтому я и говорю о черном и белом духовенстве.
Священники все либо сыновья крестьян, либо сыновья священников; им дано право жениться только один раз; они не могут вступать в повторный брак, но могут сделаться монахами и стать епископами: епископом может быть лишь тот, кто побывал монахом.
Священник получает жалованье, размер которого зависит от значимости прихода. Начальное образование он получает в школе, именуемой приходским училищем; уроки детям там дают сельские священники, а так как сами они ничего не знают, то и научить ничему не могут; в виде исключения кое-кто из этих учителей умеет читать, писать и знает четыре арифметических действия; самые образованные знают священную историю, которую они пересказывают и истолковывают.
Будущий пастырь переходит из этой школы в семинарию; там его снова учат тому, что он уже выучил в школе, а затем грамматике и логике.
Ну и, конечно, его учат браниться.
В этом отношении русский священник может служить примером французскому носильщику, немецкому барышнику и английскому боксеру.
Нравы у священников постыдные: кто говорит "семинарист", подразумевает "дурак" или "разбойник".
Те из семинаристов, кто более счастливо одарен природой или же лицемернее других, переходят в духовные академии и, как только их познания хоть чуточку превысят общий уровень, получают шанс стать епископами.
Эти епископы, как ученые, так и нет, отличаются необыкновенной грубостью.
Митрополит Серафим попросил орденский крест для одного из своих секретарей-архидиаконов. Вместо креста ему предложили благословение Святейшего Синода.
– На кой хрен мне ваше благословение? – ответил он. – Подтереться им, что ли?
Да будет вам известно, что он же, будучи еще только епископом, выгнал из церкви священника, не выказавшего ему должного уважения, и кричал при этом:
– Вон отсюда, или я разобью тебе рожу своим епископским посохом!
Возможно, картина получилась несколько грубоватой, но это на совести тех, кто растирал краски.
В русской церковной иерархии есть пять ступеней, включая туда и пономаря:
дьячок – пономарь, не ставший еще священником;
диакон – помощник священника;
иерей – священник;
архиерей – епископ;
митрополит – архиепископ.
Первые две ступени – диакон и священник – называются белым духовенством. Они обязательно должны быть женаты, и диакон почти всегда наследует место какого-нибудь престарелого священника, на дочери которого он женится.
Затем идет черное духовенство. Это монахи. Они не женятся, и именно в их среде царит самый постыдный разврат и происходят самые чудовищные соития.
Впрочем, в православном духовенстве нет ни капуцинов, ни августинцев, ни бенедиктинцев, ни доминиканцев, ни босоногих или обутых кармелитов; нет серых, белых, синих, коричневых или черных облачений, которыми пестрят улицы Неаполя или Палермо.
Есть только черные монахи, которые носят длинную бороду, на голове у них что-то вроде кивера без козырька, с ниспадающим сзади куском материи, а в руке – длинный посох.
Является ли посох частью монашеского облачения? Мне это неизвестно, но я склонен так думать, поскольку мне никогда не приходилось видеть монаха без посоха.
Женщины, епископы и архиепископы носят один и тот же головной убор, однако у епископов и архиепископов он белый.
Священнослужители, а в особенности монахи, почти всегда порочны, но порочность их редко доходит до преступлений, наказуемых по закону.
Все они без исключения пьяницы и чревоугодники.
Монахини обычно благонравны.
Приходские священники, особенно в деревнях, настолько невежественны, что это представить себе невозможно.
Один епископ, проверяя свои приходы и проезжая через какую-то деревню, заходит в церковь, где идет служба, длящаяся, по крайней мере, полтора часа. Он с величайшим вниманием слушает, что говорит священник, а тот, заметив его присутствие, начинает с удвоенным пылом елейно бормотать.
По окончании службы епископ подходит к священнику.
– Что за чертовщину ты тут нес? – спрашивает он его.
– Что поделаешь! – отвечает священник. – Я старался как мог.
– Так ты старался?
– Да.
– Скажи-ка, а знаешь ли ты церковный язык?
(Старославянский язык похож на сербский.)
– Очень плохо.
– Ну и в таком случае, что за службу ты сейчас читал?
– Гм! Это была вовсе не служба.
– Так что же это тогда было?
– Я читал то "Отче наш", то "Богородице Дево, радуйся", то молебны и, со всеми этими выкрутасами, как видите, добрался до конца.
Во время одного из своих путешествий император Александр I остановился у священника какого-то захудалого сельского прихода. Священника не было дома, и на глаза императору попался толстый том, брошенный в угол и покрытый пылью: это была Библия. Император засовывает между страницами три тысячи рублей и кладет том на прежнее место.
Возвращается священник. Между ним и императором завязывается беседа.
– Часто ли вы читаете Евангелие? – спрашивает император.
– Каждый день.
– И никогда не пропускаете?
– Никогда, государь.
– С чем вас и поздравляю, – говорит император, – это полезное чтение.
Два года спустя он снова проезжает через ту же деревню, заходит к тому же священнику, видит на том же месте Библию, открывает ее и находит там свои деньги.
– Теперь видишь, как ты читаешь Евангелие, скотина! – восклицает он, подсовывая под нос священнику Библию и деньги.
И на глазах у изумленного священника император кладет деньги себе в карман.
Все в России знают о невежестве и испорченности православных священников, все их презирают и при этом все оказывают им знаки уважения и целуют руку.
После того, как на глазах у меня сеть была вытащена, улов погружен в корзины и рыбаки вместе с лошадьми направились к другому месту, я снова залез в воду, доплыл до судна и имел счастье обнаружить свою одежду в том же уголке, куда я ее спрятал.
Пришло время швартоваться. На вдающийся в озеро мол опустили широкие мостки, и мы сошли на сушу.
Из-за более чем скудного обеда, который был у нас накануне, и моего утреннего купания у меня разыгрался страшный аппетит.
Мы двинулись к монастырскому постоялому двору: всякий хоть сколько-нибудь известный монастырь имеет свой постоялый двор, где останавливаются паломники и паломницы.
Нам приготовили завтрак, в котором все было несъедобно, кроме рыбы, только что пойманной у меня на глазах.
Черный, сырой в середине хлеб, который я уже видел в доме у графа Кушелева, где его подавали на стол как пирожное, вызывал у меня непреодолимое отвращение.
Я позавтракал огурцами, выдержанными в соленой воде (еда ужасающая для французского нёба, но весьма вкусная для русского), корочкой хлеба, рыбешками и чаем.
Благодаря чаю все как-то обошлось.
После завтрака мы поинтересовались, что нам стоило бы осмотреть на острове.
Как главную цель прогулки нам назвали Конь-камень.
Такое название указывало на какое-то предание и, следовательно, вызывало у меня интерес. Мы взяли провожатого и двинулись в путь, пройдя через небольшое монастырское кладбище, где надгробные камни были наполовину скрыты травами и полевыми цветами; травами этими были, главным образом, vaccinium myrtillus, hieracium auricula, solidago virguarea, achillea millefollium[9], а над всем этим возвышались кусты лесной малины. Весной – если предположить, что в Финляндии бывает весна, – посреди всей этой дикой растительности во множестве цветут фиалки, а к концу июня появляется земляника.
Что касается деревьев, из которых состоят леса Коневца и Валаама – двух самых лесистых островов на озере, – то это сосны, березы, тополя, осины, платаны, клены и рябины.
Выйдя с кладбища, мы пошли по аллее, не лишенной некоторой величественности. В начале ее стоит большой православный крест, принятый нами за серебряный, настолько он блестел под лучами солнца. Приблизившись к нему, мы поняли, что он был всего-навсего жестяной.
Крест этот возвышается над могилой, на которой можно прочесть следующую надпись:
Помяни меня, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.
Князь Николай Иванович Манвелов.
Родился в 1780 году, а скончался в 1856 году, 3 мая.
На небольшом пригорке виднеется церковь и очаровательные прогалины на дороге, подернутые голубоватой дымкой, которую я нигде больше не видел и глядя на которую понимаешь, откуда происходит мечтательность, присущая финской поэзии. Слева простиралось хлебное поле с бледными-бледными васильками. Справа, со стороны скошенного луга, поднимался сладостный запах сена, который доставляет такую радость тем, кто вырос в деревне и в детстве вдыхал эти терпкие ароматы.
Мы свернули налево и, пройдя через хлебное поле, снова оказались в лесу. Внезапно, примерно через версту, почва словно стала уходить у нас из-под ног: облик местности совершенно переменился. Ничего подобного в России я еще не видел. Мне почудилось, будто я перенесся в Швейцарию.
Мы стали искать место, где можно было бы спуститься в эту лощину, наполненную прохладной дымкой и прозрачными тенями, как вдруг наш провожатый указал нам деревянную лестницу из ста ступеней; мы спустились по ней и оказались на дне прелестной долины, изобразить которую неспособны ни перо, ни кисть. Деревья, тянувшиеся к солнечному свету, росли здесь прямыми и крепкими, как колонны в храме, сводами которого служила листва. Солнечные лучи, проникая через этот свод и рассеиваясь, падали вниз золотым дождем, и то здесь, то там отбрасывали на стволы деревьев и на землю отсветы, напоминавшие жидкое, струящееся пламя, тогда как в глубине долины голубовато-молочный воздух походил на атмосферу Лазурного грота.
Посредине этой долины возвышается огромная скала, на вершине которой построена небольшая часовня, посвященная святому Арсению.
По поводу Конь-камня и святого Арсения мы смогли вытянуть из нашего провожатого лишь следующее: камень был назван Конем потому, что в древности, до своего обращения в христианство, финны приносили здесь в жертву лошадей. Что же касается святого Арсения, то нам удалось выяснить только одно – он принял мученическую смерть.
Будь у меня достаточно смелости, чтобы поделиться своим мнением по поводу того, какого рода было это мученичество, то я сказал бы, что, если оно происходило там, где стоит часовня, святого Арсения должны были сожрать комары.
Нигде в мире я не видел таких туч этих ужасных насекомых. Мы и на мгновение не могли остановиться, иначе нас буквально облепляли комары; когда же мы шли, над каждым вилось отдельное облако, походившее на собственный воздушный купол.
У Муане, тем не менее, хватило мужества сделать зарисовку, в то время как Миллелотти и Дандре стояли над ним, держа в руках березовые ветки, и обмахивали его, словно китайского мандарина, прерывая это занятие лишь для того, чтобы отогнать комаров от самих себя.
Что касается меня, то после первых же комариных атак я поспешил отступить к лестнице и стал взбираться на более высокое место. По мере того как я поднимался вверх, комары отставали от меня.
Стоило мне оказаться на солнце, как я избавился от них полностью; через несколько минут ко мне присоединились мои спутники, и мы двинулись обратно к монастырю.
Меня всегда упрекают, что во время своих путешествий я вижу лишь живописную сторону мест, которые мне случается посещать. Что ж, я старею, и мне пора исправиться: займемся немного геологией, будем скучны, но зато примем ученый вид.
Почти все острова здесь – а лучше сказать, все острова, прилегающие к южному берегу Ладоги, – образованы осадочными породами вперемешку с вулканическими; те же, что прилегают к противоположным берегам, то есть к западному и северному, имеют магматическое происхождение.
Остров Коневец, находящийся на полпути между северной и южной оконечностью озера, состоит исключительно из отложений и указывает на крайнюю границу осадочных пород.
В окружности Коневец имеет четырнадцать верст.
Поскольку судно стояло тут целый день, чтобы дать паломникам время совершить богомолье, у нас было время не только осмотреть остров, но и, взяв лодку и ружья, попробовать поохотиться.
Не помню уже, у какого автора я читал, что вокруг этого острова водится самая мелкая разновидность тюленей, которые настолько непугливы, что их можно убить палкой.
Так как у меня нет абсолютного доверия к тому, что мне приходится читать, я вместо палки взял с собой ружье, которое, впрочем, мне не пригодилось, как не пригодилась бы и палка. Мы увидели несколько тюленей – толстых, как коты, и черных, как бобры; но, едва разглядев нас своими большими вытаращенными глазами, они поспешили скрыться под водой.
Ни один не дал приблизиться к нему на ружейный выстрел. (Это к сведению тех, кто захочет пострелять тюленей на Ладожском озере.)
Мы вернулись к пяти часам и пообедали примерно так же, как и позавтракали. Но зато я мог позволить себе прихоть искупаться в восемь часов вечера, настолько приятное воспоминание оставило у меня утреннее купание.
В доме графа Кушелева мне довелось впервые испробовать русские постели. И я решил тогда, что жестче постелей, чем у графа Кушелева, не бывает, но в Коневце мне стало ясно, что я ошибся: постели Коневца взяли вверх над теми, что были во дворце Безбородко.
И потому я заявил, что жестче постелей, чем в Коневце, на свете нет, и искренне верил в это утверждение.
Эту последнюю иллюзию мне суждено было утратить в киргизских степях.
XLVIII. ВЫНУЖДЕННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ВАЛААМ
Наш пароход отчалил в десять часов утра, увозя с собой сотню паломников и паломниц, которые, совершив богомолье в Коневецкий монастырь, отправлялись на богомолье в монастырь на Валааме.
Невозможно вообразить ничего безобразнее этих паломников и этих паломниц, принадлежащих к низшему разряду простого народа, если предположить, что в России есть народ. Вряд ли существует какая-нибудь заметная разница между богомолами и богомолками: лишь отсутствие бороды у женщин позволяет отличить их от мужчин. Одежды, а вернее сказать, лохмотья, у тех и других почти одинаковы. И мужчины, и женщины держат в руке посох, а на спине носят изорванную котомку.
Разумеется, все они без конца чешутся самым отвратительным образом, приводя этим в ужас тех, кто такой потребности не испытывает.
К счастью, те, кто усердствовал в этом занятии более всего, скоро забыли о нем и занялись другим делом, более красочным.
Мы проделали не более четырех или пяти миль, как вдруг все вокруг заволокло таким туманом, что стало абсолютно невозможно разглядеть друг друга.
Посреди этого тумана загрохотал гром, и озеро забурлило, словно вода в котле, поставленном на горящие угли.
Казалось, гроза зародилась не в воздухе, а в самых глубинах бездонного озера, которое словно нехотя поддерживало нас на своей поверхности.
Можно представить, в каком состоянии пребывал наш компас, если накануне он вышел из строя при совершенно спокойной погоде.
А потому наш капитан даже и не пытался свериться с ним. Ощутив ярость разбушевавшихся волн, он, вместо того чтобы отдавать распоряжения, которые должны были предотвратить опасность, если она существовала, принялся бегать с одного конца судна на другой, крича:
– Мы погибли!
Услышав из уст капитана этот вопль отчаяния, паломники и паломницы повалились ничком и, стуча лбом о дощатый настил, стали кричать:
– Господи, смилуйся над нами!
Лишь Дандре, Муане, Миллелотти и я остались на ногах, хотя Миллелотти, будучи римлянином, испытывал горячее желание последовать примеру остальных.
Туман все сгущался; гром гремел с ужасающим грохотом; молнии, в которых было нечто жуткое, угасали в этом густом тумане; озеро продолжало штормить, но проявлялось это не в буйстве волн, а в клокотании, исходящем из глубины вод.
Я видел за свою жизнь пять или шесть бурь, но ни одна из них не была похожа на эту. Возможно, это старый Вяйнямёйнен перебрался с океана на Ладогу.
Ни о какой остановке нельзя было и помыслить: судно шло само по себе и куда хотело.
Наконец, поскольку и через два часа обстановка оставалась почти такой же, капитану пришло в голову послать на верх мачты двух матросов в качестве наблюдателей, чтобы можно было воспользоваться первым же просветом на небе.
Матросы не пробыли там и десяти минут, как послышался такой грохот, будто рядом галопом промчался кавалерийский отряд: это поднялся ветер.
Один его порыв изорвал, развеял и унес прочь пелену тумана.
Открылось озеро, белое от пены, но видимое до самых дальних своих горизонтов. Матросы на мачте прокричали:
– Земля!
Все ринулись в носовую часть. Капитан понятия не имел, где мы находимся, но один старый матрос заявил, что он узнает Валаам.
Судно взяло курс на остров.
Примерно в полутора милях от главного острова находится небольшой островок, на котором видны развалины; эта скала называется Монашенским островом.
Так как женская обитель, существовавшая прежде на Валааме, располагалась в близком соседстве с мужским монастырем, что не раз становилось причиной шумных скандалов, Святейший Синод своим указом постановил, что эта обитель будет переведена на островок, лежащий теперь перед нами, и, поскольку новых монахинь в общину принимать не будут, она угаснет там сама собой.
И вот на скале построили монастырь; туда перевезли десятка три монахинь, и там, как и было предусмотрено указом, они угасли одна за другой.
Затем настала очередь монастыря, и, точно так же, как из его общины выпадали одна за другой монахини, уходя из жизни, из его здания, разрушаемого с фундамента волнами, а с кровли – ураганами, выпадали один за другим камни. В итоге от него остались лишь бесформенные развалины и предание, которое я только что рассказал.
Между тем мы шли довольно быстро и уже стали различать нечто вроде пролива, по которому проникают в глубь острова.
Вскоре на самом дальнем его мысу, который по мере нашего приближения словно двигался нам навстречу, мы разглядели небольшую церковь, сплошь из золота и серебра и такую сияющую, будто ее только что вынули из бархатного футляра. Она высилась среди деревьев, на газоне, который способен был посрамить газоны Брайтона и Гайд-парка.
Эта церковь, настоящая жемчужина и как произведение искусства, и по богатству отделки, построена лучшим, на мой взгляд, архитектором России – Горностаевым.
Мы проплыли почти у подножия церкви; по мере приближения к ней нам открывались детали, исполненные с восхитительным вкусом; и, странное дело, золото и серебро, хотя и использованные в изобилии, были распределены так умело, что они ничуть не вредили изумительному стилю этого маленького архитектурного шедевра.
Со времени моего приезда в Россию то было первое здание, которое меня полностью удовлетворяло.
Впрочем, русская церковь в Рульском предместье несколько напоминает это очаровательное сооружение, но в ней нет такой легкости.
Мы вошли в пролив, который вначале настолько узок, что с борта судна можно почти что дотянуться до прибрежных деревьев, но затем внезапно расширяется и превращается в залив, усеянный островками, полный тени и прохлады.
Мне подумалось, что эти небольшие массивы зелени должны казаться уменьшенными копиями островов Океании.
Мы обогнули островки и слева, на горе, увидели огромный Валаамский монастырь – внушительное здание, не отличающееся особыми архитектурными достоинствами, но, тем не менее, производящее впечатление своей грандиозностью.
К монастырю поднимаются по гигантской лестнице, широкой, как лестница Версальской оранжереи, но в три раза выше.
По этой лестнице двигалось вверх и вниз столько людей, что мне почудилось, будто я вижу наяву ту лестницу, которую Иакову было дано увидеть лишь во сне.
Едва судно остановилось, мы спрыгнули на берег и поспешили смешаться с поднимавшейся наверх толпой.
Нас не раз уверяли, что здешний настоятель – человек просвещенный, и потому мы решились нанести ему визит вежливости.
Нас принял молодой послушник, длинноволосый, бледный, с тонкими чертами лица. Мы заметили его еще издали: он стоял прислонясь к двери, в позе, исполненной печали и изящества. С первого же взгляда он произвел на нас четверых одинаковое впечатление. На расстоянии двадцати шагов мы еще готовы были побиться об заклад, что это женщина.
Переговорив с ним, мы так и не поняли, кто перед нами.
Он взял на себя труд доложить настоятелю о нашем визите.
Я назвал послушнику свое имя, не очень надеясь на то, что его отзвук когда-нибудь доходил до острова, затерянного среди вод Ладожского озера.
Несколько минут спустя послушник вернулся и предложил нам войти.
К моему великому удивлению, настоятель дал понять, что он осведомлен обо мне. Он говорил со мной о "Мушкетерах" и "Монте-Кристо", но не как человек, прочитавший эти книги, а как тот, кто слышал похвальные отзывы о них от людей, которые их читали.
После пятиминутной беседы нам подали угощение, состоявшее из фруктов и чая; затем настоятель предложил нам осмотреть монастырь и нашим проводником назначил молодого послушника.
Никто не знает, когда был основан Валаамский монастырь, и, хотя один из монахов, торгующий православными крестиками и иконками святых, продает также брошюрку о монастыре, написана она так невразумительно, что почерпнуть из нее какие-либо сведения невозможно. Однако вне всякого сомнения, в XIV веке монастырь уже существовал.
Одно из преданий рассказывает, что, после того как на глазах у шведского короля Магнуса его войско было в 1349 году наголову разбито новгородцами, он пустился в плавание по Ладожскому озеру, но был застигнут бурей, и, когда в виду острова Валаам его судно стало тонуть, король дал обет, что если ему удастся добраться до берега, то он посвятит себя служению Господу.
Корабль пошел ко дну, но Магнус добрался до берега, ухватившись за какую-то доску; он сдержал свое слово, и таким образом был основан монастырь.
В монастыре нет ничего, что представляло бы интерес с точки зрения искусства или науки: нет ни живописи, ни библиотеки, нет ни письменной, ни устной истории; жизнь здесь течет в своей будничности и монашеской убогости.
По возвращении нас ждал настоятель. Поскольку наше судно должно было простоять на якоре весь следующий день и отплыть лишь к вечеру, настоятель осведомился, чем мы намерены заняться.
Мы попросили у него позволения познакомиться с островом и пострелять кроликов – дичь, об изобилии которой сообщал автор, предоставивший мне сведения о тюленях.
Нам было разрешено и то, и другое; мало того, настоятель добавил, что мы можем не затруднять себя поисками лодки: он предоставит в наше распоряжение свою собственную.
Я имел нескромность спросить, не позволит ли он своему послушнику отправиться вместе с нами, чтобы юноша развлекся; но на этот раз мы зашли слишком далеко, и, хотя молодой человек, казалось, с беспокойством ждал ответа, в этой милости нам было отказано.
Лицо юного послушника, на миг оживившееся, приняло свое обычное печальное выражение, и на этом все кончилось.
Вернувшись в монастырскую гостиницу, мы узнали, что настоятель прислал нам рыбу, салат, овощи, черный хлеб и громадную бутыль кваса.
Мы попросили показать то, что нам прислали; рыба оказалась великолепна: это были судаки, окуни, сиги и налимы.
Бутыль с квасом была литров на двадцать.
Хлебный каравай весил сорок фунтов.
Его решено было во что бы то ни стало доставить нетронутым графине Кушелевой, которая ежедневно съедала за обедом тоненький ломтик черного хлеба, так ч. о этого каравая ей определенно должно было хватить до самой глубокой старости!
Располагая главными составляющими для приготовления превосходного обеда и имея возможность добавить к ним яйца и цыплят, я заявил, что не позволю какому-нибудь русскому повару, к тому же монаху, что является отягчающим обстоятельством, прикоснуться к подобным сокровищам.
И поистине, то были сокровища, при виде которых пришли бы в восторг даже Лукулл и Камбасерес! Размер рыб, как известно, напрямую зависит от величины водоема, в котором они обитают; соответственно, в таком озере, как Ладога, имеющем сто шестьдесят льё в окружности, рыбы достигают гигантского размера.
Чтобы дать представление о них, скажу, что такая известная во Франции рыба, как окунь, была в полтора фута длиной и весила более восьми фунтов.
Дандре, единственный из нас, говоривший по-русски и потому способный установить взаимоотношения между мной и местными жителями, был возведен в ранг поваренка; он велел ощипать цыплят, не позволив опускать их в воду, и помешал монастырскому повару, настроенному отстаивать преимущества русской кухни, положить муку в мой омлет, пока я отвернулся.
Дандре, с благодарностью вспоминавший обеды на улице Риволи, признался, что, с тех пор как он покинул Париж, ему впервые довелось пообедать как следует.
Я смог улучшить обед, но не в моих силах было сделать мягче постели; чем набивают в России тюфяки, оставалось для меня тайной на протяжении всех девяти месяцев, проведенных мною в этой стране. У нас есть выражение – спать на персиковых косточках, но, когда речь идет о здешних тюфяках, это сравнение, на мой взгляд, явно слабовато.
Мы попросили подать нам лодку в шесть утра, но при первых же лучах солнца я соскочил со своего дивана. Поскольку в России не имеют понятия о простынях и спят не раздеваясь, на туалет много времени тратить не приходится.
Не сомневаясь, что мои спутники разыщут меня в любом случае, я спустился по лестнице Иакова и сел под купой деревьев, чтобы под сенью этих прекрасных лесов следить за тем, как утренние сумерки незаметно сменяются в синеватом воздухе дневным светом.
В противоположность южным краям, где ночь наступает внезапно, а рассвет – это огненная вспышка, в одно мгновение воспламеняющая весь горизонт, в северных странах приход и уход дня сопровождает целая гамма оттенков, необычайно живописных и невыразимо гармоничных; когда же речь идет об островах, то к этому следует прибавить особую поэтичность, которую придает им та невидимая дымка, что поднимается с поверхности воды и волшебной пеленой накрывает их, смягчая слишком яркие краски и наделяя природу тем очарованием, каким искусство наделяет живописное полотно. Позднее я повсюду искал те присущие финским сумеркам нежные оттенки, что сохранились в моей памяти, но нигде больше таких не встречал.
Иными словами, я целый час промечтал под купой деревьев, не замечая, как течет время.
В шесть часов ко мне подошли мои спутники. Я попытался разъяснить Муане, как много он, художник, потерял, но у Муане был на Россию зуб, мешавший ему беспристрастно восхищаться ее красотами: еще в июне Муане подцепил под огромными деревьями парка Безбородко простуду. Эта простуда перешла затем в лихорадку, и при малейшем дуновении свежего ветерка его пробирал озноб.
Нас уже ожидала лодка с четырьмя гребцами. Одна из монашеских добродетелей – это пунктуальность. В монастырях дисциплина еще суровее, возможно, чем в армии. Вледствие этого всегда можно рассчитывать если и не на сообразительность монаха, то хотя бы на его пунктуальность.
Мы попытались расспросить гребцов о каких-либо преданиях, бытующих на острове, но нам не удалось вытянуть из них и двух слов; тогда мы удовлетворились разговором о материальной стороне монашеской жизни и узнали едва ли не все, что нас интересовало.
Монахи ложатся спать в девять часов вечера, встают в пять утра, трапезничают два раза в день рыбой и овощами; мясо едят редко, только по праздникам; всю физическую работу выполняют сами, не прибегая к помощи работников извне. У каждого свое ремесло: один портняжит, другой сапожничает, третий плотничает; даже лодка, в которой мы совершали наше плавание, была сделана самими монахами.
Вначале мы осмотрели небольшой залив, который вдается в центральную часть острова Валаам, в самые таинственные его глубины. Нет ничего прелестнее этих крохотных бухт, в воды которых деревья окунают концы своих могучих ветвей: короткое, но буйное русское лето дарит этим ветвям крепость и жизненные силы, поддерживаемые той влагой, какая омывает корни деревьев, и теми испарениями, какие увлажняют их листья.








